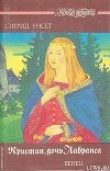Текст книги "В свете старого софита"
Автор книги: Мария Романушко
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Впоследствии имя Коллонтай я часто слышала в доме Дюшенов, как будто Коллонтай была членом этой семьи и реально жила в комнате у молчаливой бабушки. Все в семье с уважением относились к бабушкиному революционному прошлому. И при этом в доме царил дух весёлого свободомыслия. Впрочем, наверное, революционный дух и дух диссидентства никак не противоречат друг другу. Все революции совершались диссидентами.
В этом доме был культ литературы, кино и театра. Здесь можно было говорить о Сахарове и Солженицыне. Здесь обожали Высоцкого. Здесь на книжных полках стояло американское издание запрещённого тогда Гумилёва. Здесь обожали пьесы Беккета и Ионеско. Здесь обожали любимовский Театр на Таганке, горячо обсуждали все их спектакли, как-то по-особенному, по-родственному, ведь большинство актёров этого театра были учениками Игоря Борисовича. Он преподавал зарубежную литературу в ГИТИСе – театральном институте, рассаднике свободомыслия. Театр на Таганке – это были его ученики, с некоторыми он дружил, и дочки его дружили тоже. Особенно с Зинаидой Славиной.
О дочках-погодках Игорь Борисович говорил как-то удивительно мягко, нежно: «Девочки». Так он их будет называть и через двадцать, и через тридцать лет: «Девочки». Он смотрел на них с обожанием и постоянным интересом: ему с ними было ИНТЕРЕСНО! Здесь никто никого не воспитывал, не поучал – здесь просто жили общей жизнью. Здесь к дочкам и к их подругам относились, как к равным. И общались на равных. Потрясающая атмосфера дружбы, душевного тепла, человеческого равноправия (не зря за него боролась старая бабушка, по крайней мере, в её собственном доме это равноправие торжествовало).
Мне всё это было дивно и радостно. Я сразу влюбилась во всю Наташину семью…
* * *
К нам на курс приходил Александр Аронов, бывший ученик Игоря Борисовича. Саша – поэт и журналист. Он рассказывал нам о своём любимом поэте – Давиде Самойлове, у которого в те дни вышла первая книга. Она называлась – «Дни».
Пришли слушать Аронова только мы – шестеро. Наша галёрка.
Саша рассказывал и читал самойловские стихи прекрасно, прямо дух захватывало. Две строчки застряли в мозгу на всю жизнь, как мандельштамовский «рожок почтальона»:
А эту зиму звали Анна.
Она была прекрасней всех…
Потом Саша говорил Игорю Борисовичу: «Конечно, не ожидал, что так мало народу придёт. Всё-таки Самойлов! И вдруг – пустой зал… Но эти шестеро девчонок слушали меня так, как никто меня ещё не слушал…»
* * *
Порой я приезжала к Дюшенам и часами сидела у них, никого не отвлекая от их дел.
Сидела и переписывала любимые стихи – Гумилёва и Ахматовой, Цветаевой и Мандельштама. Это было истинное блаженство. Я как будто пила воду из чистого источника. И никак не могла утолить жажду…
* * *
За окнами аудитории – снег, снег… мягкий, пушистый…
Ранняя зима в этом году. Светлая, снежная, сменившая мрачную осень…
«Томбэ ля нэжэ…» – поёт Сальваторе Адамо своим волшебным голосом. Поёт по вечерам в комнатке у Лянь-Кунь в Марьиной Роще, но потом продолжает звучать во мне сутками напролёт… просто не выходит из моей головы…
Поёт и в эту минуту, когда я пишу эти строки…
* * *
«ЗАВИСТЬ». Небольшой рассказ, объёмом с тонкую школьную тетрадку.
Я написала его той самой осенью шестьдесят девятого года, на лекциях в Полиграфическом институте, на полутёмной галёрке…
Рассказ о цирке у моря, о грустном чудесном Клоуне и о девочке, для которой встреча с Клоуном и знакомство с ним оказались чрезвычайно важными.
Герберы – так назывались цветы, которые героиня рассказа подарила Клоуну.
Но оказалось, что я – большая трусиха. Описать лучший эпизод моей жизни от первого лица я не решилась. Тогда, в девятнадцать лет. И назвать героев реальными именами я тоже не решилась. Я испугалась, что это будет что-то вроде мемуаров. Или документального очерка. А я этого не хотела.
Хотелось, чтобы был именно рассказ. Поэтому мою героиню зовут Ксанка, а клоуна – Юрий Забаров. Я долго придумывала им имена и остановилась почему-то на этих.
Героиня (эта самая Ксанка), опустошенная неразделённой любовью (в рассказе не уточняется, к кому именно), впадает в тоску. Друзья, чтобы как-то развеселись её, вытаскивают Ксанку в цирк. И тут она видит удивительного клоуна… Молчаливого, не говорящего в манеже ни слова. Но Ксанке кажется, что она слышит музыку. Музыку – в каждом его жесте, движении, в каждом взгляде… Ксанкину душу наполняет ответная музыка. А ещё благодарность и – зависть. Зависть к этому человеку, который, как ей кажется, бесконечно счастлив. А иначе он бы не смог сделать счастливыми других. И её, Ксанку. Ведь она стала видеть мир совсем по-иному. И понимать то, чего раньше не понимала…
И тут в рассказе появляюсь я (но безымянная) – в роли Ксанкиной подруги. И именно мне Ксанка рассказывает о потрясающем клоуне. О том, что он воскресил её душу. О том, что ей опять захотелось жить.
А потом Ксанка встречает клоуна на улице, у них происходит разговор, клоун читает ей свои стихи, и Ксанка понимает, что клоун, подаривший ей музыку, грустен и одинок – так же, как она…
Вот такой получился рассказ. На нашей галёрке его одобрили.
Семененко спрашивает:
– А почему ты дала ему другое имя? И себе тоже.
– Потому что это рассказ, а не мемуары. Художественное переосмысление случившегося.
– Романушка, ты не думала о том, что ты являешься основателем особого течения в искусствоведении?
– Какого течения?
– Енгибароведения!
После чего она спросила:
– А ты не хочешь послать ему?
– Я ведь не знаю его адреса. Это – во-первых. А во-вторых – страшно…
– Почему?
– Вдруг не понравится?…
– Во-первых, не понравиться не может. Потому что рассказ хороший. А каждому артисту интересно знать, как зритель воспринимает его творчество. Это же очень важно – ответная реакция зрителей. Ради этого артист и работает, собственно говоря. А насчёт адреса… Думаю, послать можно просто на адрес московского цирка. Уверена, что ему передадут.
…Но прошла зима, а я так и не решилась отослать свой рассказ адресату.
* * *
Прочтя рассказ, Дюшен задумчиво спросила:
– Романуш, а ты сама никогда не хотела быть клоуном?
– Я?! клоуном?!
– Ну, да. В тебе есть что-то клоунское.
– Но ведь это мужская профессия…
– А ты была бы первой женщиной-клоуном! Уж если женщина в космос летает, неужели она не может выйти в цирковой манеж?
Меня её слова ошеломили. Испугали. И… обрадовали! Внутри меня как будто открылся ларчик с секретом, который был заперт даже от меня самой. И вот, благодаря одному вопросу: «А не хотела бы ты сама быть клоуном?» – тайное стало явным.
Да, я мечтала о цирке с трёх лет. С первого похода в цирк. Но эти мечты были не столько мечты, сколько сожаления: «Ах, почему мои родители не циркачи?…» А если бы мои родители были циркачами, я бы стала, скорее всего, воздушной гимнасткой. Или наездницей. О клоунаде я не помышляла. И вот, Дюшен взбаламутила всю мою душу…
С того ноябрьского дня (а это было, судя по дневниковым записям моё заветное число, когда в моей жизни происходят самые значительные события – тринадцатое), так вот с того дня я больше не знала покоя. Чем бы я ни занималась, я при этом постоянно размышляла на волнующую меня тему: в каком бы образе я выступала, если бы решилась выйти в манеж? Рискнула бы выйти в женском облике? или спряталась бы за маской мужчины? Говорила бы в манеже – или, как Енгибаров, молчала? Была бы весёлым клоуном – или грустным?… Красный нос, рыжий парик, смешные башмаки – нужно ли это мне? Заходила в магазин ВТО, рассматривала парики, мысленно примеривала. На покупку денег не было. Или выйти просто так, брюки и свитерок, почти без косметики, как я есть в жизни, – наверное, это тоже было бы смешно… Или – грустно?…
А главное – ЗАЧЕМ я туда хочу выйти? О чём сказать миру?…
Мой будущий клоунский образ без конца обсуждался на нашей галёрке.
Семененко на лекциях постоянно рисовала. И однажды она нарисовала меня, как она меня видит: худющее существо с тоскливыми глазами, с копной волос, как у клоуна, обхватив колени руками, сидит на крошечной льдине… которую несёт неведомо куда… А вокруг – пустота. И – ни души.
Вот такая картинка. Ничего смешного. И ничего весёлого. Надо признать, Семененко хорошо почувствовала меня. Изнутри. На картинке действительно была я.
Приятно хандрить,
смотреть,
как стекают минуты,
дни
по мокрым карнизам…
Где-то внутри
и в кончиках пальцев –
боль,
уже привычная…
И если она
на миг оставляет меня –
при сильном порыве ветра
я зову её:
«Иди обратно!
вдвоём веселее…»
Она почти не мучит меня.
Она – добрая.
Всё понимает
и не мешает
хандрить…
Смотреть, как стекают дни
по мокрым карнизам…
* * *
…Я часто приезжала к Дюшенам на Комсомольский проспект.
…Приходила, прилетала, прибредала…
Этот дом стал мне по-настоящему родным. Мне всегда хотелось сюда – тянуло, притягивало, как магнитом. Как тянет замёрзшего человека к ОЧАГУ… За последние пятнадцать лет жизни я изголодалась по семейному теплу. В доме Дюшенов я нашла для себя то, чего мне не хватало в собственном доме. ТЕПЛО!!!
Здесь мне всегда были рады, сюда можно было прийти в любое время суток, даже без звонка, здесь не надо было скрывать свои истинные чувства, не надо было напяливать маску, здесь никто не упрекал меня, если я была в грусти, или даже в тоске, здесь человека принимали таким, какой он есть. И если о чём-то расспрашивали – то бережно, осторожно, без расковыривания ран. В этом доме царили тепло и душевный такт. Были (на кухне, за уютным круглым столом, за чаем) удивительно интересные разговоры с Игорем Борисовичем, он как бы взял надо мной культурное опекунство, но это не были поучения, это не был взгляд сверху вниз (преподаватель знаменитого вуза – и юная провинциалка!). Это было общение на равных, и именно поэтому все слова его так впитывались мной, засасывались, – и я никак не могла насытиться: теплом дружбы и вот этим чудесным чувством – равноправия в беседе, в споре. Да, я многого не знала, о многом не слышала в своей степи, из которой не так давно явилась сюда – и со мной щедро делились. Не стыдя за незнание. Не насмехаясь за пробелы. Не удивляясь высокомерно: «Как? ты не знаешь? Как? ты не слышала?» Игорь Борисович говорил просто: «Наташа, дай Романушке почитать Беккета». Или: «Дай Романушке Ионеско, ей будет интересно». Или: «Романушку нужно обязательно сводить на Таганку».
Со мной щедро делились, дарили, не требуя ничего взамен. И это не был акт благотворительности или интеллигентской жалости, унизительного сочувствия к «бедненькой девочке из степи» – нет! Дюшены относились ко мне как к человеку с другой планеты (просто с другой планеты, вот и всё): относились с интересом и бережностью, и горячим желанием показать красоту и богатство СВОЕЙ планеты.
Но у меня тоже была своя тема – Мой Клоун. И когда я говорила о нём, меня с интересом слушали. Я тоже могла открыть этим людям что-то, чего они ещё не знали. Мне тоже было чем поделиться.
В этой семье не было идиллии с обывательской точки зрения. У старой бабушки был непростой характер, она была аристократка-революционерка, и потому совершенно далека от мирских, бытовых проблем сегодняшнего дня. Она жила в своём мире. Даже не знаю, выходила ли она когда-нибудь из своей комнаты. Я, по крайней мере, бывая в этом доме достаточно часто, этого не видела. Я видела старую бабушку только, когда приоткрывалась дверь в её комнату. И ни разу с ней не общалась. Я её воспринимала, как живой исторический реликт. Хотя, как теперь понимаю, она не была такой уж старой в то время. Но она была из другой эпохи.
Нина Ивановна вздыхала устало: «От свекрови помощи никакой. А Игорь совершенно оторван от жизни! Он витает в облаках, живёт в своём мире. Для него существует только литература и театр – больше ничего!» На хрупкой, но удивительно сильной Нине Ивановне держался дом, а первой помощницей ей была старшая дочь Катя. И при этом Нина Ивановна обожала своего мужа. Её вздохи по поводу оторванности мужа от реальной жизни – это был не упрёк, а признание этого факта. Ведь за то Нина и полюбила Игоря Борисовича, участь когда-то в библиотечном институте, где Игорь Борисович в то время преподавал зарубежную литературу. Молоденькая студентка из Орехово-Зуева так страстно влюбилась в оторванного от реальной жизни преподавателя, что добилась-таки его взаимности. Они, Игорь Борисович и Нина Ивановна, были очень разные, но удивительно дополняли друг друга. У него главное качество – восторженность, увлечённость, погружение в предмет всей жизнью, у неё. – пленительная простота и естественность, мудрость и терпение. Но любовь к литературе – у них было общее, ведь именно из-за любви к литературе Нина и пошла в библиотечный институт. И потом много лет работала в школьной библиотеке, где учились её дочки – чтобы быть к ним поближе. Продолжала работать в школе и тогда, когда дочки выросли. Нина Ивановна с увлечением рассказывала, как она пытается пристрастить школьников к чтению, она была счастлива, когда ребёнок возвращал ей книгу с горящими глазами и просил ещё что-нибудь «такое же интересное». Она умела общаться с чужими детьми, как со своими – без нравоучений, просто, по-матерински.
Все студенты и студентки, приходящие на огонёк к любимому преподавателю, тут же и навсегда влюблялись в милую, приветливую Нину Ивановну. Конечно, именно Нина Ивановна была стержнем их семьи. А Игорь Борисович – ярким, сверкающим фейерверком… Но тепло исходило от них обоих – одинаково сильно и щедро. В этом они были удивительно похожи – две половинки: необыкновенный муж и мудрая жена.
* * *
Канун Нового 1970 года. Лютый холод. Приехала из Днепропетровска моя бабушка Дарья Лаврентьевна, которая соскучилась по нас. Ужаснулась холоду. Расстроилась, узнав, что я хочу уйти на новый год к подруге. В доме нет телефона, а единственный телефон в округе – тот, что у леса, – сломан, и у меня нет возможности сообщить Дюшен, что я не смогу приехать к ней на Новый год. Ну, ничего, их там будет много, утешаю я себя. Они, может, и не заметят, что меня нет…
Мороз чудовищный – ниже двадцати. Для меня, южанки, это сущая пытка. Моя вторая московская зима, а я всё никак не привыкну.
…Пока бегала к сломанному телефону-автомату и пока пыталась дозвониться, прижимая к уху льдину железной трубки, – чуть не окоченела. Но автомат зверски заглотнул все мои «двушки» – а Наташе я так и не дозвонилась. Гигантский город. А я стою в замороженной будке на краю заиндевелого леса и ощущение – как на необитаемом острове… Кричи – не кричи… никто тебя не услышит…
Фиолетовые липы.
Ревматический фонарь.
Девочки озябшей всхлипы…
Перекрёсток.
Дым.
Январь.
Астатических трамваев
скрежет, визг,
усталый крик…
«Двушка» жжётся, –
отрываю
прямо с кожей от руки.
В будке ни черта не видно,
набираю наугад
номер –
сумасшедшей льдиной
трубка-ухо-автомат…
«При несостоявшемся разговоре
положите трубку на рычаг
и получите назад
опущенную вами монету».
* * *
После Нового года, на первом экзамене, вижу странно-печальные, отчуждённые глаза Дюшен. Осторожно спрашиваю:
– Ну, как встретили Новый год?
– Встретила. Одна. Ведь НИКТО не пришёл. Напрасно родителей к родственникам отправила…
Сколько лет прошло с тех пор. А мне до сих пор грустно и стыдно, что так получилось. И больно, что Наташа в ту ночь была одна.
* * *
…Красное зарево… высокие столбы огня… чёрный пепел на белом снегу…
Это в нашем дворе сжигают деревеньку… милую, уютную деревеньку… её больше не будет – ни печных дымков, ни крика петухов, ни задумчивой коровы на ромашковом лугу…
Деревенька сгорела ярко и быстро, как спичной коробок, как ворох сухой соломы… Утром было страшно смотреть на это пепелище. Как будто через наш двор прокатилась война…
Говорят, в Японии одноэтажные домики спокойно живут рядом с небоскрёбами. Но то в Японии… Как это грустно: в войну эта деревушка уцелела, хотя немцы были совсем близко отсюда, а в мирное время её предали огню… За что?! Кому она мешала? Почему нельзя жить всем рядом? Ведь было мило и хорошо. Так ведь ничего и не останется от прежней жизни…
Неужели и мой дом детства на Философской улице будет когда-нибудь предан огню?… Моя любимая деревянная веранда, певучие ступени, наше окошко, в которое заглядывали кофейные горлицы?…
Говорят, через это пепелище пройдёт наша улица – Лавочкина. Оказывается, она вовсе не в честь деревенских лавочек так названа, а в честь авиаконструктора Лавочкина. Вот оно что.
Стихи, написанные во вторую московскую осень-зиму. Осень 69 – зима 70.
* * *
Всё, что ни случается, –
к лучшему.
Хорошо, что дождь…
Хорошо, что мне не хватает
На билет до города Харькова.
Хорошо, что стихи не клеются
И не пишется лекция.
Хорошо, что утерян ключ
От почтового ящика.
И можно думать,
Что пришло, наконец, письмо…
* * *. Кое-как
. кой-чего накалякаю.
. Вроде – в шутку,
. а выйдет – всерьёз…
. Я боюсь, чтобы вдруг не залапали
. Эту душу –
. больную от грёз…
. Лучше – сжечь! Безусловно –
. проще так!
. …Я плашмя упаду на снег –
. Без стихов – без души – без прошлого.
. Так не надо
. даже во сне…
* * *
Полынья ледяной тоски…
Зажимая меж пальцев сердце, –
я ступаю…
прощай-прости.
Я ничьей не была невестой.
Закричит вороньё в полях…
Колокольня вдали заплачет…
И взгрустнёт надо мной сама
злая мачеха мне –
удача.
* * *
Полуслов, полудел истома…
Полугрёз, полумыслей путы.
Ночь нема.
Приговором – утро:
вдохновенье на плахе стонет…
И до смерти уже знакомо:
звук ушедших стихов,
скрип лестниц…
Не хочу –
ни бумаг, ни дома,
ни чернил!
ну, хотя б на месяц!…
Разыщу я сентябрь под Клином,
Где весь мир из дождинок соткан…
И цветаевские рябины,
Как прозренье, стучатся в окна…
* * *
. Не боюсь – ни тоски,
. леденящей, как сабля у горла.
. Не боюсь – ни вины,
. ни смертельной в запястье боли –
. если пусто в руке…
. И не знала я страха дотоле, –
. как в остывшей ночи
. я проснулась…
. фонарь
. подоконник
. и лежит
. бездыхан
. белый лист на столе
. как покойник
* * *
Стихи этого года, и кое-что из раннего, я, набравшись смелости, дала почитать Громову. Подкараулила его на выходе из деканата. Никто из девчонок не видел. Я им ещё ничего из своих стихов не показывала. И вот пошли дни ожидания: что он скажет?…
Перед очередным вторником, когда у нас его лекция, я тряслась от страха. Но он молчал.
Так прошло две недели, и я подумала, что он решил вовсе ничего мне не говорить, чтобы не травмировать меня. Было грустно. Но, с другой стороны, я была ему благодарна за то, что у него нет желания меня бить. Спасибо, добрый человек.
Но теперь, когда он читал лекцию, мне всегда казалось, что он обращается ко мне. Именно ко мне. Понятное дело – учит уму-разуму: вот, девочка, понимай, что такое настоящая поэзия. Спасибо, добрый человек. Я всё поняла…
Девчонки тоже заметили его посыл в мой адрес и удивились. «Романуш, чего это он на тебя так строго смотрит?» – «Понятия не имею…»
* * *
На перемену Громов вышел… с моими стихами! Я не сразу подошла к нему. Очень испугалась. А он стоял и ждал, держа в руках мою тетрадку.
Мы вошли в пустую аудиторию.
– Садитесь! – сказал он, как будто даже сердито.
Почти без чувств опустилась напротив него. Он молчал, перелистывая страницы… Нервы мои были на пределе. Наконец, он заговорил.
– Ну, что я вам хочу сказать… Это – стихи!
…От волнения я не запомнила всё дословно, но какие-то его фразы врезались в память, и потом я их записала в своём дневнике.
– Я очень рад, что мне не приходится говорить не искренне. Это – не та поэтическая муть… Это – стихи. Они, признаться, удивили меня. А порою – просто поражают. Здесь нет ничего от чувств не пережитых. Всё это страшно искренне! И очень умно. Да, здесь очень много интеллекта. Очень умные стихи. Но они… неземные, в них мало ощущения земли: от полей, лесов… Но о недостатках ваших стихов, я думаю, что говорить с вами не стоит. Печатать это, конечно, нельзя – вы сами понимаете… Всё это настолько, что… Ну, вы сами понимаете.
И дальше он мне говорил о Пастернаке, о Пушкине, о Блоке (он их любит) – говорил о «дуэте поэта с жизнью». Что насколько поэт споётся с жизнью – настолько и вернее, что состоится Поэт.
А потом сказал, листая мою тетрадку:
– Мне кажется, что это писал страшно одинокий человек… Всё это настолько личное… Нет, я не хочу ничего сказать! Нужно писать о себе. Но чтоб это ваше было и частицей других, каждого.
И ещё:
– Так писать, как пишете вы сейчас, – не каждый выдержит, нужно много мужества. Выдержите ли вы?
– Вообще-то я сильная…
– Ну, дай-то Бог!
…Уже давно прозвенели все звонки на лекцию… Девчонки мои стояли у дверей в аудиторию, поджидая меня, ошалевшие от неожиданности: Романушка и Громов сидят вдвоём в пустой аудитории и о чём-то говорят, не слыша звонка на лекцию!
Потом Дюшен читала мою тетрадь…
Странно, что показать стихи девчонкам было страшнее, чем Громову. Хотя Громову, апологету Серебряного века, тоже страшно. Кстати, а вот он не сказал, что я кому-либо подражаю. Потому что никому я не подражаю. А из редакций мне пишут рецензенты: вы подражаете Есенину, другой пишет: вы подражаете Блоку, третий: вы подражаете Цветаевой, четвёртый: вы подражаете Ахматовой. Ещё меня упрекали в подражании Рождественскому, Лермонтову и Маяковскому! Но ведь не может человек подражать сразу столь разным поэтам! Кстати, в подражании Цветаевой и Ахматовой меня упрекали даже тогда, когда я их ещё не читала! Потом, спустя много лет, когда сама буду работать в издательстве, я узнаю, что существует такой замечательный способ «отшить автора с улицы» – упрекнуть его в подражательстве. Неважно кому! Никто ведь проверять и разбираться не будет: так это или не так? «Вы подражаете…» – и автор лежит, поверженный на лопатки. И даже если это устная беседа, и ты попробуешь вякнуть:
– Да нет, я и поэта-то такого не знаю, и не читала его…
– Значит, вы невольно ему подражаете!
И как возразить на это?…
Но Громов (Громов!) великий знаток русской поэзии, ни в каком подражательстве меня не упрекнул! Напротив. Он посетовал, что в стихах моих слишком много меня.
Дюшен, дочитав мою тетрадь:
– Романуш, это же потрясающе! А мы тебя держали за девочку из провинции…
– Я и есть девочка из провинции – факт моей биографии. Восемь лет в степи – это накладывает на человека пыльный отпечаток. Но зато в степи никто не мешал писать стихи.
– А ты, вообще, давно их пишешь?
– С одиннадцати лет.
– И ничего нам не показывала.
– Не решалась. Вы все такие образованные… а я…
– А Громову не побоялась?
– Ну, если бы Громов меня разгромил, это было бы не так обидно. Это было бы даже естественно, я именно к этому и готовилась. От такого человека и критику выслушать лестно.
– А он?
– Сказал, что это – стихи.
– И всё?!
– Ну, ещё много хороших и важных слов сказал.
Дюшен долго молчала и, наконец:
– Послушай, а тебе всегда ТАК плохо?
– Нет. Вот в прошлую среду было хорошо.
– Это ужасно!
А Громов лекцию прочёл только мне! Два часа он обращался только ко мне. Такое у меня было ощущение. Тема: поэт в этом мире.
* * *
Верочка (из нашей колхозной компании) состоит в дальнем родстве с семьёй Ярослава Смелякова, одного из самых задушевных современных поэтов:
Если я заболею,
обвяжите мне горло туманом…
А ещё:
Хорошая девочка Лида
На улице Южной живёт…
Так вот, Вера вхожа в их дом, где бывает поэтическая элита, Вера частенько бывает там, с Женей Евтушенко запросто общается, дружит с молодым поколением семьи Смеляковых: с пасынком Смелякова Алёшей и его женой Тамарой (являясь Тамариной двоюродной сестрой). Так вот, Вера влюбилась в мои стихи. И захотела сделать для меня доброе дело.
Она отнесла мои стихи в дом Смелякова. Жена у Смелякова тоже поэт и переводчик. ТАМ почитали мою рукописную книжку. С интересом. И передали с Верой для меня слова, смысл которых заключался в следующем: стихи хорошие. Книга получилась. И если бы это была не первая, а хотя бы вторая моя книга, то можно было бы без проблем опубликовать. Но, поскольку книга первая, имя моё неизвестное, а стихов-паровозов нет, и явное влияние Цветаевой прослеживается, то опубликовать вряд ли удастся.
Вера, радостно:
– Ромашечка, я так счастлива за тебя!
– ?…
– Они тебя так хвалили! Причём, совершенно искренне.
– Да, Верочка, спасибо за заботу. За хлопоты.
В отличие от Веры, мне было грустно. Поскольку передо мной была поставлена невыполнимая задача: чтобы моя первая книга была не первой, а сразу второй! А, поскольку первая никогда не станет сразу второй, то и…
– Они сказали, что очень хотели бы помочь тебе, но не знают, как.
– Да я и не просила никого помогать. Это твоя была затея: «покажу Смелякову, он напишет предисловие, с предисловием Смелякова книгу тут же напечатают!»
– Ну, прости. Кстати, Ромашечка, они сказали, что книга, где всё только о любви…
– У меня не только о любви.
– Ну, почти. Да к тому же так грустно всё… Такую книгу невозможно напечатать в принципе. Всё-таки в начале книги что-то должно быть такое… ну, ты меня понимаешь. Так принято, ну что тут поделаешь? Гражданская тематика должна в книге присутствовать. Почитай хотя бы Евтушенко. У него всё уравновешено: и лирика – и всё остальное. И если бы ты могла… написать что-нибудь такое… хотя бы стишков пять.
– Что?! – взвилась я.
– Но ты же хочешь, чтобы у тебя была книжка?
– Не таким же путём!
– А разве есть другой путь? – спросила заботливая Верочка.
– Не знаю. Но стишки на «заданную тему» писать не собираюсь. Лучше пусть у меня никогда не выйдет ни одной книги…
* * *
«Томбэ ля нэжэ…»
Падает за окнами тёплый пушистый мартовский снег…
Что-то бормочет лектор…
Дюшен, Лянь-Кунь и Мама Ева вяжут, они виртуозы в этом деле. И Тишлер приобщилась к рукоделию. Итак, все с упоением вяжут (практически весь наш девчачий курс), пока лектор толкует нам о библиографических премудростях, или рассказывает историю книжного дела в России… Семененко сидит, рисует… А я пишу стихи…
* * *
. Жила…
. Мне страшно, как жила.
. Жила – как в полынью ступала.
. У солнца, у весны в опале
. Я столько лет была!…
. Жила – как в сирый день поста.
. Но Вы пришли –
. нездешний, странный…
. О губы! –
. исцеленье ранам…
. И взгляд –
. как снятие с креста!
* * *
«Вы подражаете сразу всем поэтам», – написал мне очередной рецензент. Смешно…
Конечно, нет. Конечно, это было не подражание, ибо подражать сразу всем невозможно, даже будучи человеком-оркестром.
Это было – обживание. Обживание новых планет, новых ритмов… Это было открытие новых красок в палитре. Это было время счастливого ученичества и раскрепощения…
…Познав другие планеты, наглотавшись морозной свободы и новизны, я со всем пылом девятнадцати лет ринулась обживать СВОЮ планету. В центре моей планеты, в центре жизни оказались Цветной бульвар и – старый, сутуловатый цирк…
* * *
…Живу не столько дома, сколько у подруг. Мой маршрут:
Комсомольский проспект (Дюшены – потрясающая библиотека, круглый стол на кухне, манящее тепло семьи) -
Проспект Мира (Семененко – её взрослая независимость и самостоятельность, важные для меня разговоры о том, как не зависеть от взрослых, а ещё – маленькая пишущая машинка у окна) -
Смоленская площадь (Тишлер – хранительница нашего общего архива и её чудная мама Элла Яковлевна, такая заботливая и ласковая, она тут же начинала меня кормить, переживая из-за моей худобы, и расспрашивать про мою жизнь, ей можно было рассказать про сложности с мамой и Фёдором, она мне сочувствовала) -
Марьина Роща (Лянь-Кунь – музыка, уединение, разговоры до утра…)
* * *
…Я помню, как мы ржали в метро… Шестеро девчонок. Мне казалось тогда, мы – одно целое, как шестикрылый серафим… Хотя уже тогда было ясно, что мы все очень разные.
* * *
Сочиняем на лекциях дурашливые стихи, соревнуемся: кто дурашливее.
Стишки наши в рукописном виде расползаются по курсу. Одна активная девочка, Рая, вдруг самолично выпускает стенгазету. Ничего не сказав мне, она печатает в газете один из моих опусов. На её взгляд: самый смешной. Там есть такая строфа:
И плешивый гад придёт, рыдая,
Прижимая цветики к груди,
Эта жизнь такая сволочная!
Только мы на истинном пути…
В стенгазете напечатали: «год». Не «плешивый гад» – а «плешивый год». А это был год столетия Ленина, вся страна готовилось праздновать день рождения любимого вождя, а тут вдруг – «плешивый год»!
…Я в ангине, сижу дома. Телефона в ту пору у меня ещё не было. Неожиданно приезжает Дюшен:
– Романушка, тебя срочно вызывают в деканат!
…Декан потрясает перед моим носом стенгазетой:
– Это ваше сочинение? – тычет он пальцем в моё стихотворение.
– Ну, да. Здесь и фамилия моя. Только здесь опечатка…
– Опечатка? Какая ещё опечатка?!
– Не год плешивый – а гад. У меня в стихах написано: «И плешивый гад придёт, рыдая…»
– Гад?! – у декана глаза лезут на лоб. – Какого плешивого гада вы имели в виду?! – взвизгивает он, как будто его кольнули шилом в одно место.
– Абстрактного.
– Абстрактного?! По-моему, здесь содержится явный намёк… Вы не находите?!
– Нет-нет, – заверила я его. – Я Ленина вовсе не имела в виду. Стихи просто так написаны. Для смеха.
– Для смеха?!! Вы отдаёте отчёт в своих словах?!!
– Конечно, отдаю.
– И вас не страшит отчисление из института?
– А за что? – простодушно спросила я.
– Идите!!! – рявкнул он.
«Ну что? как?» – теребили меня однокурсники, когда я вышла из деканата.
– Наверное, отчислят…
– Бедная! – вздохнул кто-то.
– Плевать! – сказала я.
…Каждое утро, приходя в институт, я смотрела на доску объявлений, ища приказ о своём отчислении. Но его – не было… Не было и не было.
Почему меня не выгнали, я так и не поняла. Может, Громов за меня вступился? Не знаю. Конечно, было бы забавно заглянуть к декану и поинтересоваться: а почему вы меня не отчисляете? Забавно, но – глупо. Итак, меня оставили в покое. Продолжаю учиться.
* * *
…Всю зиму мой клоунский образ то смутно брезжил, то ускользал от меня. Я исписывала страницу за страницей своего дневника, в попытках нащупать, поймать, понять: кем я должна быть в манеже? Я знала твёрдо только одно: я не должна подражать своему любимому Клоуну, не должна копировать его. Ведь не этому он меня учил. Он учил другому – быть собой. И только собой. Но я ещё плохо знала себя. И мой дневник помогал мне докопаться до своей собственной сути.
Это уже была середина марта. Однажды вечером, когда в доме все спали…
«Слушай, тетрадь… Я, кажется, поняла, нашла!
Манеж. Красный, мягкий. В свете прожекторов…
Выходит клоун. (Я). Медленно иду вдоль барьера, всматриваясь в лица зрителей. Звучит музыка – тихо, грустно. Конферансье: «Романуш, что ты ищешь?» Я: «Понимающие глаза». Конферансье: «А что ты хочешь делать?» – «Читать стихи», (Смех в зале). «Но ты же клоун, Романуш!» – «Да, клоун. И поэтому я буду читать стихи… Клоун – самый грустный человек. Вы знаете, что такое – Клоун? Он прикидывается шутником, и вы плачете от смеха. А вы говорили с клоуном по душам?» (Присаживаюсь на барьер).