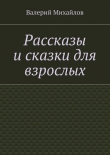Текст книги "Нора Баржес"
Автор книги: Мария Голованивская
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
А вдруг, поломав отношения с Норой, он поломает хребет и этому новорожденному годочку, такому миленькому с лица? Вдруг они связаны между собой нитями и жилами – дела и жизнь?
Наступил конец января, начало февраля, двинулся вперед новый год, распихав всех по привычным колеям.
Павел катился с горы то на санях, то на лыжах, то кубарем, ветер свистел у него в ушах, весело замирало сердце от неопасного страха и уже вошедшей в привычку лихости.
Нора изо всех сил колола каблучками земную твердь, на кассиршин манер накалывая дни, словно чеки, на острые оконечности своих пяточек. Иногда она комкала их, стараясь спутать отчетность, иногда вдруг какой-то день переписывала начисто, а иногда, замотав больную голову нежным, как верблюжий язык, малиновым шарфом, просто уходила в сторону – внутрь, в книгу, в риточкину улыбку, и переставала замечать дневное мелькание вовсе.
Как тик на лице жизни.
Анечка жаловалась друзьям на родителей.
Кажется, они вообще расплюются, – говорила она дружкам в редкие минуты, когда все они имели возможность слушать и говорить, достав из ушей «бананы» и вынув тонны жевательной резинки изо рта. Она была похожа на отца, а значит, была русская, русская! Милые и не очень обсуждения абрамовичей и рабиновичей никогда не оставляли ее равнодушной, она вставляла свою шуточку, причем ничуть ни менее скабрезную, чем другие. Она ходила на уроки, распахнув без интереса дневник на новой дате, раздражала учителей неряшливостью и агрессивностью, хватала тройки, курила за школой, рвалась изо всех сил в клубы и на вечеринки, прилежно стараясь освоить это будоражащее времяпрепровождение. Ледяная стена между отцом и матерью ее устраивала, она научилась, как мячик, пользоваться этой стеной для отскока в любую желаемую ей сторону.
Кремер вернулся восвояси, хоть и взбудораженный, но отчетливо работоспособный. За чашкой вечернего чая он с удовольствием поделился с Ниной новостью о Норе. Мол, она теперь не та, что была раньше, у нее другая сексуальная ориентация, отчего она стала еще прекраснее и умнее. Он наплел Нине кучу небылиц, каких-то забубенных подробностей, которые в изобилии порождались его воображением. Нина раскраснелась, а он пошел писать и писал кряду несколько месяцев оранжевых целующихся женщин, танцующих нимф, отражающихся в ручье в виде бесов, и тому подобное. Только к весне он вернулся к пейзажам, как всегда – после Нининой настойчивой подсказки. А эти полные сексуальной энергии полотна она засунула в мастерской за шкаф, да еще так, чтобы он не мог сам найти, если приспичит перед кем-нибудь похвастаться.
Не надо ему такой славы.
Павлу нравились картины Кремера. Он простодушно многим восхищался, не ища в каждом попавшемся чуде или явлении своего отражения.
Норе не нравились картины Кремера. Плоско, заурядно, вторично. Поверхностно, неумно, глупые эмоции, разбивающие красоту, гармонию, вечность. Впрочем, я ничего в этом не понимаю, непонятно зачем всякий раз добавляла Нора.
Майкл просто работал, как работал всю жизнь. Он заканчивал подготовку к переезду в новый кабинет, где на столе, как и в старом кабинете, будут лежать аккуратной стопкой списки дел. Он не спеша разбирал жалобы сотрудников друг на друга, поощрял отличившихся, увольнял провинившихся. Его переписка с Павлом была обычной, корректной, по делу. Весной они с женой собирались на лыжах, летом с детьми на целый месяц на какие-то острова, плавать, нырять, есть вкусные и полные витаминов десерты из экзотических фруктов. Чтобы дети, а им это необходимо, побыли на море, набрались здоровья, а его фотоаппарат – очередной партии снимков.
Павел от души любил Майкла и, что называется, прощал ему.
Нора не удостаивала его отношением, лишь поднимая левую бровь при упоминании его имени.
У Риточки после новогодних каникул опять начинался сезон. Ее аккуратный маленький телефончик постоянно посвистывал ей, давая понять, что она необходима, что ей нужно бежать, спешить, звонить, заказывать и проверять. В Москве, жадной до событий и производящей их ежеминутно сотнями, маленькие риточки, умеющие заказать цветы и шампанское, музыку и плазменный гигантский экран, были нарасхват, как некогда неваляшки или транзисторные приемники. Поэтому ее маленькие дни мелькали, словно в рапиде, и различить, кому принадлежала та или иная ее улыбка, слово, фраза, эпизод из жизни, трагедия или удача, было практически невозможно.
Она, конечно, выделяла в этом потоке Нору – красивую, умную, как-то странно к ней привязанную. Нора прекрасно смотрелась на ее презентациях, с легкостью становясь то частью высшего общества, то типичным представителем столичной богемы. Она уподоблялась всему, сама того не замечая, а Риточке была радость, что знакомые глаза глядят на нее из толпы, и в них она улавливала отражение какого-то неясного будущего, которое ей так хотелось разгадать.
Так неясного или все-таки чуть-чуть ясного?
Риточкины сослуживцы заметили Нору и несколько раз осмелились даже предположить, не тетушка ли это. Или, может быть, мама? Старшая подруга, – ничуть не смущаясь, отвечала Риточка, – реставратор, знаток искусства. Нам ведь нужны контакты с музеями?
Они говорили по телефону каждый день, а виделись раз на неделе – ужинали в какой-нибудь милой кафешке, и раз на выходных – вместе отправлялись на прогулку или проводили время у Риточки дома. Конкуренция событий все отчетливее давала о себе знать, когда назначался ужин или прогулка. Из-за ужина она часто отказывалась от другого ужина, который обычно влек ее больше, а из-за прогулки – от другой прогулки, на которой ей, без всякого сомнения, было бы приятно и полезно побывать. Но терзаться было не в характере Риточки. Пока пусть будет так, а дальше – посмотрим, твердила она себе. Эта формула была ее палочкой-выручалочкой во всякой затруднительной ситуации.
«Риточка, ты просто волшебница!» или «Риточка, ты чудо!» Так восклицали на ее счет все без исключения свидетели милых салатиков, вышитых ею в детстве салфеточек, подарочков, что она делала на всякие ерундовые праздники, в золотистой фольге, с бантом и непременным воздушным поцелуем.
Из Казахстана, где она выросла со своим папой – русским полковником и милой мамой белорусских кровей, она вынесла ощущения огромного синего неба и плоского белесого солнца.
Это солнце сверкало где-то внутри и придавало ее вечно хорошему настроению особенный привкус лета, спелости, бескрайности. Они жили колонией, были, конечно же, чужаками, за их спинами местные плели коварные интриги – однажды даже полковник Савелов, отцов друг, пристрелил кого-то рассвирепев.
На кухнях до глубокой ночи под водку обсуждали и строили планы: как уйти на повышение, как занять ключевые позиции и взять реванш здесь, но Риточка ничего этого не впитала, в отличие от ее подруг, с которыми она иногда – редко – видалась в Москве. Они рассказывали, как боялись, про песок и скудное поселение части, про бараки и ветер, вечно мотающий по песку бесцветные обрывки, обмотки чего-то неясного.
Она, волшебница, запомнила огромные беззубые улыбки казахов, всегда обращенные к ее круглому лицу в золотых тогда еще спиральках волос, протянутую к ней руку с огромным малиновым помидором в темных, кривых, как клещи, пальцах с облупленными ногтями. Она впитала ароматы плова и свежесть запотевших бутылей с ключевой водой.
Из Казахстана ее отца – подтянутого чернобрового красавца – с отличием за какие-то успехи перевели служить в Петербург. Ветер, мороз, каменные глаза статуй, суровый нрав местных жителей, вечная их болезненность не пристали к Риточке, а, напротив, пристали весенние радостные разливы Невы, улыбки молодых морячков и их умение присвистнуть, засунув два пальца в рот, так, что шпили Петропавловки и Казанского собора отзывались мелкой дрожью. К ней пристало великолепие дворцов, радостное шевеление кроны в старинных парках, простор, что открывается и затем укореняется внутри, если часто глядеть с Биржевого моста в сторону порта. Здесь она впервые поцеловала мальчика в его сухие обветренные губы. Он был постарше, грезил сделаться инженером мостов, но потом, как это бывает часто в эпоху первого поцелуя, мгновенно сгинул в какую-то жизненную мглу и выплыл из нее лишь однажды, много лет спустя, в виде полноватого дядьки с прокуренными редкими зубами.
Перед законной отставкой отца направили дослуживать в Дубну, и уже там, оперившись, научившись одним стремительным движением красить губы и подводить глаза, Риточка осознала, что ничуть не похожа ни на своего отца-полковника, поседевшего бровями и отрастившего положенное брюшко, ни на мать – полковничью жену, в пандан отцу раздобревшую к своим пятидесяти годам и страдающую от болей головных, суставных, сердечных и даже чуть посвистывающую грудью в преддверии надвигающейся астмы.
Зачем они назвали ее Маргаритой, Маргаритой Ивановной? От простоты душевной? Отсутствия фантазии? В честь папиной прабабушки – кстати, по словам родных, тоже рыжей, как солнце, и вечно смеющейся без всякого повода?
Она не обижалась на них за Маргариту. У меня цветочное имя – с детства говорила Риточка, загадочно улыбаясь, я – маргаритка и люблю воду и солнце.
Она оторвалась в секунду, как пуговица, висящая на одной нитке, отскочила в мгновение и закружилась в потоке событий, оказавшись естественной частичкой водоворота, что кружит в Москве всех молодых и приехавших недавно, ищущих свою Планиду, Фемиду и Мимикриду одновременно. В ее жилах забурлила кока-кола. В ее очаровательном ротике поселились сестрички Dirol в сапогах и со шлангами в руках. В ее животике переваривались нольпроцентные йогурты, богатые бактериями. Опутанная проводами, по которым в уши течет первосортный рэп, жующая и переваривающая, она двинулась по московским тропам в сторону счастья. Она даже иногда щекотала Этот Город за бархатное брюшко и заглядывала в его малиновые смеющиеся глаза, как вдруг с размаха натолкнулась на Нору, такую твердую, холодную, инородную. Она ударилась об нее и от удара остановилась, конечно, по привычке улыбнувшись и обдав ту светом своих ореховых глаз. Она глотнула ее темноты и тяжести, но, как это обычно бывало при таких встречах, ее не замутило, и в желудке у нее не образовался змеиный ком, а напротив, брызнул из головы новый синеватый свет, и какая-то другая сила заискрилась, заискрилась…
Что ты говоришь, Ниночка?
Нора стояла на кухне лицом к окну, глубоко затягивалась и пыталась расслышать в телефоне Ниночкины добрые вопросы и пожелания.
Да ничего себе живем, Ниночка. Что Павел? Да нет, ничего специального, все как всегда, январско-февральское затишье и от этого же буря. Она сидела на кухне – большой, просторной, светлой, перед толстой папкой бумаг-экспертиз, заключенных в жесткие формы бланков, где были надежды и сомнения относительно одного из недавно обнаруженных рисунков Врубеля: линии как будто его, но сюжет невозможный для даты, для периода безумия, в котором он находился в тот год, почти не покидая стен клиники. Неужели он мог сразу вслед за портретом Брюсова начертать полурасстегнутый женский сапог и край цветастого платья, невозмутимый вид снизу, годящийся разве что позднему периоду Климта, столь любимого придумщиками рекламы колготок и белья?..
«Это прекрасная работа руки мастера», – писали одни. «Неумелая графика, образчик которой мы наблюдаем здесь, не может принадлежать не только руке Врубеля, но и ничьей руке вообще», – заключал другой. Аргументы дрались на шпагах.
Нина о чем-то беспокоилась. Она подолгу замолкала между вопросами, и Нора, продолжавшая курить одну сигарету за другой, по своему обыкновению никак не помогала ей заполнять неловкие паузы между репликами.
Как Анечка?
Голос Норы сделался тонюсеньким. Она почти что пищала в ответ – так делалось всегда, когда она испытывала боль или волнение. А после, пропищав положенные две-три фразы, она вдруг всхлипывала и могла потом долго и беззвучно плакать, омывая смуглое лицо реками слез, течение которых уносило прочь ее мысли.
Анечка очень плохо, – пропищала она.
Что случилось? Скажи мне, я чувствую что-то неладное…
Ужасно, ужасно, – пока еще пищала Нора, – оказалось, у нее дурная компания, она в зоне риска, этого их типичного риска, понимаешь?
Господи… Говори яснее.
Нина звучала, как всегда, рассудительно и спокойно. Когда в ее душе поселялась тревога или сомнение, она всегда добросовестно расследовала его причины, а потом, если считала нужным – действовала.
Петр приехал сам не свой. Он помногу говорит с Павлом. Я не знаю, о чем…
Ты звонишь за этим?
Нина не стала замечать этой фразы.
Если что-то нужно для Ани, скажи мне. Хочешь, присылай ее к нам в Палермо, пускай поживет, могу отдать ее в школу при торгпредстве, там Петра очень привечают. Подумай, Норочка, может быть, это выход.
Нора принялась благодарить. Как всегда, скорбно, чуть обиженно, обиженно за то, что это не она сидит в Палермо, где ей как реставратору самое место, не она предлагает подруге такой замечательный выход из затруднительного положения.
А как ты? Нина оборвала поток благодарности, зная по опыту, что он может длиться слишком долго.
Я плохо, кажется, больна.
Нина расспрашивала. С подробностью, которая бывает только между подругами. Нора нехотя отвечала, уже не рыдая и не пища. Сказала, что, кажется, опять воспаление почек, простудила в путешествии, часто такое бывало, ну да, кровь есть, но немного, нет, не режет, слабость, слабость, без температуры, ну, конечно, она знает, как лечиться, и побережет себя.
Она воспользовалась приходом домработницы, воскликнувшей: «Ну и дымища!» – чтобы закончить разговор, и спешно вышла из кухни. Она расположилась, как обычно, в гостиной: разложила бумаги из папки, рентгеновские снимки с белыми разводами, снимки в инфракрасных лучах с концентрическими окружностями вокруг непонятных центров. Она добросовестно раздумывала о расстегнутом сапоге и коленках, на столе громоздились справочники, компьютер послушно открывал окно за окном, выдавая, по обыкновению, горы бессмысленной информации. По-зимнему рано стемнело, наступило пять, потом шесть часов. Домработница Валя несколько раз беспокоилась о том, что хозяйка «ни разу не завтракала, а скоро уже и ужинать пора». Щелкнул замок, вернулась Аня, взбудораженная, по-подростковому чужая, все повторяла: «Короче, ну я такая, говорю, а он такой, мне отвечает». Нора морщилась, отстраненно – впрочем, как всегда – говоря ей: «Да, девочка, хорошо, девочка…»
Аня чавкала жвачкой. Нора по-прежнему разглядывала коленки и сапоги, сличала что-то в биографии, топографии, географии. Кстати, – вдруг проговорила она, не поднимая глаз от работы, – ты не хочешь поехать пожить к Кремерам в Италию, поучиться там, поучить язык? По-моему, для тебя отличная возможность.
Аня на всякий случай обиделась. Спросила, не разводятся ли они с папой. Когда голос Норы сделался тоненьким, она тут же осеклась, протараторила: «Мамочка, ну ты же знаешь, как я тебя люблю» – и помчалась телефонно обсуждать перспективу с подружками и друзьями.
Вернулся Павел. Шумно поел на кухне, погорланил о чем-то с домработницей. Кажется, обсуждали, как готовятся пельмени и вареники. С хохотом, раблезианским весельем, любовью к жизни.
Нора одевается в спальне. Красивую черную кашемировую кофту, узкую асимметричную юбку, сапоги. Кожи, ласкающие плоть. Через час они ужинают с Риточкой в новом прозрачном ресторане у воды, в полумраке, под колыхание свечного пламени.
Она стакивается с Павлом в коридоре. Он идет в кабинет, смотреть новости.
Куда ты?
Звонила Нина Кремер, предлагает забрать Анюту на год в Палермо. Отдаст ее в школу. Идеальный вариант. Поучится языка, наберется впечатлений, расстанется с дурной компанией. Я Нине доверяю.
Я уже договорился об этом с Павлом. А ты куда?
Он стоял перед ней расстроенный, сдувшийся, как будто сжавшийся в комок.
Неужели даже теперь ты продолжаешь?
Ты хочешь сказать, что мне почему-то нельзя пойти с подругой в кафе?
С подругой? В кафе?
Она проскользнула мимо, пронеслась черной стрелкой, они сели с Риточкой за столик у окна, глядели на замерзшую реку и пролетающие по набережной автомобили, на столе у них в стакане из тонкого стекла цвели крокусы, а на тарелках дымился розовый парной лосось, с ниточкой укропа и островками малахитового пюре из шпината. Она пили нежный херес из запотевших бокалов, и Нора утекала куда-то от радости, скользила глазами по рыжим пружинкам Риточкиных волос, проникала вглубь ореховых глаз.
Они говорили обо всем: о риточкиных знакомцах, которых она описывала весело и талантливо, о промелькнувших новогодних елках, где было столько смешного и нелепого, о норином Врубеле, об Анюте, отбившейся от рук, о Павле, внезапно словно затаившемся перед решительным прыжком.
С Риточкой Нора говорила будто бы на другом языке. Никакое из событий на этом языке не выражалось тяжело или обреченно, все представлялось, благодаря его иному синтаксису и грамматике, естественным, проходящим, наделенным еще и иным, очень важным и значимым смыслом. Все, что происходило в их жизнях, было непременно «хорошо», даже «замечательно», с точки зрения этого особенного зашифрованного языкового кода, и они радовались, разучивая его на два голоса.
А как ты думаешь, – спросила Норочка, глотая последнюю каплю лимонного сорбета и запивая его прекраснейшим кальвадосом, – как ты думаешь, люди, когда умирают, там, на небе встречаются с Богом?
Ну, конечно, – ничуть не раздумывая, улыбнулась Риточка, – в этом главное удовольствие умершего и вообще единственный способ увидеться с нашим Папой. Он объясняет каждому его ошибки и открывает тайны, без которых нельзя было правильно решить многие задачки.
Нора углубилась в задумчивость, которую прервало ощущение тепла на ее всегда ледяной руке – Риточка опустила поверх свою невесомую ладошку.
Ну что ты, Норочка, это ведь все такой кайф.
Они вышли на холодную набережную за полночь, Риточка отвезла Нору домой, и они еще долго сидели в машине около подъезда.
Ты не боишься, что нас увидит твой красавец-муж? – хихикнула Риточка.
Они держались за руки, потом страстно обнялись и долго еще шептались.
Ты напишешь мне перед сном? – спросила Нора.
Конечно.
Павел ждал ее на кухне.
Почему под окнами? – спокойно спросил он.
О чем ты? – удивилась Нора.
Ты психически больна, – спокойно проговорил Павел, – я лишу тебя родительских прав.
Нора сделала вид, что не расслышала.
Как время-то провела? – ернически выкрикнул он ей вслед.
И правда, – подумала Нора, – что же мы делали с Риточкой последние семь часов?
Как ни старалась она вспомнить, она не помнила.
Эти дни он жил странно. Как будто отчего-то грустил, но, поскольку грусть не была ему свойственна, он воспринимал это состояние то как начало гриппа, то как начало гипертонии, то как проявление плохого пищеварения. При его отменном здоровье – главной гордости покойной мамы Розы – мысли о начале болезни вызывали в нем панику, близкую к помешательству. Он пил шипучие, пахнущие лимоном горячие растворы, травы от желудка, он изучал симптомы и проявления тайного недуга, даже не догадываясь о том, что это заурядная, просто неведомая ему доселе грусть, случающаяся у мужчин после сорока от плохого прогноза относительно какой-нибудь важного обстоятельства.
Однажды он даже заподозрил, что болен страшно. Открыл утром глаза, оглядел люстру из венецианского стекла, книжные полки – уже полгода он изредка ночевал в кабинете на диване. Что-то кольнуло в боку, потом в животе. Он потрогал свой голый живот, попытался согнуть ногу в колене и почему-то не смог. С трудом он сел на край дивана. Уставился в круги, что стали расплываться перед глазами, помотал закружившейся головой.
Показалось, что какие-то чудовища проросли и зашевелились в нем. Темные, скользкие, гадкие. Они хозяйничали внутри его тонкой оболочки, как в страшенной голливудской фильме, и он ощутил, сидя тогда на краешке, что для того и живет, таская ноги по белу свету, чтобы кормить их собой. Теперь уж они точно дожрут его без остатка, и так случится из-за Норы, которая, приглядитесь, и есть одно из этих чудовищ – такая скользкая змейка внутри. Она больнее всего жалит – то в прекрасную нежную почку, то в алое сердце, то в зеленую селезенку.
Он просыпался рано, так случалось с ним всегда, когда внутри шла неслышная напряженная работа главных шестерней. «Так – не так, так – не так», – тикали невидимые часы внутри него, обкатывая какой-то до конца не ведомый ему самому план. Что с Анютой? Отправить ее к Кремерам в Италию? Нина извлечет ей мозг занудством, Петр намусорит в ее душе чудачествами творческого человека. Станет есть яйца вместе со скорлупой или вращать по-совиному глазами.
Но главное даже не в этом. Что он ответит ей, когда впоследствии – а этот момент настанет обязательно – дочка станет попрекать его, винить, что в решительный момент жизни он отдал ее чужим людям?
Буквально: «Когда ты был мне больше всего нужен, ты отправил меня жить к чужим людям. Так чего же ты теперь хочешь от меня???» Он не хотел быть виноватым отцом. Неряшливым папашей. Он хотел быть блестящим родителем, сиять отцовством, как сияют могуществом, полнотой власти, богатством, скопленным за жизнь. А Нора? Как наказать ее? Не разбираться, а наказать?
Он боялся своего здоровья, черных дыр внутри себя, куда могла заползти гадина, и решал задачки. Наказать Нору, не затронув Ани. Если он обозначит другую женщину, это ударит по Ане, ей хватит и нориных выкрутасов. Может быть, принести ей какую-то иную боль? Оклеветать на работе, опорочить профессиональную репутацию? В предрассветной мгле он беспомощно грезил о том, как могущественный коллекционер в подозрении станет пытать ее скальпелем в сумрачном подземелье своей резиденции. Его охранники довершат дело, его пресс-аташе ославит ее до конца дней перед газетами и журналами, где будут печататься крупные фотографии «плохой Норы». Его советчики порекомендуют ему яд для Норы, его любовница выдерет ей патлы и ударит шпилькой в карий с синими подтеками глаз. Так он ненавидел ее. И ненависть длилась до пронзительной утренней мысли: может быть, убить ее самому? Подойти, накрыть подушкой, подкупить впоследствии дознание?..
После таких мыслей он был раздражителен и сварлив все утро, словно прибавлял себе десяток лет. Он проклинал свой послушный автомобиль за то, что тот не слишком проворно распахивал промерзшую дверцу, он ненавидел кофеварку за то, что она слишком услужливо шипела, выдыхая ароматный пар. Он отчитывал секретаршу за то, что она, подавая документы, смотрит или не смотрит ему в глаза, управляющих – за то, что они нерасторопно и тугоумно управляют серыми, как осенний туман, учеными, без мозга и воображения в черепах.
С Норой он виделся мельком и зло. Вот они сталкиваются утром в кухне, она курит и пьет чай. Он выходит в халате, нажимает на кнопку лебезящей кофеварки. Опрокидывает чашку. Она не реагирует. Он выходит на работу, галстук, костюм, портфель ищет, забывает, мнет, роняет, а она идет в ванную комнату, словно по красной ковровой дорожке каннского фестиваля, не видя никого и только щурясь от слишком яркого света аккредитованных вспышек. Он отпускает недовольную реплику. Она автоматическим движением поправляет ему что-нибудь из одежды. Он морщится. Кто-то звонит ей на городской телефон вечером, он берет трубку. Потом кричит злобно, подзывает, зная, что она очень не любит такие манеры. Она заходит к нему в кабинет с вопросом, он не отрывает головы от газеты.
Они враги.
У них война.
Он сидел в своем просторном кабинете с окнами на старинную узкобедрую, рахитичную улочку, на стене маялся маятник, на столе песочные часы пересыпали из пустого в порожнее. Он думал, не приласкать ли новую кареглазую помощницу, горячее, чем надо, благодарил ее за принесенный кофе, он нажимал кнопки на карманном телефоне, на плоской клавиатуре, на брелоке, на кодовом замке сейфа, двери при выходе. Он разговаривал с летающими людьми: кто-то только что это сделал, кто-то вот-вот взмахнет крыльями, надо успеть, сплести обстоятельства из, выпутаться из них, жизнь запружена событиями, эти люди-птицы окружают его, кружат над ним… Он кого-то ловит, кто-то ловит его, звонками, посланиями, переданными словами.
Иногда он думал: а в чем смысл перелетов этих усталых и важных людей? Он давно научился иронично рассуждать, копируя Нору. Но эта ирония не помогала ему находить ответ, то есть он его давно нашел, но ответ почему-то все время терялся среди других ответов, пропадал куда-то, скрывался от глаз.
Он, этот ответ, звучал так: «Люди-птицы не совершают ничего путного, летать – это форма, но не содержание их жизни, а такая форма не вмещает никакого содержания».
«Может быть, смысл в траектории полета? – рассуждал он, ерзая в своем начальственном кожаном кресте уставшей попкой. – Может быть, я – заурядный муравей, и я не могу оценить с земли красоты траектории и смысла пересечений траекторий? Как же тогда я могу позаботиться о непрерывности Чайки?»
Он держал над головой большую картину, своего рода «двадцать девятый вал», он положил на пол кабинета дорогой персидский ковер и, не имея ввиду ничего плохого, топтал его ногами, он предлагал присаживаться на его неземные кресла и пригубливать из тончайших бокалов вино, коньяк или из таких же чашек – чай, собранный детскими ручками китайских рабынь. Они, люди-птицы, говорили за этим чаем или в промежутке между глотками старого, бурого, как больная кровь, вина. Они употребляли слова о незамерзайке или жидкости для разморозки замков, как в иные времена великие полководцы рассуждали о судьбах покоренных народов. Они бледнели и учащали сердечный ритм, когда за этим разговором случалось недопонимание, они теребили себя за галстуки и сверкали циферблатами своих часов, напыщенно шевелили усами, когда кому-то из собеседников случалось не разглядеть глубинного смысла новых дрожжей или протирки для поверхностей с запахом ландыша.
Выходя из дома, он шел в этот кабинет, к этим креслам и этим птицам. Чтобы тянуть пальцы к кнопкам и целиться макушкой в двадцать девятый вал.
Она, Норочка, цокала каблучками по ровным гранитным ступенькам парадного. Лет пять назад он подарил ей на день рождения дорогостоящий ремонт в их парадном: он положил на пол под ее каблучки серый мрамор, он выровнял и побелил стены, он даже поменял лифт, доставшийся ему за считанные гроши, потому что именно в этот момент – на счастье – они изобретали волшебный канатный капрон для известных деятелей лифтового поприща.
Она проскальзывала в мокрое такси, она сидела в нем молча, поджав под себя ноги, словно судорога свела ей живот. Она, бесконечно извиняясь перед случайным водителем, роняла слова в телефон, она добиралась до работы, что рядом с колыханием речного протока, и опускалась в ароматы олифы и зловонных растворителей, у которых одна только забота: потщательней убрать с полотна все, что накидало на него время – пыль, превращающую свет в сумерки, радужные разводы от невольных плевков восторженных ценителей да следы от полетов людей-птиц, напрочь искажающих безупречные линии былого мастерства.
Ее стол стоял у окна и чах под ворохом бумаг. Ее кресло на черных колесиках умирало от сигаретных язв. Ее микроскоп першило от ятей, но он сверкал протертостью и топорщился возбуждением от нежных прикосновений ее рук. Она не изменяла ему с «цейсами», она привыкла к этим вторым глазам, позволяющим увидеть комарий кал со следами переваренной крови великого Врубеля или Кандинского.
У нее было две подруги, с которыми она иногда говорила по жуткому стационарному черному телефону и которые иногда заходили сюда, в реставраторскую. Их издревле знал по именам весь отдел реставрационных работ и с готовностью здоровался, определяя в них человеколюбивые ипостаси Норы.
Нора мало с кем охотно разговаривала, мало с кем водила дружбу, мало с кем общалась по рабочим нуждам, искренне недоумевая, для чего люди хотят иметь столько лишнего, и как у них достает сил справляться со всем этим.
Они никогда не перезванивались. Между их мирами не было мостика. Их кресла не скрипели в такт. Была только Анюта, но в последнее время растаяла – повод для объявления войны обычно не муссируется по телефону.
Анюта привычно ходила между их жизнями. Но их жизни проникали в ее только своими самыми отдаленными окраинами. Она ходила между ними челноком в попытке ухватить и там, и там капельку вкусного, приятного, полезного. По утрам она не видала родителей, каждый из них привычно спал – иногда совместно, иногда порознь. Завтрак ей приготовляла домработница Валя – пара яиц, творог с вареньем, кукурузные хлопья – которую Аня уже привычным движением души отчаянно ненавидела, всячески стараясь при случае скомпрометировать ее в глазах матери. «Валя утром дала мне скисший творог», – докладывала она Норе с таким же скисшим выражением лица, отчего та начинала очевидно тревожиться, каяться, что не встает сама. Аня просила кофточку, юбочку, денег, отпустить вечером, на выходные к друзьям, с друзьями, она торговалась, капризничала, шантажировала – так диктовал ее возраст, так поддиктовывали ей папа и мама, живущие все время с напряжением натянутой струны.
Нора плакала от этого, видя, слыша, понимая, но неизменно поддакивая, послабляя. Она страхом боялась Павла, только бы он не узнал об этих ее поблажках, уступках в обмен на копеечные обещания, которые не стоили и копейки.
Аня знала всех жителей парадного, некогда отремонтированного папой в подарок маме. Это и была ее настоящая семья. В его отделанных приятным мрамором недрах гнездились жизни, с удовольствием проливавшие на нее свои истории и сочувствие. Что ей было нужно еще, если возможности ей давали дома?
На первом этаже жила респектабельная пожилая пара: он – авиационный конструктор и испытатель, и она – его жена. Она красила волосы, но несколько небрежно, и лак у нее на ногтях всегда облупливался, а он был вечно моложав и подтянут, хотя и с брюшком лет. Их сын уехал учиться в Америку, женился там, и они оба от тоски по нему угощали девочку сладостями и иногда дарили глупые книжки. Ей нравилось разглядывать одежду авиаторши. У нее много красивых когдатошних вещей, зимних пальто-букле с меховыми ондатровыми воротниками, лакированных туфелек и бирюзы, а у него в серых глазах всегда виднелся далекий горизонт, и Анюте нравились его сказки о полетах к вершинам человеческого духа. А еще у него в животе размножался рак, о чем его жена сказала по телефону их сыну в Америку, и сказала слово «два месяца», съев одновременно всю помаду со своих губ.