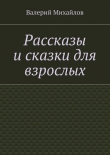Текст книги "Нора Баржес"
Автор книги: Мария Голованивская
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Ему нравится их полемика. Он считает, что побеждает, потому что парит над полем боя.
Она, как всегда, злится от его демагогии: хочет просто выведать, а делает вид, что умник-разумник.
Если ответишь очень четко, зачем тебе все это знать, я тебе расскажу, – подытоживает она.
Я хочу убить тебя, – шутит он, – и шью тебе дело. Чтобы меня потом оправдали.
Понятно, – сказала она после небольшой паузы. – Тебе с какого места рассказывать про коленки? Тебе для понимания как будет лучше?
С самого начала, – внезапно сухо, как во время делового разговора, когда речь заходит, наконец, о суммах, отвечает он. – Прямо с самого начала, во всех подробностях, как ты любишь, до темноты в глазах.
Они вышли из ресторана и побрели в сторону огромного королевского парка с множеством причудливых птиц и старинных деревьев.
А подробностей никаких нет, – после долгой паузы с некоторым злорадством отвечает она, – нечего рассказывать.
Как нечего? – попадается он в ловушку.
Злится, что попался. Злится, что не был готов к этому известному повороту событий.
Выхватил, как саблю, телефон.
Я помогу тебе.
Обиженный мальчишка.
Голосом, полным почти рыданий, тем самым голосом, которым – он знал это с молодости – нельзя говорить с женщиной. Особенно с этой.
Я помогу тебе.
Теперь нажмите на ключик.
Послания. Вот они. Его холеные пальцы с маникюром чуть подрагивают. Сейчас он ненавидел этот маникюр.
«Радость моя. Смотрю на закат без тебя».
Или.
«Так долго тянется вечер, скучаю, не дождусь, когда увижу тебя, радость моя».
Помог?
Сейчас будет еще.
Послания. Отправленные.
Давай из последнего?
«Я не получаю от тебя писем? Отчего? Может быть, ты не получаешь моих?»
Или: «Риточка, девочка, звонила тебе, не отвечаешь, не перезваниваешь, неужели и ты иногда хандришь, как твоя Нора? Перезвони».
Она очень страдала.
Она курила одну сигарету за одной. Эта поездка ей была невыносима с самого начала. Эти новые кожи для нее, придуманные другими людьми, пускай даже специальными, не стоили этого ада. Она радовалась им автоматически, она радовалась для проформы.
Она страдала от разлуки.
Глупейшей, потому что автоматически принятой.
Она страдала оттого, что буквально за неделю до окончательного подтверждения этой поездки ему, губошлепу, отцу ее дочери, перед которой, конечно же, как и перед всем миром, виновата, вдруг поняла, что влюблена по-настоящему, что грезит о глупостях, неприемлемой ерунде, завтраке вдвоем, ужине вдвоем, празднике вдвоем, дурацкой головной боли рядом друг с другом… И одновременно с этим так же отчетливо поняла, что уже не так интересна, не так привлекательна, не так желанна.
Что скажешь? – натужно светски улыбнулся он.
Его вопросы ранили ее. Все, что напоминало о Риточке, ранило ее. Она привычно и неболезненно служила женой, согревала любовью, мерила тряпки. Но она не могла выносить прикосновений – неважно чьих – к этой ее отчетливой ране.
Потому ли Риточка охладела, что она так и не пошла на то, чего та от нее добивалась? Теперь она уже была готова пойти.
Если так нужно.
Но чего же Риточка добивалась?
Она не знала отчетливо.
Хотя именно теперь это был бы самый неосторожный шаг: риск все испортить неумелостью, неловкостью, риск соединить воедино, вполне себе по отдельности сносные вещи – влюбленность и влечение. Соединенные, они смертельны. Норочка прекрасно подсчитывала вперед, перебирала последствия. Норочка прочно усвоила эту опасность с младых ногтей, когда с ней приключилось нечто подобное и она…
Про коленочки? Их не было.
Он чуял, что она страдает. Именно сейчас он сформулировал для себя, что именно это его и бесит: она страдает, что у нее есть чувства и принадлежат они не ему.
Брось ты, – он коварно смягчился. – Ты же моя жена, и мне кажется, ты попала в беду. Я должен предостеречь тебя.
Она почувствовала раздражение, которое в сочетании с болью моментально превращалось в агрессию.
Он почувствовал, что фальшь сейчас – наилучший способ задеть ее, и остался доволен сказанным.
Лучше просто расскажи все по порядку, – ласково попросил он. – Что у тебя с этой девушкой. Я знаю, вы переписываетесь, часто говорите по телефону. Ты откуда ее знаешь?
Она что-то уверено рассказывала про стажерку, дипломницу.
Он слушал, улыбаясь, как она врет, зная твердо, что добьет ее ложь одним щелчком по ее же телефону с окошечком.
Она тоже знала это, но ей было наплевать. Именно так, как бывает наплевать ей, Норочке – с размаху, огульно, когда вся ее рассудительность внезапно превращается в одно оборонительное движение под названием «наплевать». И не от импульсивности или глупых эмоций, а по расчету.
Она отчетливо помнила, как тогда, на этом фальшивом празднике, присутствие забавной девчонки сделало все легким и приятным. Она помнила, какую внезапную радость вызывали в ней ее вьющиеся волосики, острый нос, светящееся молодостью лицо. Она несколько раз поэтому подходила к ней во время мероприятия, даже дотронулась до ее локотка, что для нее, брезгливой чопорной и очень церемонной Норы – чрезвычайное происшествие.
Поэтому она и согласилась пойти на очередной фальшивый праздник имени то ли автомобиля, то ли ювелира, увенчать который должна была ненастоящая коррида с гуттаперчевыми быками и тореадорами-трансвеститами. Поэтому она и не ушла оттуда, немедленно почувствовав отчетливую гадливость, что не могла ее обидеть, эту златовласку, не хотела ее расстроить и – может быть, уже тогда, кто знает? – хотела любой ценой побыть рядом с ней как можно дольше.
Что же с тобой происходит, Норочка, несешь невесть что?
Голос его прозвучал пусто и сухо, сделался чужим и безучастным. Это не ранило ее, но как-то обострило болезненность от вот уже четыре часа не перезванивающей Риточки.
– Я на допросе или на исповеди? – ее правая тонкая и острая, как сабля, бровка внезапно взмыла к середине лба. – Что ты потрошишь меня, как дохлую курицу?!
Он уткнулся глазами в ее пальцы, тонкие, с характерным расширением среднего сустава, почему-то представил себе кастрюлю с вареной курицей, знаменитым еврейским зельем, и внутренне содрогнулся от брезгливости ко всему еврейскому. Это было чужое. Это было враждебное ему чужое.
Хитрость, расчетливость, коварство, корысть.
Западня для каждого, кто попытается распутать сеть. Паутинка, беззащитная, ажурная, очаровательно хрупкая для каждого, кто лишь полюбуется ее трепетанием на солнце, да и смахнет небрежным чуть неуклюжим движением к чертям собачьим.
Норочка не уходила с фальшивого праздника, потому что не хотела расстроить Риту. Рите было восторженно-прекрасно среди организованного ею самою действа.
Сколько тебе платят за всю эту фантасмагорию? – чуть раздраженно спросила ее Нора на обратном пути.
Почему фантасмагорию? – искренне изумилась Рита, обдав Нору такой неподдельной радостью и таким сиянием молодости, что Норе стало даже неловко за свой вопрос. – Это просто праздник, Норочка, знаешь, праздник – этот особое состояние души.
И добавила:
Мне платят три тысячи в месяц.
В этой фразе Нору шокировало все – и Норочка, и состояние души, и три тысячи в месяц.
Но в данном случае ее шок, замешанный на неприятии действа, был совершенно иным, чем обычно. Ее влекла непонятной притягательностью и сама Риточка, с ее запахом, цветом, звуком, и исходившая от нее пошлость – своей, в первую очередь, недоступностью для нее. И конечно – фирменная риточкина легкость, именно таким словосочетанием Нора определила главное ее качество – фирменная риточкина легкость, такая удивительная, органичная форма приятия всего-всего и радость от той жизни, что проникает ей внутрь через поры.
Хорошо, я отвечу тебе.
Она посмотрела на его вдруг сделавшееся измученным лицо. Он глотал анисовую водку, потел, его лицо вдруг посерело, потускнело, постарело. Они сидели в кафешке у королевского пруда, и в его глазах отражалась вода. Он был похож на разряженного вурдалака в красном клетчатом шарфе и с белесыми блестками в глазах. На смертельно уставшего вурдалака, отравившегося нехорошей кровью, разломавшего зубы об ее каменную плоть.
Хочешь знать?
Что между вами происходит? Кто она? Что вы делаете?
Она девушка-затейник. Ей двадцать пять лет. Ее зовут Рита. Мы познакомились на празднике в Музее, помнишь, я открывала там коллекцию живописи? С тех пор мы подружились, ходим куда-то, говорим о чем-то, никакого преступления.
Ложь.
Он внезапно вышел из себя. Разъярился от собственной усталости.
Я разведусь с тобой и отберу у тебя дочь.
Ложь – это просто препарированная для других правда.
Он орал среди королевского парка, хлопающих крыльями разномастных птиц, вежливых аборигенов, из последних сил не замечавших супружеской размолвки.
Я отберу у тебя Аньку, слышишь, гадина?!!!
Он неуклюже встал, опрокинул стул.
Она устало посмотрела в его сторону, закурила. Подскочившему официанту спешно заказала воды без газа.
Она и сама думала, точнее, мечтала, видела в странных несвойственных для себя грезах, что пребывает с Риточкой в маленькой белоснежной залитой солнцем квартире на небесах-стрит, или небесной роад. Без Анюты. А к ним, болтуну-говорону и дочечке-строчечке, приходит повидаться изредка на землю, и они радостно все втроем пьют чай и лопают любимые Анькины кексы, с разноцветными цукатами и прочими сказочными чудесами.
Но почему Рита не звонит?
Она хотела было позвонить сама, но, не обнаружив телефона, так и осталась сидеть за своей водой и сигаретами, раскладывая в голове вопросы, требующие немедленного решения.
Он ушел, вернулся.
Встал, сел.
Она посмотрела на него: полупьяный с серым лицом и расковырянной как прыщ душой.
Ты уверен, что хочешь копаться в этом с риском не вернуться никогда назад, туда, где мы сейчас сидим – ты и я, и Анька, и наша дурацкая, но жизнь?
Да.
Да?
Да.
Они угрюмо побрели домой. Он покорно тащил хрустящие пакеты, плелся, словно на эшафот, от которого ожидал и муки, и чуда, и избавления, и надлежащего событию урока.
Они молча доехали до подъезда, поднялись, щелкнули замком входной двери.
Он сел в гостиной в кресло, как был, в пальто и клетчатом шарфе.
Она сделала то же самое, решив, что раз он выбирает драму, то пускай будет драма.
Я ведь не должна тебя развлекать своей историей, живописать ее и приукрашивать тебе на потребу? Ведь нет? Тогда все очень просто. У меня любовные отношения с женщиной. Ее зовут Рита, ей двадцать восемь лет.
Ты же говорила – двадцать пять?
Эти любовные отношения полноценны, они затрагивают все то, чем дорожат люди. В мои планы не входило разрывать из-за них наш брак, хотя нередко я грезила об этом. Мне кажется, что в последнюю неделю моя Рита несколько утратила ко мне интерес. Я ответила на твои вопросы?
Он завыл.
Она сидела неподвижно в кресле, курила, смотрела прямо перед собой.
Вы только послушайте, – выл он, щелкая телефоном с окошечком, словно затвором. Палец его перелистывал времена и даты их любви, пытаясь зацепить нечто позабористей, но любовная ткань все соскальзывала с сумасшедшего пальца, превращаясь в обычный шум чужих слов и выветрившихся знаков препинания.
Вы только послушайте, выл он по-волчьи: «Норочка, ты самая лучшая на свете, самая красивая на свете, ты и есть свет, мой свет, твоя Рита». «Риточка, мы так с тобой чудесно гуляли вчера, такой был осенний свет, такая красота переулков, особняков за оградами, ты такая волшебная девочка, моя Риточка, благодаря тебе я вспомнила, что столько радости вокруг и столько волшебства».
Гааадость!!!
У него не получалось уличить. И он продолжал выть. Он бился головой об стенку, об пол, он грозился поранить себе осколком бутылки – руку, голову, живот.
Она неподвижно курила, потом тихо, но отчетливо произнесла «Прекрати истерику, я уезжаю».
Она встала из кресла, вышла, ушла, исчезла.
Он остался один в разоре, тишине, наполненной тиканьем и миганьем домашних рабов: часов с маятником, проигрывателя с сенсером, телевизора с блютузом, холодильника с кофемолкой, микроволновой печи – не нужных сейчас и бесполезных, как правило. Но они жили, светили, мигали. «Мы здесь, – подсказывали они – не надо ли чего сыграть или заморозить?»
Сволочи, – сказал он холодильнику, проигрывателю, микроволновой печи. – Я убью ее, слышите, сволочи?
Огляделся, встал, прошел по битому стеклу, прислушался.
Почему-то зашторил окна, схватил ножницы, нож.
Раз никого нет, то все можно, – подытожил он. – Будет знать, как уходить среди ссоры.
Прошел через коридор. Вошел в ее-их комнату.
Резанул один пакет, второй, третий. Словно вспорол им животы.
Отсек бирки с глупыми именами, ценники, обезглавив кожи, подрезал платья, оторвал каблуки.
Он казнил ее, совершая над ее тенью то, о чем столько мечтал. Он играл в маньяка, словно мальчишка, получивший от жестоких родителей право вырасти подонком. Он тыкал ножом в грудь, усыпанную кристаллами, он пронзал ее за то, что она каждый день рвала его душу. Он оторвал рукава с замшевыми и меховыми вставками, бормоча проклятия, за то, что она всегда путала имена его друзей. Он кромсал игривые подолы, он плакал, он упрекал ее почти вслух за то, что она никогда не замечала его дел, считая их несуществующими, не достойными быть замеченными. А он старался. А он хотел быть замеченным.
И дальше ножницами, выточки и складочки – прочь, наружу, за Новые года без радости, за путешествия без страсти, за пустоту каждого дня. И так далее, так далее, так далее.
Он заметил ее только, когда она уже докуривала сигарету в дверях комнаты. Молча. Неподвижно. Удивленно.
Поймав его взгляд своими спокойными глазами, спросила:
Что случилось, Паша? Тебе нездоровится?
Он испугался.
Я куплю тебе другие шмотки! Я прощу!
Он вдруг перевернулся навзничь, как переворачивался всегда от страха. Да черт бы с твоими сентиментальными прогулками, – затараторил он, – подумаешь…
Его всегда в какой-то момент осеняло: глупость, глупость-то какая! Столько лет коту под хвост из-за какой-то прогулки вдоль старых московских решеток.
Она ненавидела в нем это бабство. Раз бьешь, так бей, что ж все время пульс-то щупать?
Но он щупал. Он не хотел убить. Точнее, он не хотел убить сгоряча, сейчас он хотел выторговать себе обманом время подумать, поприкидывать, поцокать зубом.
Если ты не дашь мне спокойно собраться, я уеду так, как есть.
Ну ладно Нора, ладно, будет…
Я ничего не должна тебе объяснять, – вдруг смягчилась она, – но я объясню, чтоб ты не думал, что я брезгую. Я свой долг знаю… Это случилось не знаю как, но это как другой воздух. Иной раз вдохнешь и заболеешь, и никто не знает отчего, ищут потом годами злые молекулы, а тут вдохнула и ничего не болит, и так захотелось поиграть, понаслаждаться…
Так я ж не против, Норочка… А она откуда?
Он заиграл пентюха, простака, рубаху-парня. На такого серчать – грех один…
Приехала откуда-то из Казахстана учиться искусствоведенью. Талантливая и веселая. Квартиру снимает, работает в агентстве, организовывает праздники.
Она дотрагивалась до тебя? В этом смысле?
Он посерьезнел, забеспокоился.
Да что ты так, Павлуш… Ну раз или два. Из любопытства только. Выпили как-то шампанского, ты ж знаешь, у меня от него голова всегда гудит. У нее осталась пара бутылок от чьего-то праздника. Ну и что-то там как-то. Но она ж не может как ты…
Они обнялись.
Хочешь, я больше никогда с ней не буду говорить?
Да нет, говори, если тебе надо, я ж не зверь… Только без рук, ладно, Нора? Только так на словах.
Они закатились каждый в свою колею, изъезженную до дыр, отполированную за годы частой ездой. Упростились до прямохождения по накатанной прямой: она хорошая и покладистая и он хороший и покладистый. Ну, побранились, с кем не бывает?
Ей не хотелось уезжать, уезжать без сумасшедших погибших кож, она хотела раздобыть себе новых.
Ему не хотелось уезжать в раздрае и скармливать ее такую оскорбленную Риточке.
Легли отдохнуть прямо среди осколков и клочьев, окровавленных носовых платков, которыми он вытирал руку.
Накрылись пледом, обнялись как дети.
Он спросил, любит ли она его.
Она ответила, что да, любит.
Он уснул.
Она отвернулась спиной, мгновенно ощутив его руку у себя на талии – привычная поза, уже давно ставшая неотъемлемой частью их сна – и прежде, чем провалиться в свой всегда тяжелый и мучительный сон, она, словно наводя порядок в воспоминаниях, аккуратно взяла каждое из них в руки и расставила по местам.
Вот они впервые заходят в Риточкину светлую квартиру. Белые стены, милые картинки повсюду, чудесные цветы на подоконниках.
Вот Риточка показывает ей семейный альбом с фотографиями, вдруг печалится, вспоминая о какой-то тетушке, так внезапно умершей два года назад.
Вот Нора рассказывает ей почему-то о фламандских натюрмортах, где всякая снедь выходит из берегов, раки таращатся, окуни пялятся, раковины сверкают, и они хохочут, как девчонки, переводя это в наименования, живущие в сегодняшнем дне.
Вот Риточка ставит ей светлокожий голос с темнокожим тембром, и он мурлычет «Санрайз, санрайз», а Риточка говорит, что две Норы должны исполнять песнопения хором. И разучивают слова. Потом танцуют и поют другие слова.
Вот Норочка в коридоре, спешит, ведь она забыла обо всем, ей так легко и вольготно, так хорошо в этих улыбках, музыке и цветах…
Рита целует Нору и она ее, раз, и дв, а и три. Они застывают обнявшись.
От Риты пахнет васильками, солнцем, ее розовые щеки сладковаты на вкус. От Норы – темной сладостью знаменитой Пятой Улицы, табаком, оливковым маслом, на которой замешана ее утренняя маска, лицо, личина.
Голос продолжает петь.
Они вместе, пока плывет пластинка.
Какая приятная глупость, – говорит Нора, отрываясь от риточкиного лица и заливаясь еле различимой на темной коже пунцовой краской.
В отличие от многих других, – подмечает Риточка и заливается смехом. – Ты ведь позвонишь мне сегодня вечером?
Конечно, – не отводя своих испуганных и восхищенных глаз от ее золотистых, обещает Нора.
Она мчалась домой сама не своя. Буквально – больше не принадлежащая себе, другая, не такая, как раньше. Она летела, а не плелась, как обычно, под тяжестью невидимого никому груза своего происхождения, мучительных отношений с близкими и далекими. В ней поселился вирус, множащий что-то иное, веселое, не ее, а, напротив, риточкино, звенящее, неудрученное.
Может быть, я не в себе, – спрашивала она неизвестно кого, вечно мыслящая и формулирующая ясно и от этого чувствующая несварение мыслей. – Может, у меня расстройство основных процессов?
Она, вечно сдержанная и вялая, поцеловала пухнущую над уроками дочь, говоруна, застывшего изваянием перед футбольным матчем, она даже не завывала во время телефонного разговора с матерью, конечно, опять все перепутавшей и сделавшей не так, что на этот раз не привело к причитаниям длиной в сорок минут.
Все было на месте, она убедилась и теперь могла подремать. Аккуратно, как всегда, сняла с себя его руку, свернулась калачиком.
Но вдруг почувствовала, что нужно проверить звонки, именно после этой инвентаризации они могли проклюнуться – и точно: окошечко изобразило послание, и она выскользнула с телефоном в руках в ванную и зашептала, вернув назад, в Москву, один из десяти пропущенных звонков. Ее голос почти пел, она не чувствовала ни обиды, ни беспокойства.
Риточка… Так хорошо, что ты подошла, что ты звонила. Готовили опять фантасмагорический праздник, господи, да есть ли конец этим праздникам? Что ты говоришь, милая? Здесь прекрасно, ну, конечно, прекрасно, милая. Что ты говоришь? Мы вернемся через неделю… Куда уедешь?
Она увидела Пашу в проеме двери и не заметила его. Он присел на край унитаза, закурил. Она говорила с ней о прошедшем времени, только нахваливая его, чувствуя на том конце прямой, соединяющей их в эту минуту, какую-то пустоту, но внутренне списывала это на расстояние, так сказать, на дальность полета. Просто слова чуть-чуть выветривались, считала она.
Паша, сколько километров от Москвы до этого Города?
Ты выкрала у меня купленную вещь, – тихо, до конца не доверившись никакой из интонаций, произнес он. – Воровать плохо.
А знаешь, что ты у меня украл? – спросила она ледяным голосом.
Ладно, пошел паковаться назад, – выдохнул он.
А что, – парировала она молниеносно своим очень ровным и тихим в критических ситуациях низким голосом, – что ты можешь сделать такого в Москве, чего не можешь сделать здесь? Бросить меня? Наводнить дом в отместку мне блудницами? Геями? Предаться безрассудному саморазрушению, чтобы заставить меня виниться, страшно страдать, как я страдала всегда? Так все это можно сделать и здесь, начать делать здесь, ведь это только иллюзия, Паша, что, улетев отсюда, мы денемся куда-то от самих себя, и где-то «там» нам будет легче. Действуй!
Он глянул на нее, громко вздохнул, подошел к окну, посмотрел вниз на уютное свечение кафе на углу, на быстро шныряющих по улице аборигенов с поднятыми воротничками, на припарковавшееся у подъезда такси с рекламой какой-то оперетты на боку.
А ведь ты, как всегда, права, – улыбнулся он, – надо действовать сейчас. Мы, как и собирались, уедем через неделю, но только погуляем порознь! Благородный и мудрый план!
Он присвистнул, цокнул зубом, радостно заходил по комнате.
Я действительно всегда права, – вздохнула Нора, закурив мужские сигареты из сигарной крошки. – Я так и знала, что ты так поступишь.
Он ненавидел эти «я так и знала», он чувствовал от этих слов нервный зуд по всему телу, но он был окрылен внезапным чувством освобождения и легкости. Он, казалось, больше никак не зависел от этой всепроникающей и тяжелой, как дым мужских сигарет, женщины. Он словно сбросил ее с себя и полетел, полетел…
Парки Ее Величества простирались у него под ногами. Он летел над ними, размахивая полами плаща и концами гигантского полосатого шарфа, как человекообразный пеликан, у которого розовый зоб полон первосортных свежих икринок.
Он был богат уловом.
Он пил кофе и горячий шоколад из стаканчиков с рифленой защитой для чувствительных к ожогам человеческим пальчиков, он звонил по телефону – сначала дочери Анюте, которой послал горячий, как этот шоколад, папин привет; потом набрал художника Петра Кремера, который по-прежнему писал пейзажи то в Испании, то в Италии; потом Майклу – надежному до тупости партнеру в общих коммерческих делах.
Анюта заверила, что папу очень любит.
Петр Кремер сказал, что катается на лыжах во Франции и подъедет через пару дней повидаться со старым другом, а заодно – может быть – кто знает – наконец-то намалевать его портрет.
Друг Майкл сказал примерно о том же – праздники, контора закрыта, подъедет кое-что обсудить-решить и прочее.
Он был доволен такой перспективой. Хорошая компания, веселые деньки.
Соорудив себе ближайший week, он принялся за непосредственно лежащий под его ногами, как и парк Ее Величества, день. Он подобрал его, разглядел: миленький, кругленький, ясненький, несмотря на собирающийся, по обыкновению, к вечеру дождь и порывистый ветер, и зябкость, забирающуюся за пазуху.
Он сел в ресторанчике на узкой улице, заказал равиоли, за соседним столиком студентка в брекетах уверено прихлебывала из огромного стакана ледяную кока-колу. Он заговорил с ней, как подросток, а она с ним, он съел равиоли, она закончила колу, они сели вместе и болтали, сначала о России – он очаровал ее талантом рассказчика и юмором, потом про университеты в Европе, про женихов и надписи на скамейках в парках, они пошли по улице, они посмотрели фильм о молодом поддонке, соблазнившем английскую аристократку, они обсудили фильм, и она ушла на вечерние лекции. Он был счастлив. Они скинул двадцать лет. Он захотел молодой кожи, глупых рассказов, прошлого как чувства, которое можно воскресить в себе умелыми манипуляциями.
Он дошел уже по темным улицам до ласково мигавшего днем, а теперь совсем откровенно подмигивающего кафе на углу, где белый, пастозный, слюнявый парень с водянистыми, как обезжиренное молоко, глазами говорил ему об «этой суке», которая «все у него забрала», а другой, в вязаной шапочке, странно подпрыгивающий на пружинящей подметке экс-замшевых кед, толковал примерно о том же, но с вариацией – он вытянул ее из дерьма, а она его в него втолкнула.
Разговоры зрелых мужчин всегда об этом, – подытожил Павел, запивая каждый поворот мысли рассказчиков доброй пинтой пива.
Он напился, сначала средне, потом очень, потом страшно.
Он плакался им по очереди, откровенничал, материл российских казнокрадов, людей – сплошь тупиц, друзей – сплошь попрошаек – и, наконец, ее, вымотавшую душу, связавшую своим страданием, бесчувственную, вымороченную, пренебрегающую и, главное, неблагодарную.
Его привели домой. Она дала за это денег. Раздела, доволокла до кровати, поставила рядом на тумбочке стакан с водой. Все это молча, впрочем, как обычно, молча.
Он что-то мычал про чайку, про бессмысленность повторения пройденного, но она никак не реагировала, спокойно, холодно, профессионально исполнила выверенные движения с пуговицами, молниями, шнурками, как ассистент патологоанатома, как еврейская жена с пьяным русским мужем.
Она очень намучилась в этот день. Темные мысли под смуглой кожей. Она звонила Риточке и то не могла дозвониться, то та не могла разговаривать, потом она слышала звон ее голоса, переливы ее смеха, заверения, что та скучает, изящные зарисовки ситуаций – пейзажи, портреты, что пронеслись мимо нее или сквозь нее за этот день.
Она, как всегда, долго лежала под пледом на диване в гостиной, куда и пошла сейчас спать, очень много курила. Звонила маме, опять почти плакала от беспомощности и жалости к родителям. Мельком, вскользь говорила с дочерью, как всегда, задав ей слишком много неудобных вопросов. Но главное, конечно – чтение: она обожала книги, она упивалась ими, в этот день она проглотила с потрохами прекрасное повествование о некоем пианисте, приехавшем на концерт, который он не помнил, как назначил, и с ним стало приключаться разное необъяснимое, яркое, не-его. К вечеру она хрустнула корешком, проглотила окончательно, облизнулась и заурчала бы надолго, если бы не вспомнила о так заурядно загулявшем муже и дурацкой жизни последних месяцев, которую совсем не понимала, за что очень винилась и перед собой, и перед «всеми близкими».
Не понимала и только поэтому была влюблена, ведь обычно понимала все и досконально. Она не хотела понимать, а хотела, как эти дуры вокруг, просто чувствовать, так сказать – пребывать. То, чего не чувствовала обычно: свет и тень, легкость и тяжесть, облечение и боль. У нее появилась возможность из каждой приведенной пары выбирать первое, а не второе, что само по себе было уже признаком мутации: разве не ее бабушку сожгли в Бабьем Яре, разве не ее деда расстреляли, разве не ее отцу не давали заслуженных должностей и почета, отчего он так рано растерял силу? Разве не ее дразнили во дворе жидовкой, оттирали от игр, несправедливо засуживали? Какая легкость и свечение могут рождаться в душе среди эти грубиянов, хамов, недалеких умом, неопрятных баб и мужиков, которых возможно после всего содеянного только презирать и, презирая, использовать? Обирать, обманывать, насыпая им за пазуху для утоления бдительности обыкновенной трехрублевой лести или пятикопеечного якобы уважения и интереса к их персонам.
Она мутировала, Норочка в норочке, она мутировала после того, как в нее проникли секунды риточкиного смеха, атомы рыжих кудряшек, префиксы и аффиксы воздушных реплик и микропиксели таких же рыжих, как и волосы, риточкиных глаз.
Она чувствовала, что имеет право на свет и легкость, она знала, что они, «эти близкие», обязаны это стерпеть в обмен на ее многотерпение и многострадание. Да она, Норочка, была лучшим, что получил нахаляву этот неотесанный торговец чужими озарениями, эта дешевая дешевка, эта человеческая фикция, незаметная на фоне таких нехитрых биологических феноменов.
Он храпел за стеной.
Она не могла спать.
Она курила.
Он, не просыпаясь, пил воду.
Она приняла снотворное и, когда он около восьми утра отправился на кухню опустошать холодильник, почувствовала первые волны сна.
Так было тысячу раз: она засыпала под утро со снотворным под его шарканье и шварканье.
Последнее, о чем она подумала перед тем, как уснуть тяжелым, неправильным сном, были деньги, точнее – их отсутствие. Она, по сути, нищая, на новые кожи у нее есть только унизительно добытые десять тысяч, а что будет, если она расстанется с Павлом – и подумать страшно.
Он, конечно, не даст мне ничего, если я уйду от него, и я, как всегда, буду должна побираться, ведь на жалование реставратора нельзя даже снять приличную квартиру…
Она собралась привычно взрыднуть, но таблетка взяла свое, и она провалилась в черноту, знакомую и изведанную, неприятную и мучительную.
Ее взаимоотношения с деньгами были противоречивы. Она жила не по правилам, предписанным для их получения, она не ведала множества способов приобретения их. С одной стороны, между ней и миром пролегало искусство, сценарии взаимоотношений, чопорные, неповоротливые менуэты, не предполагающие соприкосновений. Она годами общалась с людьми, демонстрируя вялую повадку к сближению, могла не преступать, воздерживаться порой даже от необходимого, хотя и отличаясь при этом живым умом и даже временами искрометным остроумием.
Она была неловка, много, часто, излишне подробно извинялась и чаще вызывала этой манерой обожание и восхищение, нежели равнодушие и ответную вялость. Ее или почитали, или ненавидели. Ее устраивала такая человеческая атмосфера вокруг, потому что именно такими были настоящие героини тех многостраничных томов, которые она поглощала регулярно и без которых не мыслила себя. Великие женщины из великих томов проводили внутри нее ежедневную перекличку, раскачивались на качелях ее нервных волокон, перемигивались и подкалывали друг друга.
Но все-таки на других качелях раскачивалась она сама, обожая деньги, грезя о них. Она хотела богатства и знала бы, что с ним делать и как в нем жить. Она почувствовала в себе первый росток этого греха – а она ощутила грубую фактуру подобного удовольствия именно как грех – когда впервые купила себе баснословно дорогие сапоги. Замшевые, черные, выше колена. Делающие ее откровенно обольстительной. Она запомнила это удовольствие, сформулировав происшедшее как «нашалила», и продолжила дальше, шокируя безумным размахом покупок и себя, и других.
Платья, блузки, часы, бриллианты. Сумки – дюжинами за год, равно как и сапоги, туфли, жакеты. Для этих ее кож в доме была специальная комната, туда относилось то, что больше не жгло, что слишком пропиталось запахом ее темной кожи или уже выстрелило пару раз в невинную жертву, которую она и не думала превращать в собственную добычу. Раздавала не глядя. Несносное притяжение, которое вещь источала своей красотой и дороговизной, выветривалось со скоростью чайного аромата. Она потом почти не помнила подробностей ни покупки, ни расставания, не помнила сумм, не помнила, чем жертвовала ради обладания вещью.