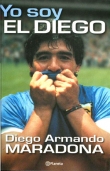Текст книги "Рыцарь без меча"
Автор книги: Мария Дмитриенко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)
ХУДОЖНИК ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА
В Севилье маэстро ожидало несчастье. Горела, металась в жару маленькая Игнация, плакала над нею измученная донья Хуана де Миранда. Смерть, которая несколько дней стояла у изголовья девочки, казалось, только и ждала того, чтобы вернулся отец.
На кладбище, где обрело вечный покой тельце крошки Игнации, близ церкви, у самой ограды, дон Диего нашел могилу отца Саласара. В Испании нет обычая плакать над могилами. Но разве только слезы могут выражать горечь утраты? Художник смотрел на небольшой, уже густо поросший травой холмик и горько сожалел о том, что так и не собрался написать портрет своего наставника.
Мертвые ложатся в могилы, живые же продолжают жить. Опять побежали вереницею дни, трудовые дни неутомимого маэстро.
Слуга Хуан де Пареха не мог надивиться энергии хозяина и учителя, который сутками простаивал у мольберта. Могло показаться, что, макнув кисть в краски, он черпает там силы для себя.
Филиппа IV Веласкес видел всего только раз, когда тот в окружении свиты ехал верхом в свой загородный дворец. Но острый глаз художника схватил в тот момент многое. Кроме того, в королевской коллекции видел Веласкес портреты Филиппа, написанные, когда он еще был инфантом. Он решился писать портрет.
Прошло почти полтора года со времени поездки в Мадрид. За этот период многие портреты вышли за стены мастерской маэстро, чтобы украсить собою лучшие гостиные города.
Однажды утром в дверь дома Веласкеса постучали. Перепуганный Хуан Пареха вылетел на крыльцо. Мимо него, ничего не замечая, почти пробежал дон Пачеко. Через минуту весь дом был на ногах. Радостная весть на сей раз была их гостьей: дон Пачеко получил от дона Хуана де Фонсеки письмо: «Уважаемый граф пожелал вновь увидеть молодого маэстро. При дворе его ждут». Кроме того, дон Хуан высылал на дорожные расходы 50 дукатов, субсидию премьер–министра.
Недолгими были сборы. В тюки бережно упаковали несколько полотен. Карета, почти нигде не останавливаясь, понесла дона Диего и тестя, который на сей раз сам решил сопровождать его в Мадрид. Пронеслась мимо одетая в золотистую дымку Кордова, блеснул золотым копытом на серебряной подкове Толедо.
Путники въехали в строгий, чопорный Мадрид.
Севильянцев тепло встретили в доме Фонсеки. Вызова во дворец можно было ждать со дня на день. За прошедшее время многое изменилось в столице. Королю наскучила его государственная деятельность. Бремя забот о нуждах страны он все охотнее взваливал на широкие плечи своего первого министра, а сам занимался охотой, корридами и другими подобающими лишь королям забавами. Найдя подходящий момент, осторожный граф Оливарес внушил королю мысль, что пора позаботиться о том, чтобы оставить потомкам память о себе, увековечить свой образ в полотнах, выполненных достойнейшими из художников. Король счел слова графа справедливыми. Тогда–то граф попросил Фонсеку вызвать в Мадрид молодого маэстро из Севильи.
Дни ожидания по обыкновению текут очень медленно. Веласкес решил не терять времени даром и начать писать портрет своего покровителя дона Фонсеки.
Не успели высохнуть на полотне краски, как сын графа Пеньяранда дон Антонио, бывший камергером инфанта кардинала, попросил у художника разрешение показать портрет при дворе.
Признание на сей раз сразу пришло к молодому маэстро. В одном из залов дворца собрались придворные. Со всех сторон слышались похвалы таланту Веласкеса, воздавалась хвала его кисти. Двери отворились, и в зал вошел король. Перед ним почтительно расступились, с поклоном давая дорогу. Он прошел на середину зала.
Все присутствующие ждали, что скажет король, который считался знатоком и ценителем искусства. Филипп IV смотрел на портрет. Ни одна черточка не дрогнула на его лице. Молчание длилось долго. Затем он повернулся к премьер–министру и спросил о художнике. А потом, всем на удивление, выразил желание позировать маэстро, добавив при этом, что тот отличный портретист.
В этот вечер во всех аристократических домах столицы только и было разговоров, что о портрете дона Фонсеки и не известном пока никому молодом маэстро. Высказывались разные суждения, но все сходились на том, что талант Веласкеса несомненен и ему повезло, коль сам король Филипп IV решил доверить ему свой портрет.
Взволнованный дон Пачеко писал в тот вечер друзьям и родным в Севилью: «В течение одного часа весь дворец признал редкие качества портрета». Учитель больше, чем ученик, упивался успехом.
В жаркий полдень 10 августа 1623 года, когда столица изнывала от нестерпимого зноя, прохладными галереями, минуя огромные залы, по королевскому дворцу к покоям короля спешили несколько человек. Среди них не очень высокий, худощавый, хорошо сложенный юноша. Его немного великоватая голова отлично была посажена на сильной, мускулистой шее. Большой выпуклый лоб обрамляли длинные черные волосы, кольцами ложившиеся на высокий белоснежный кружевной воротник. Небольшие черные, очень выразительные глаза блестели под густыми бровями. На губах проступала улыбка. Ничто в облике молодого человека не говорило о том, что через несколько минут будет решена его судьба.
У высокой резной двери шедшие остановились: здесь нужно было ожидать вызова. За дверью тем временем граф Оливарес докладывал королю о художнике. Внезапно Филипп IV улыбнулся, что с ним случалось довольно редко. Граф Оливарес уж очень ходатайствовал за севильянца! Он кивнул премьер–министру в знак того, что все отлично понял, и сделал гофмаршалу жест впустить ожидавших.
Двери широко отворились, и в тишине королевского кабинета прозвучало:
– Диего Родригес де Сильва–и–Веласкес.
Маэстро шагнул на середину кабинета, опустился на одно колено и низко наклонил голову. Молчание длилось всего несколько секунд. Когда он поднял глаза, то прямо перед собою впервые так близко увидел короля Испании. Они внимательно, с интересом смотрели друг на друга, восемнадцатилетний король и двадцатичетырехлетний художник. Король выждал еще несколько секунд и потом начал первым по обычаям испанского церемониала.
В группе людей, стоявших за спиной маэстро, послышался едва заметный ропот. Невиданное дело – король с таким почтением обращается к этому юнцу! Даже мертвые зашевелились бы от удивления, услыхав подобное из августейших уст. Король нахмурился, ему не нравились вздохи–предупреждения. Филипп говорил о том, что важные дела занимают очень много времени и потому тратить его специально для позирования непозволительно. Неожиданно для всех он повелел гофмаршалу с этого дня отдать приказ допускать маэстро в любое время в королевские покои. Пусть он поймает момент и напишет картину.
Художник низко поклонился. Аудиенция была окончена.
День 30 августа стал днем, принесшим молодому севильянцу, кроме известности, еще и славу. Портрет короля был закончен. Для всеобщего обозрения его выставили во дворце. Филипп IV был доволен. В жизни он не отличался особой красотою, маэстро же сумел придать его лицу силу, взгляду бодрость. Портрет стал выражением сурового достоинства короля. Придворные в один голос заявили, что ничего подобного до сих пор не видели. Это повторялись слова всесильного Оливареса. Триумф был очевидным.
На следующий день от имени короля премьер–министр призвал к себе художника.
– Отныне вы, маэстро, будете писать портреты его величества и членов его семьи. Король жалует вам в знак особого расположения титул придворного живописца. Это великая честь. Только трудом своим вы можете ее оправдать.
Глядя вслед уходившему художнику, граф думал о том, что этот талантливый юноша должен, обязательно должен писать и его особу, чтобы прославить его на века. Как ошибался всесильный граф! Полотна художника могли прославить только одного человека – Веласкеса.
«В последний день октября 1623 года, – писал дон Пачеко в своем дневнике, – Веласкесу был прислан титул с 20 дукатами жалования в месяц с оплатой его произведений, сюда же были включены доктор и лекарства».
Художник прощался с Севильей, цветущим городом детства, городом сбывшихся мечтаний. С собою в Мадрид он увозил частичку андалузского солнца, чтобы там среди словно подернутых дымкой сероватых холмистых равнин оно напоминало ему родину. Все вещи и картины были тщательно упакованы. Взволнованный Хуан Пареха бегал между сложенных горою вещей и отдавал возницам последние наставления. Он был в том счастливом возрасте, когда не особенно задумываются над тем, что принесет дорога, а важно лишь одно – быть в движении.
В последний раз прошел маэстро еще спящими улицами Севильи, по дороге завернул в погребок старого Родриго, где старик и Марианнелла сказали ему в напутствие столько хороших слов, что их с избытком хватило бы на три жизни. Прощай, Севилья, белоснежная красавица! Он покидал родину для того, чтобы навеки обессмертить ее имя.
Веласкес стал придворным живописцем. С этого времени вся жизнь художника была тесно связана с жизнью королевского двора, органически вплелась в него, чтобы потом быть для потомков зеркальным отражением эпохи Филиппа IV.
Семья художника поселилась в самом центре Мадрида, близ громадной новой площади – Пласа Майор (Большая площадь), которая служила местом всевозможных парадных представлений, рыцарских турниров, народных празднеств, а также местом исполнения акта веры – постановлений «справедливого» церковного суда – аутодафе. Дом художника был светлым и просторным. Только новые его жильцы никак не могли привыкнуть к большим ставням на окнах и каменным полам в некоторых из комнат – в Севилье такого не было. Дело в том, что лето в Мадриде длится чуть ли не девять месяцев, и стоит такая жара, что только ставни и прохлада пола бывают хорошей защитой от зноя.
В распоряжении художника были две мастерские. Одна на Пласа Майор, а другая в одном из крыльев королевского Альказара.
Дворец Альказар хранил черты восточного стиля. Перестроенный из старинной мавританской крепости, он был мрачным и угрюмым. Попав сюда впервые, маэстро поразился неприветливости внутренних покоев. Обставленные с великолепной роскошью, они не носили отпечатка обжитого помещения. Окна его мастерской, в общем больше похожие на крепостные амбразуры, были обращены на запад, к мелководному Мансанаресу. Когда к концу дня солнце, уставшее за день, наконец, заглядывало в мастерскую, оно постоянно видело человека, быстро наносящего кистью мазки на полотно.
С первых же дней пребывания на новой должности Веласкес понял, что у него в жизни уже не будет спокойных и свободных дней. Утро начиналось с того, что он тщательно проверял свое платье: королевский живописец должен быть безупречно одетым. Требовательна испанская придворная мода! Казалось, что может быть легче – черный камзол с большим белым накрахмаленным воротником. Но так могло казаться только со стороны. Фасон камзола тоже строго предопределялся, материал соответствовал временам года – шелк, бархат, сукно. Маэстро невольно улыбался, вспоминая, что первым его книжным приобретением в Мадриде была книга «О правилах поведения придворного». Да, да, придворного.
Утром и вечером, совершая прогулку от дворца к дому, он разрешал себе отдохнуть и поразмыслить. Интересно, что бы сказал почивший отец Салаеар, увидев его теперь? Может быть, он нахмурил бы свои густые оставшиеся до старости черными брови, тряхнул бы седою головой, что было признаком крайнего неудовольствия. Или просто сказал: «Мальчик мой! Не сделал ли ты ошибки, поспешив расстаться с Севильей? Что даст твоему таланту Мадрид и двор? Не обмельчает ли твоя кисть, не потускнеет ли гений, когда ты изо дня в день будешь писать портреты, так похожие друг на друга? Круг моделей твоих стал очень ограниченным. Все члены королевской семьи похожи между собой. То немногое другое, что напишешь ты в часы, вырванные у сна, не будет определять твое творчество. Не кажется ли тебе так?» – «Нет, падре, – маэстро мысленно продолжал разговор, – это не так. Вы говорите, похожи, но это только для тех, у кого черный цвет – всегда черный, тогда как для меня существует больше пятидесяти его оттенков. Так дело обстоит с цветами. Не похожи и модели. Даже два портрета одного и того же лица художник пишет по–разному. В человеке, кроме внешних черт, есть внутренние, их замечаю я. Не стоит огорчаться, падре. Вы хотите, очевидно, напомнить мне еще о свободе? Мне действительно нелегко. Но я докажу вам, дорогой мой наставник, что не зря был вашим учеником».
Днем раздумывать было некогда. Веласкес писал второй портрет короля.
В гостиных, которые широко раскрыли свои двери перед обласканным его светлостью художником, ему нередко приходилось присутствовать на литературных вечерах.
В доме дона Фонсеки встречался он с поэтом Луисом Гонгорой, своим сверстником драматургом доном Педро Кальдероном де ла Баркой, восходящая звезда которого уже сияла на литературном небосклоне. Приходил сюда любимец и баловень публики дон Лопе Фелис де Вега Карпьо, чьи пьесы шли на сцене королевского театра и всех театров Мадрида, и дон Франсиско Суарес, известный философ, и дон Луис Велес де Гевара, драматург и сатирик, и дон Франсиско Гомес де Кеведо–и–Вильегас, чей блестящий смелый талант завоевал огромную популярность. Дон Кеведо недавно вернулся из изгнания, и его острые эпиграммы, переложенные на музыку, уже распевал весь Мадрид…
Чаще слушая, чем высказываясь, молодой маэстро все более входил в круг людей, которые представляли передовую часть демократически настроенного общества и отличались большой творческой активностью. Даже тут, в салонах, шла скрытая борьба, под улыбкой часто скрывался идейный противник.
Много новых впечатлений уносил художник с собой от этих вечеров. Литераторы и поэты, которые были зеркалом жизни Испании, грезили о создании образа «великой личности». Им казалось, что такой человек, сильный, всемогущий, взявший в свои руки бразды правления, необходим их стране. Объяснялось все это просто: экономический кризис, хозяйственные неполадки, которые в начале столетия казались лишь временным явлением, вросли в быт, стали постоянными. Государственные банкротства следовали одно за другим (1597–1607–1627), повторяясь каждые двадцать лет. Кризис, неудачи в войнах грозили Испании потерей господства и отодвигали ее из числа великих держав. С этим трудно было примириться привыкшей к мировому блеску Испании. И вот в литературе и искусстве этого периода появляется образ человека, который должен вывести страну на прежние позиции.
Немалые надежды возлагала вся Испания на Филиппа IV: от него ждали реформ, которые могли бы изменить положение внутри страны и вывести государство из кризиса.
Размышляя над этим, маэстро понимал, что перед ним, художником, стоит задача изобразить Филиппа IV как надежду страны, создать образ, полный большого значения.
Его высочество несколько раз позировал ему, но маэстро пока не удалось передать на холсте то, чего он сам требовал от портрета.
Наконец портрет был окончен[23]23
По данным книги Margaretta Salinger «Diego Velazquez» (1961, Нью – Йорк), этот портрет был приобретен доньей Антонией де Ипенаретта. Есть расписка, подписанная Веласкесом, в которой упоминается, что он куплен 4 декабря 1624 года. Таким образом, это самый первый портрет короля из известных нам. Первый, о котором речь шла выше, утерян.
[Закрыть]. Он изображал короля во весь рост. Его несколько вытянутая фигура занимала почти все полотно. Гамма цветов портрета строга и сдержанна: черный парадный испанский костюм с неизбежным плащом, белые манжеты и белый воротник, в руке – листок бумаги. Чуть блестит переброшенная через плечо золотая цепь ордена «Золотое руно». Приглушены краски фона.
Все в полотне подчинено желанию художника придать королю побольше значимости. Веласкес передает точный портрет Филиппа IV: некрасивое вытянутое лицо с характерной для Габсбургов челюстью, крупный нос, большой рот, холодный блеск голубовато–серых глаз, выражение горделиво–равнодушное. Но сквозь всю обстановку торжественности и парадности невольно ощущаешь, что перед нами представитель рода с явными признаками вырождения. Сквозь нарочитое внешнее спокойствие пробивается усталость и угнетенность. В силу своего реализма художник не только дал глубокий анализ личности короля, но и воплотил в портрете свое представление об этом человеке.
Счет бесчисленным портретам короля был открыт. С годами по ним можно будет проследить изменения, наложенные временем на черты лица короля, на манеру держать себя.
С каждым новым полотном росло портретное мастерство маэстро. Он делает много зарисовок, эскизов.
Однажды мастерскую, маэстро посетили высокие гости: наследник английской короны принц Уэльский и его фаворит герцог Букингем. Принц, будущий Карл I Стюарт, прибыл в Мадрид по весьма важному делу – он просил руки испанской инфанты Марии. При дворе принимали наследного принца с необыкновенной пышностью. Но среди придворных ходили слухи, что инфанта наотрез отказалась выходить замуж за «протестанта». Пока король Филипп и Оливарес старались уладить дело, принц развлекался. Осмотрев полотна маэстро, он пожелал иметь портрет его работы. Филипп IV милостиво разрешил Веласкесу писать. И маэстро взялся за кисть. Когда портрет был окончен, принц прислал художнику щедрое вознаграждение – 100 дукатов. Эти деньги были очень кстати для молодой, еще не совсем устроившейся в Мадриде четы.
Хотя жизнь испанского двора независимо от каких бы то ни было событий оставалась всегда спокойной и каждый придворный заведомо знал, чем он будет заниматься через несколько лет в этот же день, Веласкес сумел разнообразить свою жизнь. У него были верные друзья, чьи полотна покрывали стены королевских дворцов, – ведь время бессильно остановить перекличку гениев разных эпох.
Кроме того, на художника своеобразно, совершенно по–особому начала действовать окружающая природа. Он пристально всматривался в нее в те недолгие часы, когда ему удавалось с доньей Хуаной де Мирандой и маленькой Франциской поехать за город.
Здесь природа была совсем иной, чем в Севилье. Оттуда он привез в своем сердце бело–сине–серые тона: голубовато–серое море, бело–голубой воздух, синие горы, задумчивую зелень листвы и редкую по красочной гамме гармонию света.
Природа Испании изобилует серыми тонами. В Мадриде они жемчужные, пепельно–серебристые. Такими они запечатлелись и на полотнах дона Диего. Он вспоминал пейзажи других художников–испанцев. Дон Эррера любил серебристо–серые тона. Сурбаран при всей насыщенности его цветовой гаммы не забывал о пепельных; у Эль – Греко среди блестящих, разнообразных красок обязательно встречаются гранитно–серебристые тона с железным оттенком. Заимствования тут не могло быть. Подражания тоже. Просто природа Испании была их учителем. Писать иначе они не могли.
Заинтересовавшись природой мадридских окрестностей, маэстро начал вводить элементы пейзажа и в портреты. Постепенно совершенствуя эту новую черту своего творчества, он добился того, что в его полотнах, как говорили знатоки, стал ощущаться окружающий фигуру воздух. Несколько позже пейзаж, служивший ранее только фоном, стал гармонически вливаться в полотно, становясь средством характеристики портретируемого.
…Еще с вечера в королевском дворце придворные передавали из уст в уста новость. Завтра против церкви Сан – Филиппе, что на Калье Майор, будет выставлен для всеобщего обозрения конный портрет государя работы Веласкеса. Многие с нетерпением ожидали грядущий день.
Были и такие, у кого сквозь приторные улыбки просвечивала затаенная злоба.
Тут нечему удивляться. В придворной среде лицемерие негласно считалось превосходным качеством. Ведь подчас за условностями дворцового этикета умело маскировался карьеризм, за внешностью святоши – распущенность. Бесконечные интриги плелись в королевских дворцах. Не успел молодой маэстро переступить порог королевских покоев, как по двору змеями поползли сплетни. У лжи длинные ноги. Противники не жалели красок, чтобы очернить дона Диего. «Непонятно, – шипели злые языки, – почему его величество так покровительствует этому севильянцу. Ведь все его мастерство (да простит нас бог за оскорбление этого слова) только в том, что он умело пишет головы».
Больше других негодовал на нового королевского художника Висенте Кардучо.
Из своей родной Италии он приехал в Мадрид совсем молодым. На живопись тем не менее у него были уже твердые взгляды – романтизм он считал единственно верным направлением. Время же переросло взгляды художника, тогда как он сам не менялся. Испанская национальная художественная школа была ему чуждой, как и реалистическая живопись Италии, которую он тоже отказывался понимать. При испанском дворе ему нечего было бояться нововведений. Тут царил закон постоянства, старое всегда считалось лучше нового. Он свил себе здесь гнездо, писал скучные полотна и, кроме того, засел за большой трактат. Кардучо задумал на теоретической основе доказать всем, что романтизм как направление в искусстве бессмертен, а всякие нововведения несут крушение и гибель живописи.
Веласкес оказался тем объектом, на который Кардучо и направил весь пыл своего негодования. Мальчишка смеет писать портреты, а другие уже запели, что, дескать, у севильянца есть чему поучиться!
Волновался дон Диего. В тот день он забыл, что любой признак волнения может послужить поводом говорить о его неуверенности. Донья Хуана де Миранда перекрестила его на дорогу. Веласкес надел шляпу, Хуан Пареха взял в руки трость – в Мадриде он становился щеголем, – как вдруг в распахнутую дверь вошли дон Пачеко и Алонсо Кано.
Они приехали в Мадрид вместе с доном Фернандо де Риберой, спешившим во Фландрию. Времени для разговоров не было. В сложившейся обстановке Хуан оказался самым хладнокровным и коротко рассказал приехавшим о происходящем.
На Калье Майор собрались целые толпы народу. Впечатление от полотна было настолько большим, изображение настолько правдивым, что многие силой подавляли в себе желание поклониться его величеству.
Король восседал на отличной верховой лошади. Казалось, он дал ей шпоры и она, чувствуя руку могущественного седока, поднялась на дыбы, чтобы сильным рывком броситься вскачь.
Сколько хороших слов услышал в этот день маэстро! Но и зависть недоброжелателей перешла все границы. Уже от кучки стоявших поодаль художников донеслось, что лошадь нарисована просто ужасно!
К молодому маэстро подошел слуга дона Фонсеки.
– Уважаемый господин! – начал он заученную фразу. – Сеньор Фонсека просит вас и многочтимого дона Пачеко из Севильи посетить их дом в пору, когда прощается с землею солнце.
Передохнув от вычурной и пышной фразы, он продолжал:
– В доме сеньора Фонсеки в честь вас сегодня будет вечер. Друзья придут воздать должное таланту, доставившему сегодня столько радости.
Край солнца коснулся земли, заря угасала. В этот час к дому дона Фонсеки стали съезжаться гости.
В гостиной, где Веласкесу было знакомо все, вплоть до хитрого узора на ковре, собралось немало людей. Дон Фонсека обвел глазами присутствующих.
– Многоуважаемые сеньоры, почтенные дамы и господа! Сегодня вы еще раз были свидетелями триумфа молодого маэстро. Слава требовательна, ей нужны крылья. Лучшие наши поэты, которые оказали честь нашему дому, прибыли сюда, чтобы дать ей их. Мой восторг не сможет заменить их речей. Потому мы просим поэтов прочесть свои стихи.
Первым встал дон Франсиско Пачеко. Он начал:
О дивный юноша!
Возвысься в нимбе
Незаурядного таланта твоего!
Художник воздавал честь другому художнику. Здесь, в доме Фонсеки, царило Искусство.
Потом поднялся поэт Луис Велес де Гевара, известный автор «Хромого Беса». Он, как и дон Пачеко, сложил сонет:
Скажи: портреты видим или души?
Изображенье короля неповторимо,
Как будто ожил мертвый холст.
Поднялся третий поэт – Херонимо Гонсалес де Вильянуэва. Он начал негромко:
Трепещут ивы, и прекрасные цветы
Струят свой аромат,
И трелями своими птицы
Ведут о мастерстве твоем рассказ,
И все живое на земле готово
Воздать хвалу тебе, Веласкес,
За диво дивное –
Творенье рук твоих…
Отзвучали слова хвалебных стихов, от души подаренных известными великому. А он, смущенный, все прижимал свою руку к сердцу, которое гулко билось, преисполненное благодарности.
Награда Филиппа IV была поистине королевской. На следующий день художнику выдали из казны 300 дукатов наградных и разрешение на пансион. Ему предложили переехать на новую квартиру, стоимость которой – 200 дукатов в год – оплачивалась тоже казною. Кроме того, на имя святейшего папы Урбана VIII в Рим было отправлено прошение разрешить выделять королевскому художнику по 300 дукатов с дохода прихода, в котором он жил. Святой отец дал свое согласие.
Но разве деньгами и почестями можно оценить гениальность?