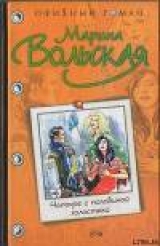
Текст книги "Четыре с половиной холостяка"
Автор книги: Марина Вольская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)
У слесаря механосборочных работ была более крепкая нервная система, чем у нас с Альбинкой, и против идиоматических выражений он имел стойкий иммунитет, а потому всего лишь удивился:
– Ты же говорила, что любишь…
– Слушай, Половцев, катись отсюда, а! – подскочила к нему внезапно вдруг окрепшая Сонечка. – Я врала тебе, понимаешь, врала!
– Зачем? – искренне удивился Вася.
– Надо было! Ну какой же ты идиот!!!
– То есть ты врала, что меня любишь?
– У-у-у-у! – прорычала девочка-эльф. – Уйди-и-и-и!!! Видеть тебя не могу!!!
Такое большое количество восклицательных знаков наконец подействовало на Васю, и он, потемнев лицом, поднялся со стула, на который его по приходе усадила вежливая Альбинка.
– Я его урою! – тихо сказал он, и это прозвучало так убедительно, что в комнате сначала повисла замогильная тишина, а потом ее, как ножом, взрезал крик Сонечки:
– Не-е-е-ет! Васька, не вздумай! Не трогай его! Хочешь, буду жить с тобой, как жена… как ты хотел… Только не трогай его!!!
Сонечка повисла на плече слесаря Половцева, преданно заглядывая ему в лицо. Вася досадливо стряхнул ее с себя уже вполне могучей ладонью, как всуе прицепившегося бледного насекомого-богомола, и, гремя своими «железобетонными трубами», выбежал из квартиры. Сонечка в рыданиях забилась на диване. На Альбинку страшно было смотреть.
Общего между Коньковым-младшим и Васей Половцевым не было ничего. Даниил был брюнетом с яркими карими глазами, а Вася русоголовым и сероглазым. По законам Менделя, ребенок Сонечки и Конькова, скорее всего, должен был бы родиться темненьким в папочку. Ребенок Половцева просто обязан был быть светлоглазым блондином. Это еще хоть как-то можно было бы списать на Сонечку, но она явно боялась, что, кроме масти, ребенок Половцева может получить и вздернутый веселенький носик, которого не было ни у нее, ни у Даниила. Возможно, Коньков этого ничего и не заметил бы, но рисковать Сонечка не хотела и решилась на потраву. А мы с Альбинкой, своевольно вклинившись в ее комбинацию, только подыграли. Она получила возможность все свалить на нас, на неделикатных взрослых дур, которые грязными сапогами прошлись по неокрепшей юношеской психике.
Потом мы узнали, что на той училищной тусовке все действительно здорово напились и даже пробовали курить травку. Немудрено, что Даниил ничего не помнил, вот он и поверил всему, что нагородили ему мы вместе с Сонечкой. Оказалось правдой и то, что она ему и раньше нравилась своей нетрадиционной белокожестью, белоголовостью и нежным серебристым голоском. Девочка-эльф… Вот вам и девочка-эльф!
Но это все мы узнали потом, а после ухода Васи Альбинка потребовала от дочери объяснений. Сонечка рыдала белугой и кричала, что если мать от нее не отстанет со своими идиотскими расспросами, то она перережет себе вены. Я думала, что Альбинка испугается, потому что только что еле-еле выходила дочь после выкидыша и большой кровопотери, но она повела себя совершенно неожиданным для меня образом.
– Режь, – спокойно сказала она. – Папины лезвия лежат в серванте, в коробочке из-под халвы. Они острые. Закаленная сталь. Только имей в виду, тебя похоронят за оградой кладбища, а я никогда не приду на твою могилу.
После этой краткой, но очень выразительной речи Альбинка скрылась от рыдающей дочери в кухне. Я последовала за ней. Мы прикрыли дверь, чтобы не слышать воплей Сонечки, и молча выпили по стопарику дюбаревской водки.
– А Вася ничего, – после довольно продолжительного молчания сказала я. – Симпатичный. А если бы еще и штаны подтянул…
– Да, жаль Васю, – ответила Альбинка.
– А за Сонечку не переживай! Она не станет себе ничего резать, вот увидишь! Она еще не одну комбинацию состряпает, а замуж выйдет не меньше чем за французского посланника. Хотя, может, еще и за Даниила.
– Я ей не дам!
– Неужели расскажешь ему?
– Расскажу!
– Зачем?
– Затем!
Я не удовлетворилась Альбинкиным ответом, но решила больше ее не терзать вопросами и своими замечаниями по поводу и без. Мы еще разик молча выпили, и я поехала домой.
Альбинка сдержала свое обещание, и семейство Коньковых было поставлено в известность обо всем происшедшем. Коньков-младший с дюбаревского подоконника с презрением отвалил, к великой радости их с Сонечкой буйноволосой однокурсницы Кристинки Рябцевой. Сама Сонечка, которой уже больше не имело смысла прикидываться мотыльком и девочкой-эльфом, ничего себе не перерезала, а очень решительно перенесла документы из своего училища в какое-то другое.
Что касается Конькова-старшего, то он, умудренный жизненным опытом, понимал, что мать за дочь не ответчица и что даже на очень хорошей яблоне могут иногда плодиться яблоки с гнильцой. Он продолжал ухаживать за Альбинкой, но она вынести его ухаживаний не смогла. Ей было очень стыдно за дочь, и постоянно видеть в качестве напоминания о ее мерзком поступке лицо Константина Ильича она не хотела.
Другое дело новгородский даугавпилсец. Он опять вошел к Альбинке в фавор, потому что перед ним можно было не стыдиться.
Кстати, если бы Дюбарев был собственной дочерью, то в предложенных ей жизнью обстоятельствах он поступил бы точно так же.
Таким образом, все вернулось на круги своя: Валерий Георгиевич к Хозяйке, Ромочка – поближе к Альбинке, и даже Вася Половцев по-прежнему крутился возле Сонечки. Друг степей и подворотен – грозный половец оказался не таким уж грозным и вовсе не злопамятным. Он слегка подтянул свои «трубы», зарастил бритый затылок и время от времени (кстати, довольно часто) предлагал бывшей девочке-эльфу руку, сердце и даже главную свою драгоценность – гематитовый крест с надежной бычьей шеи. Сонечка по-прежнему кочевряжилась и взбрыкивала, но с каждым днем все слабее. Я поняла, что погорячилась с французским посланником. Думаю, ко Дню Снятия Блокады Вася ее уломает. Ну, в крайнем случае, к Международному женскому дню 8 Марта. А если не выгорит, то к Первому мая – уж точно.
Можно считать, что и я вернулась на некую точку отсчета. Я как бы снова побыла немножко замужем и вышла из «замужа» обратно. Состояние должно бы быть мне знакомым, но я его не узнавала. Мир вокруг меня померк и поблек. Я даже предложила Альбинке еще разок подкраситься под баклажан, потому что она показалась мне несколько вылинявшей. Альбинка покрутила пальцем у виска и предложила провериться у окулиста.
Особенно тяжко было на работе. Главный мужчина моей жизни сидел за соседним компьютером и никак на меня не реагировал. Прошло уже больше месяца с того времени, когда я вручила Хозяйке Медной горы торт с коньяком от сотрудников. Валера так и не сказал мне ни слова. Я ему – тоже.
Юлия Владимировна не могла нарадоваться на мой почасовой рост как специалиста своего дела, а я все чаще и чаще подумывала о смене работы. Поэтому начала покупать газеты типа «Биржа труда» и «Профессия», но долгими одинокими вечерами просматривала длинные колонки все еще довольно бессмысленно, потому что уходить из бюро боялась. Уйду – больше никогда его не увижу. НИКОГДА! Смогу ли я с этим жить?
Однажды вечером я опять задержалась на рабочем месте, что стало уже доброй традицией. Выключив компьютер, я немного подумала над тем, стоит ли накрасить губы, потом решила, что, пожалуй, сойдет и так, и отправилась в наш «еврогардероб». Зайдя за шкаф, вскрикнула от неожиданности. На тумбе у зеркала сидел Беспрозванных.
– Что ты тут делаешь? – спросила я.
– Тебя жду, – ответил он.
– Зачем?
– Поговорить.
«Долго же ты собирался», – подумала я и разрешила:
– Говори.
Валера помолчал, зачем-то смерил меня взглядом, от которого я зябко поежилась, и спросил:
– Это ты принесла торт?
– И коньяк, – уточнила я.
– От сотрудников?
– Ага. От профсоюза и администрации.
– Это была моя жена. Люба.
Люба. Ну конечно! Люба. Любава… Любовь… Разве могли ее назвать по-другому?
– Она так и сказала, что жена, – заверила его я.
– Она бывшая жена.
– Ты мне говорил.
– Ты всем веришь?
– Тебе верю.
– И тебе все равно?
– Что именно?
– Все, что с нами происходит.
– По-моему, с нами ничего не происходит.
Он как-то непонятно хмыкнул и снова спросил:
– Почему ты целый месяц молчишь?
– Ты ведь тоже молчишь, – пожала я плечами.
– Хочешь, расскажу тебе про нее?
– Нет! – торопливо воскликнула я и даже крест-накрест заслонилась руками.
– Ты же хотела все про меня знать! – почти крикнул он, грубо схватил меня за плечи и тряхнул так, что я клацнула челюстями, прикусив себе язык.
– Это было раньше… – прошептала я.
– Нет, я тебе все-таки расскажу! Люба… Она красавица.
– Я видела…
Но он меня уже не слушал. Чувствовалось, что он твердо решил поведать мне их историю. Бежать было невозможно – он цепко держал меня железными пальцами. Мы стояли друг против друга. Лицо против лица.
– Мы учились в одном классе, – продолжил он. – После школы почти сразу пошли в ЗАГС. Весь класс гулял на нашей свадьбе. Она была первой в выпуске. А потом я провалился на экзаменах в институт, и меня забрали в армию. Она писала мне на службу трогательные письма, но, когда я вернулся, она… она жила с моим лучшим другом. – Глаза Беспрозванных были такими больными, будто все это случилось с ним только вчера. – Я сразу подал на развод. А потом началось… Она ушла от Генки снова ко мне, потом опять в кого-то влюбилась… Она уходила и возвращалась, уходила и возвращалась… Я однажды попытался сбежать от нее. Эта квартира, в которой я живу… пока живу… она не моя. Ее брат купил сыну, чтобы тот мог учиться и жить в Питере, когда подрастет… Сами мы из Омска… Так Люба меня и тут нашла…
Валерий остановился, чтобы перевести дух, и я успела подумать, что именно Любины дела он вечно и улаживал, а я грешила на его обнаглевших родственников. А еще я подумала, что передо мной вариант Дюбаревых, вывернутый наизнанку, на левую сторону.
– А я не мог ее не принимать, ты понимаешь?! – Валера еще раз грубо тряхнул меня за плечи.
Меня не надо было трясти. Я его понимала. Ох, как я его понимала! Я видела его Любу, его Любовь, живое воплощение любви в женщине! Если бы я была мужчиной, я тоже не смогла бы ей противиться.
– Что ты можешь понимать, ты же не мужчина! – Он будто услышал мои мысли и, не соглашаясь с ними, тряхнул меня особенно чувствительно.
Я отбросила от себя его руки, отскочила в сторону и почти всхлипнула:
– И что ты от меня-то хочешь?
– А ты чего хочешь? – Он опять отвечал на мои вопросы вопросами. – Ты хочешь, чтобы все так и продолжалось? Ты не против, чтобы я с ней спал?
От этого вопроса к моему горлу опять начала подступать липкая густая масса, которая не сможет пролиться слезами, но и не даст дышать. Я закусила губу и молчала.
– Ну почему ты все время молчишь? – В его голосе слышалась уже настоящая ненависть. – Мне продолжать в том же духе?
Я ненароком бросила взгляд на его плечо. К нему прижималась маленькая малахитовая ящерка, сверкала рубиновыми глазками и шевелила младенческими пальчиками.
– Продолжай, Валера, – сказала я, и успокоившаяся ящерка тут же исчезла в вороте его джемпера.
Беспрозванных одарил меня на прощание тяжелым взглядом и вышел из бюро, гадко хлопнув дверью. Обессиленная, я опустилась на тумбу у зеркала, где он совсем недавно сидел, и закусила кулак, чтобы не закричать от боли и тоски. Может быть, он хотел, чтобы я призналась в любви к нему. Как это обычно водится у мужчин, он хотел, чтобы его любили все женщины, а он выбирал бы, куда ему завернуть на вечерок. Нет! Это мы уже проходили! Это уже вариант Дюбаревых тютелька в тютельку. Этого мне не нужно ни за какие коврижки!
Объяснение с Валерием Георгиевичем в нашем «еврогардеробе» заставило меня более детально просмотреть колонки газеты «Биржа труда». Я выбрала фирму, где требовался продвинутый компьютерный оператор, и решила, что моя кандидатура им подойдет. Фирмачи действительно весьма благосклонно посмотрели на мое профессионально составленное резюме, а потом и на меня собственной персоной. Мне не хватало знаний только одной программы – «Access», то есть «Базы данных», но менеджер, который со мной разговаривал, пообещал обучение за счет фирмы.
Я дорабатывала в нашем милом бюро последнюю неделю из положенных двух. Юлия уговаривала меня остаться, с каждым днем все яростнее обещая, что выбьет для меня прибавку к окладу – не менее тысячи рублей. Но вы же понимаете, что я не могла бы согласиться даже в том случае, если бы она уступила мне свое начальническое место.
Несмотря на то, что я изо всех сил держала хвост пистолетом, беспечно и незаинтересованно говорила о Беспрозванных, если, конечно, приходилось, Надя меня раскусила:
– Из-за него уходишь? – спросила она меня однажды за обеденным кофе.
– Да, – не смогла не признаться я. Очень тяжело молчать о том, что раздирает душу.
– Любишь?
– Страшно.
– А он?
– Любит другую.
– Да ты что? С ума сошла! Он же весь на виду! Какая еще другая?!
– Думаю, что вы скоро узнаете, какая другая.
– Ну, Валерка! Кто бы мог подумать! – всплеснула руками Надя. – Вот тебе и «красные революционные шаровары»! Надо же, каким инфернальным мужчиной оказался!
В тот день, когда я устраивала для сослуживцев отвальную, Беспрозванных не вышел на работу. Когда мы уже садились за празднично накрытый стол, Володька Бондарев спросил:
– А где Валерка-то? Я думал, он в цехе…
– Валерий Георгиевич мне вчера вечером звонил домой и просил оформить ему отгул по семейным обстоятельствам, – ответила Юлия.
При этом сообщении о семейных обстоятельствах Беспрозванных мы быстро переглянулись с Надей, и я сделала на лице выражение типа «Вот видишь!». Модзалевская сочувственно покачала головой, а я похвалила себя за то, что ухожу из бюро. Конечно, я обожаю Надю, уважаю Юлию и очень тепло отношусь к Володьке Бондареву, но культпохода на повторную свадьбу Валеры с бывшей женой не вынесу. Так что все путем… или пучком… так вроде сейчас говорит молодежь. Я все делаю правильно.
Когда закончился наш торжественный обед, я села за свой компьютер, чтобы напоследок навести порядок в его недрах. И обнаружила в «Моих документах» новую папку под названием «Наталье Львовне». Я нетерпеливо щелкнула мышкой. В папке оказался один документ – «Письмо». Я с грустной улыбкой открыла «Письмо», подумав, что это наверняка прощальный прикол Бондарева, и начала читать:
«Я люблю тебя, милая Наточка! Это больше не подлежит сомнению. Я так и не вернул твои ключи, поэтому имею возможность беспрепятственно проникнуть в твою квартиру. Я буду ждать в ней тебя после работы. Если не хочешь меня видеть, набери номер своего телефона и скажи одно слово: «Уходи». Валера»
С дрожью в руках и ногах я тут же подошла к телефону, чтобы сказать ему «уходи». Лучше пусть уйдет сейчас, чем тогда, когда я окончательно прирасту к нему всей кожей. И вот что получилось: я набирала номер собственного телефона четыре раза, но зуммер пищал на предпоследней цифре, и до конца рабочего дня связь завода с городом так и не наладилась.
Напоследок я непростительно бесчувственно расцеловалась с Надей, Володькой и Юлией, поскольку могла думать только о том, что ждет меня дома. Придется сказать ему «уходи» прямо с порога и объяснить про неисправную телефонную связь.
Так получилось, что к остановке маршрутных такси мы шли с работы вместе с Коньковым.
– Говорят, вы уходите… – то ли спросил, то ли констатировал он.
– Да, – ответила я. Что можно было еще ответить?
– Что так?
– Обстоятельства… – На дежурный безразличный вопрос я дала такой же безликий дежурный ответ.
Я понимала, что Конькова интересует вовсе не моя скромная персона, а женщина-икебана Альбина Александровна Дюбарева. Так оно и оказалось.
– Как поживает Сонечка? – спросил он, будто бы между прочим.
– Спасибо, хорошо. А как ваш Даниил?
– Тоже, знаете, не жалуюсь, – ответил он. Потом вдруг перекрыл своим телом дорогу к маршруткам и сказал: – Вы, конечно, понимаете, что на самом деле я хочу спросить об Альбине Александровне?
– Конечно, понимаю, – согласилась я.
– И что вы можете сказать?
– Вы сначала что-нибудь спросите.
Коньков потоптался на месте. Я с глубоким удовлетворением отметила, что моя маршрутка отчалила от остановки, и значит, мое появление в собственном доме очень удачно откладывается. И главное, по уважительной причине. Но Константин Ильич думал недолго:
– Как вы считаете, у меня совсем нет никаких шансов?
– Я думаю, есть. Альбина Александровна очень долго привыкает к людям. Честно говоря, за то время, что я ее знаю, она так ни к кому и не привыкла, кроме меня.
– А этот ее… бывший муж… Он так и ходит к ней?
– Ходит. Но с ее стороны его прием на дому – это нечто вроде благотворительной акции оказания дружественной помощи малым народам ближнего зарубежья.
– Это как? – изумился Коньков.
– Когда добьетесь благосклонности Альбины Александровны, тогда расскажу.
– Как же я добьюсь, если она, кроме вас, ни к кому привыкнуть не может.
– Того, что «не может», я не говорила. – Это я ему уже крикнула, стоя у дверцы очередной своей маршрутки, которую решила все-таки не пропускать.
Как вы догадываетесь, попасть ключом в замочную скважину мне так и не удалось, как когда-то ложкой в кофейную банку. Руки тряслись, а ключ скользил в мокрых от волнения руках. Беспрозванных, конечно, услышал мое царапанье в дверь и вынужден был открыть ее сам. Еле перебирая опять ослабевшими конечностями, я осторожно вошла в свою квартиру, как в гости к чужим злым людям.
Я никогда не видела Валеру в рубашке. Даже летом он носил застиранные бесформенные футболки. Сейчас же передо мной стоял любимый мужчина в светлой рубашке в легкую полоску с расстегнутым на несколько пуговиц воротом. Как же ему шел этот расстегнутый ворот! Как мне хотелось уткнуться лицом в обнажившуюся ямочку между ключицами. И вместо того, чтобы сказать «уходи», я таки в нее и уткнулась. Более того – я, как слепой котенок или щенок, начала тыкаться носом и губами ему в шею, щеки, губы и безуспешно пыталась выговорить его дурацкое имя – подарок безработным логопедам: – Варе… Вале… Варера…
В конце концов, я назвала его просто любимым (без всякого имени) и вдруг осознала, что он никак не реагирует на мою экзальтацию – стоит бесчувственным столбом. Я отстранилась. Где-то в районе желудка стало холодно. Холод начал подниматься кверху, грозя перекрыть мне дыхание навсегда. Я положила дрожащую руку себе на горло, чтобы хоть как-то его согреть. Наше молчание затянулось и грозило перелиться в замогильное безмолвие. Я решительно подняла на Валеру глаза, чтобы весь этот ужас побыстрее закончился. Он смущенно улыбался. Я хотела заплакать, но опять не смогла.
– Я боялся, что ты не придешь, – сказал он.
– Но это же моя квартира… – ответила я.
– Ты могла переночевать у Альбины, чтобы дать мне понять, что…
– Но я же не позвонила с работы…
– Ты могла передумать уже по пути домой.
– Я не передумала…
– Ты мне веришь?
Я смотрела на него во все глаза и все отчетливей понимала: он больше никогда ни к кому от меня не уйдет. Данило-мастер освободился от чар Хозяйки Медной горы. Каменный цветок готов и оставлен ей в подарок. Я воровато оглянулась, не шуршат ли где-нибудь рубиновоглазые ящерки. Их не было.
– Верю, – ответила я.
ЧАСТЬ 2
Я – Альбина…
Моя подруга Наташа вам уже рассказывала обо мне. Да-да! Вы правильно поняли. Я – Альбина, и хочу кое-что уточнить в ее рассказе. Мне кажется, что люди, даже очень близкие, понимают друг друга не до конца. Да это, наверно, и невозможно – понять человека до самой сути. А может быть, даже и не нужно. У каждого должно оставаться за душой что-то свое, потаенное, о чем никто не знает. Нет-нет, я не про вынашивание тайных планов и не про извращенные желания. Я про самобытный внутренний мир. Я про успокоение, отдохновение и умиротворение внутри себя.
Не знаю, понимаете ли вы, что я пытаюсь сказать… Ну… вот иногда, бывает, произойдет со мной что-нибудь ужасное, и я сначала, конечно, мучаюсь и плачу, а потом как бы застываю в пространстве… Чаще всего в моем воображении возникают (даже летом) зимние деревья в снегу. С их веток сыплется снег, а я иду по белой аллее и даже будто слышу тихую печальную музыку. Может быть, свирель, а может быть, какой-нибудь не существующий в нашей жизни инструмент.
Я умею населять свое воображение образами, звуками и, вы не поверите, некой вязью слов, чем-то вроде стихов… или не стихов, а каких-то фраз, молитв или мантр… Вот, например:
Столбиком солнечных часов
могу я указать другое время.
Кто согласится в нем существовать?
Если бы Наташа это прочитала или услышала, она долго смеялась бы и наверняка сочинила какую-нибудь пародию, где обязательно сравнила бы меня с песочными часами (из-за тонкой талии) или вообще с какой-нибудь древней клепсидрой, намекая на консервативность и косность моего мышления. Наташа вообще не знает, что я иногда сочиняю. Если бы я ей сказала, она обязательно принесла бы мне почитать парочку детективов, чтобы занять мое праздное сознание хотя бы простенькой дедукцией. Когда мозг решает задачу, кто убил, не до самокопаний и молитв.
Она считает меня засушенной божьей коровкой, а я просто человек другой, чем она, внутренней организации и темперамента. Наташа – сангвиник, периодически переходящий в холерика. У нее в руках все горит, она все время куда-то бежит и очень часто что-нибудь меняет в своей жизни. Например, она часто переставляет в квартире мебель. Представьте, сама, без всякого постороннего участия. Подкладывает под ножки кружки сырого картофеля и катает шкафы по линолеуму взад-вперед. Никогда не знаешь, идя к ней в гости, где найдешь диван или телевизор.
Когда она решила развестись с Филиппом, я нисколько не удивилась. Честно говоря, я удивлялась тому, как надолго она возле него задержалась. Ее душа жаждет постоянных перемен. Я в ее жизни – исключение из правил. Наша дружба не поддается никаким переменам. Не поверите, но мы, такие разные, никогда по-настоящему не ссорились. Может быть (во всяком случае, я очень надеюсь на это), вторым исключением из правил для нее станет и второй муж.
Да, она снова вышла замуж. Почему я надеюсь, что он станет исключением? Потому что Наташа даже взяла его фамилию, хотя она не из благозвучных и ей не нравится – Беспрозванных. Ну вы же знаете их историю. Там такая любовь… Она не должна закончиться! Она может перейти в иное качество, потому что люди не в состоянии всю жизнь дрожать от страсти, но она будет жить долго. Хорошо бы столько же, сколько будут жить они сами.
Наташа ненавидит моего бывшего мужа Романа, изощряясь в обидных прозвищах, весьма редко повторяясь. То он у нее новгородский даугавпилсец, то даугавпилский новгородец, то паленый прибалт, то бледная спирохета. Я не обижаюсь. Она ничего про нас с ним не понимает. Она утверждает, что наша любовь произошла из хаоса, а она произошла… из поцелуя. Выросла из него, как цветок.
Наташе кажется, что только у нее все такое особенное и неповторимое, особенно их с Валерой чувства друг к другу. Он кажется ей невероятным красавцем. На самом деле, это ее любовь наделила его красотой. Вообще-то он очень обыкновенный, средний мужчина, взгляд на нем особенно не задерживается. Это я говорю к тому, что Роман в этом смысле если и не лучше, то уж никак не хуже ее мужа.
Мы учились в одном классе: я, Наташа и Рома. Я расскажу вам, как родилась наша любовь с Дюбаревым.
В выпускном классе на вечеринке по случаю чьего-то дня рождения мы играли в фанты. Я вытянула ужасное задание. Мне надо было изобразить нашу биологичку, которая очень смешно произносила слово сегодня – «сиво-о-оня» и всегда говорила о себе только в третьем лице, например: «Почему вы не слушаете, что Элла Борисовна вам рассказывает?» или: «Несите ваш дневник, Элла Борисовна поставит вам двойку!»
Изображать из себя ни Эллу Борисовну, ни кого другого я не могла. Я вообще не способна к лицедейству. Однажды на литературе классе в седьмом нам задали выучить и подготовить в лицах какой-нибудь диалог из «Ревизора». Мы с Наташей выучили, как перебраниваются про наряды Марья Антоновна и Анна Андреевна. Дома у нас получалось здорово. В классе, стоя у доски перед одноклассниками, я не смогла выдавить из себя ни слова. Наташа все подавала и подавала мне первую реплику, а весь класс подсказывал по книге вторую, но я так ничего и не выдавила, расплакалась и выбежала из класса. Не в моих силах было изобразить и биологичку, а ребята, конечно, настаивали. Тогда вдруг Дюбарев и говорит:
– Предлагаю тебе, Альбинка, обмен. Я изображаю Эллочку, а тебе за это придется выполнить мое задание.
Я была так напугана выпавшей мне долей, что даже не подумала о том, что дюбаревский фант может оказаться еще хуже. Рома очень смешно изобразил не только биологичку, но еще и чертежника, который говорил рублеными, отрывистыми фразами, напоминающими немецкие команды из фильмов про войну. Я смеялась вместе со всеми, потому что не знала, что мне предстоит. Когда же развернула Ромину бумажку, чуть не свалилась в обморок. Там было написано: «Кого-нибудь поцеловать в губы». Я в ужасе озиралась по сторонам, напрасно ища спасения, и Дюбарев тогда сказал:
– Раз уж я тебя спас от Эллочки, ты просто обязана поцеловать меня.
Одноклассники одобрительно зашумели.
Конечно, я снова расплакалась бы и убежала от них, как от диалога из «Ревизора», но Рома и тут оказал мне (если в данном случае уместно подобное выражение) дружескую помощь. Она заключалась в том, что он поцеловал меня сам. И все… мы с ним пропали… мы не могли оторваться друг от друга. Ребята даже начали хохотать. Они думали, что Рома специально меня, недотрогу, мучает, потому что даже покрикивали:
– Так ее, Ромка!
– Пусть знает наших!
– Это ей не Эллочку изображать!
А мне и самой не хотелось отрываться от его губ. Когда мы наконец разомкнули объятия, я уже знала, что выйду за него замуж. И он об этом знал. Не думайте, что мы сразу начали встречаться и целоваться на каждом шагу. Нет! Это знание просто поселилось в нас. Мы лишь иногда поглядывали друг на друга особыми взглядами, значение которых понимали только вдвоем. Я тогда писала:
Я и ты – одно,
Мы все знаем друг о друге.
В этом знании – тайна
и вечная ее непостижимость.
Если вы спросите о той детской вечеринке Наташу, то она, я думаю, о ней и не вспомнит. А если что-нибудь и всплывет в ее памяти, то только не наш затяжной, как прыжок с парашютом, поцелуй с Дюбаревым.
Второй раз мы поцеловались с ним только на выпускном вечере. И Рома сразу спросил, хотя в его голосе гораздо больше было утвердительной интонации:
– Ты ведь будешь моей женой?
– Разумеется, – ответила я.
Мы ни разу не сказали друг другу «люблю». Но даже молчали о наших чувствах мы не так, как Наташа с Филиппом. Они были веселы и беспечны. Мы – ошеломлены. Не названная словом любовь охватила нас плотным облаком, коконом, за пределами которого шла какая-то своя жизнь: развивались определенные международные события, происходили природные катаклизмы, люди рождались и умирали… Мы тоже вынуждены были что-то делать, куда-то ходить, с кем-то разговаривать, даже умудрились поступить в институты, но главным в нашей тогдашней жизни было другое – полное растворение друг в друге.
Мне казалось, что мне будет больно, если он уколет палец. Он говорил, что чувствует, когда я засыпаю, находясь в собственной квартире на расстоянии квартала от его дома. Я верила. Я тоже постоянно ощущала его присутствие рядом с собой.
Наташа тогда говорила мне, что я сошла с ума, потому что таких Дюбаревых в моей жизни будут еще миллионы, что не стоит кидаться на первого встречного, который соизволил обратить на меня внимание. Она не понимала… Я была не в силах даже предположить, что смогу так врасти еще в кого-нибудь. Мы с Ромой с трудом дождались восемнадцатилетия.
Свадьба была скромной. Нам ничего не надо было, кроме того, что после регистрации мы будем всегда вместе, и на законных основаниях. «Люблю» он впервые сказал мне, когда у нас родилась Сонечка. И тогда будто прорвало плотину: мы говорили и говорили друг другу слова любви. Я, наверное, могла бы только ими и питаться, если бы не надо было кормить крошечную дочку.
Потом, через три года, случилось несчастье – я потеряла второго ребенка. Наша счастливая жизнь рухнула. Наташа винит во всем Романа, но я-то знаю, что сама виновата. Окружающим казалось, что я заледенела от горя, до того меня ничто не интересовало. Никто не мог даже подумать, что у меня был свой интерес, ужасный и всепоглощающий: холить и лелеять свое горе, упиваться им, думать о нем ежечасно и ежеминутно. Я тогда даже к Сонечке охладела. Еще бы! Она жива, здорова и весела, а тот, крошечный и беззащитный… Где он? В каких астральных слоях и переплетениях? Кто знает? Кто видел? Кто передаст весточку?
Впереди – ничего нет.
Позади – слабое эхо.
Отзвучит и растает.
Река жизни не потечет вспять.
Ветер стихнет.
Памяти волны улягутся.
Рома пытался растопить мое заледеневшее сердце. Он, желая утешить, говорил мне, что у нас еще будут дети, но мне его слова казались кощунственными. Зачем нам какие-то другие дети, если я хочу думать только об этом погибшем ребенке. Я шарахалась от мужа, как от больного дурной болезнью.
Наташа утверждает, что он сразу «пошел по бабам». Ничего подобного, не сразу. Я не буду называть сроки. Я их не помню, потому что для меня они неважны. Я сама оттолкнула от себя Романа. Однажды он не пришел ночевать, а утром вернулся слегка пьяным и стал утверждать, что у него теперь есть другая женщина, которая не держит его за бесчувственного чурбана и не отпихивается от него, как от прокаженного.
Я, знаете, сейчас думаю, что ту первую женщину он себе придумал, чтобы меня как-то расшевелить, пробудить во мне хотя бы ревность. Мы ведь любили друг друга! Мне бы тогда очнуться, но я не смогла скрыть своей радости от того, что мой муж завел себе любовницу. Еще бы! Он ведь теперь оставит меня в покое со своими притязаниями и сексуальными домогательствами, и я смогу полностью погрузиться в свое, уже не горькое, а по-настоящему сладкое горе.
Наверное, мне надо было тогда обратиться к врачу или хотя бы рассказать о своем состоянии Наташе. Уж она бы придумала, как меня вытащить из этой затягивающей черной дыры. Впрочем, вряд ли: мне тогда не хотелось избавления.
Мои астральные скитания в поисках потерянного ребенка закончились одномоментно, когда заброшенная мной Сонечка упала с нашего широкого подоконника, на котором любила играть в куклы, и получила тяжелое сотрясение мозга. Я будто вынырнула из тяжелой свинцовой воды, вдохнула обжигающе сухой воздух жизни, приняла в глаза белый свет дня и по-бабьи заголосила по Сонечке.
С этого момента я снова начала жить обычной человеческой жизнью. За заботами о болеющей дочке горе как-то притупилось, отошло на второй план, а потом совсем истончилось и почти полностью стерлось из памяти. Все-таки я не видела нерожденного ребенка, а потому не могла вспоминать его лицо, милые младенческие ужимки, тяжесть прижатого к груди тельца. Все надуманное и рожденное воспаленным воображением ушло в тот астрал, в котором я черпала силы для поддержания горя.








