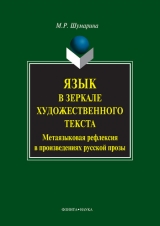
Текст книги "Язык в зеркале художественного текста. Метаязыковая рефлексия в произведениях русской прозы"
Автор книги: Марина Шумарина
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Раиса. Да, я его люблю…Он хороший… / Волы нов (с улыбкой). Какое вы святое слово употребили: люблю…(т) Разве с этим словом можно так неосторожно обращаться?(р) (А. Потехин. Выгодное предприятие); – Это называется, среда заела?/ – А вот и не заела!.. Среда?.. заела?..(т) Новые пустые слова(р). Я просто продукт своей почвы, цветок, пойми ты это (Н. Помяловский. Молотов).
Частным случаем диалогической цитации можно считать переспрос (повтор вопроса собеседника), предваряющий толкование:
– А вы, девочки, – охота вам вступать в беседу со всяким бродягою. / На лице Острова изобразилось горькое выражение. Может быть, это была только игра, но очень искусная, – Петр смутился. Остров спросил: / – Бродяга?А что значит бродяга?/ – Что значит бродяга? – повторил Петрв замешательстве. – Странный вопрос? / – Ну, да, вы изволили употребить это слово, а я интересуюсь, в каком смысле вы его теперь употребляете, применяя ко мне (Ф. Сологуб. Навьи чары).
Переспрос в монологе имитирует ситуацию общения, служит маркером диалога, в котором при описании опускаются реплики собеседника. Ср.:
Сбитенщики ходят, аукаются в елках: «Эй, сладкий сбитень! калачики горячи!..» В самоварах, на долгих дужках, – сбитень. Сбитень?А такой горячий, лучше чая. С медом, с имбирем, – душисто, сладко. Стакан – копейка (И. Шмелёв. Лето Господне).
Диалогическая цитация (в том числе переспрос) актуализирует семантическую структуру рефлексива, воспроизводя фрагмент чужой речи – объект рефлексии. Переспрос и диалогическая цитация для исследователя служат показателем метаязыкового поиска. Такому поиску соответствует лексическое и интонационное оформление переспроса и цитации: наличие тавтологических компонентов, которые формально создают лексическую избыточность, и интонация «замедления», передающаяся на письме различными графическими (многоточие), синтаксическими (парцелляция, выделение цитаты или диалога в отдельную синтагму, фразу) и лексическими средствами. Ср.:
<…> тянутся обозы – к Рождеству. Обоз? Ну, будто, поезд… только не вагоны, а сани, по снежку, широкие, из дальних мест. Гусем, друг за дружкой, тянут.Лошади степные, на продажу. <…> Везут свинину, поросят, гусей, индюшек, – «пылкого морозу». Рябчик идет, сибирский, тетерев-глухарь. (И. Шмелёв. Лето Господне).
Различие между толкованиями в диалоге, включающем переспрос, и в диалоге без переспроса заключается в степени воспроизводимости / творимости метаязыкового комментария. «Замедление» при поиске формулировки показывает, что у говорящего нет готовой дефиниции, он пытается ее составить, производя «молчаливый» анализ объекта, отбирая существенные признаки, облекая толкование в доступную для адресата форму. Быстрая реакция толкователя на вопрос о значении слова напоминает «заученный» ответ, а иногда и является им. Автоматизм воспроизведения, как и положено, снижает уровень осознанности. Ср.:
– Садись на словесность! – бывало, командует взводный офицер <…> Иван Петрович Копьев. <…> / – Егоров, что есть солдат? – сидя на столе, задает вопрос Копьев. / Егоров встает, уставляет белые, без всякого выражения глаза на красный нос Копьева и однотонно отвечает: / – Солдат есть имя общее, именитое, солдат всякий носит от генерала до рядового… / – Вррешь! Дневальным на два наряда… Что есть солдат, Пономарев? / – Солдат есть имя общее, знаменитое, носит имя солдата… / – Вррешь. На прицелку на два часа! Не носит имя, а имя носит… Ворронов, что есть солдат? / – Солдат есть имя общее, знаменитое, имя солдата носит всякий военнослужащий от генерала до последнего рядового. / – Молодец Воронов! (В. Гиляровский. Без возврата).
Для обозначения метаязыковой операции выбора наименования из ряда синонимичных используются различные конструкции, в которых вербализуется процесс «авторедактирования», самоисправления, то есть отказа от первоначально выбранного средства выражения и замена его другим. В целом ряде лингвистических работ самоисправления рассматриваются как яркий показатель метаязыковой активности [Зубкова Л. Г, Зубкова Н. Г. 2009: 271, 275–276, 278; Иванцова 2009: 346–348]; в частности, самоисправления в речи детей рассматриваются как свидетельство формирования осознанного отношения к языку [Фрумкина 2001: 119; Wetherby, Alexander, Prizant 1998: 136].
Саморедактирование, которое совершается непосредственно в тексте, отражает поиски слова, наиболее точно выражающего мысль автора. Ср.:
Заботливо во все вникающая и в то же время ни во что не вмешивающаяся Эмма Эрнестовна, его [Комаровского] экономка, нет – кастеляншаего тихого уединения, вела его хозяйство, неслышимая и незримая, и он платил ей рыцарской признательностью, естественной в таком джентльмене <…> (Б. Пастернак. Доктор Живаго).
Автор не устраняет из текста менее точное, по его мнению, слово экономка,а намеренно оставляет его, имитируя характерную для спонтанной речи вербализацию метаязыкового поиска. Однако имитация живого речемыслительного процесса – не единственная функция этой «правки». Лексические единицы экономкаи кастеляншаслужат здесь объектом сопоставления, автор использует их как средство антитезы. При этом актуализированным оказывается дифференцирующий сегмент значения, не принадлежащий понятийному ядру. Мы имеем дело с «приспособлением структуры отдельного значения слова к условиям конкретного коммуникативного акта, к той или иной коммуникативной задаче высказывания» [Стернин 1997: 82]. Исследователи отмечают, что «значение, реализуемое в коммуникативном акте, несводимо к небольшому числу ядерных сем, выполняющих дифференциальные функции в структуре языка. Оно включает обширную периферию, образуемую семантическими компонентами, которые не выполняют дифференциальных функций в системе лексических оппозиций, хотя оказываются чрезвычайно важными для коммуникации и часто актуализируются в речи» [Там же].
Понятийное ядро рассматриваемых слов находит отражение в словарных толкованиях: экономка(ж. р. к эконом) – это «заведующая хозяйством» [СОШ], а кастелянша —«работница бельевой (в лечебном учреждении, доме отдыха, гостинице), ведающая хранением и выдачей белья» [СОШ]. Экономка – это, как правило, высокая ступень в иерархии хозяйственных служащих: экономка руководит работой других слуг, если они есть в доме, вникает во все происходящее в доме, прекрасно осведомлена о делах хозяев, в отличие от скромной кастелянши, обязанности которой не требуют особой активности. Однако это не лингвистическая, а так называемая энциклопедическая информация. Соответствующие этой информации семы располагаются на периферии значения, но, как известно, именно периферийные семы «в значительной степени обеспечивают коммуникативную гибкость слова, обеспечивают ему широкие номинативные возможности в коммуникативных актах, возможности семантического варьирования» [Стернин 1997: 83]. И в данном случае признаком сравнения является семантический компонент 'скромность', находящийся на дальней периферии значения, в сфере фоновых или ассоциативных сем. Справедливость такой интерпретации подтверждается и окказиональной сочетаемостью слова (кастелянша его тихого уединения),в которой актуализируется метафорический характер употребления слова.
Чаще всего сопоставлению подвергаются пары слов (языковые или контекстуальные синонимы), но иногда автор выстраивает более длинный ряд, в котором прослеживается градация: автор эксплицирует работу метаязыкового сознания, «на глазах» у читателя подбирает наиболее подходящее, наиболее точное наименование для описываемого предмета [52]52
Подобный прием поиска слова, характерный, для поэтической манеры М. Цветаевой, М. В. Ляпон назвала «блуждание вокруг денотата» [Ляпон 1989: 25], а М. Л. Гаспаров охарактеризовал как «уточнение образа», «топтание на месте, благодаря которому мысль идет не вперед, а вглубь» [Гаспаров 1997: 262].
[Закрыть]. Ср.:
<…> вдруг ты поднимаешь голову к квадратной прорези в средней полке, к этому единственному небу над тобой – и видишь там три-четыре – нет, не лица! нет, не обезьяньих морды,у обезьян хоть чем-то должна быть похожа на образ! – ты видишь жестокие гадкие харис выражением жадности и насмешки (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг).
К средствам «авторедактирования» относятся, прежде всего, уточняющие конструкции. В уточняющем компоненте в большей или меньшей степени эксплицированы причины метаязыкового выбора. Так, использование формулы извинения свидетельствует о том, что первый вариант обозначения нежелателен по каким-либо социолингвистическим или этическим причинам; ср.:
У нас тоже выводили, пардон, воспитывали, создавалитак называемого нового человека (Г. Николаев. Вещие сны тихого психа).
Другие лексические показатели маркируют выбранное обозначение как более правильное (1), более точное (2), более выразительное (3) и т. п.:
(1)Мы вошли в юрту, или, правильнее, урасу (И. Гончаров. Фрегат «Паллада»); (2)Итак, мои грибные воспоминания начинаются воспоминаниями о маслятах. <…> / Название это произошло от видагриба или даже, вернее,от ощупи(В. Солоухин. Третья охота); (3)Мне нравится, что к нему [дому Ивана Ивановича] со всех сторон пристроены сени и сенички, так что если взглянуть на него издали, то видны одни только крыши, посаженные одна на другую, что весьма походит на тарелку, наполненную блинами, а еще лучше на губки, нарастающие на дереве(Н. Гоголь. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем).
Для обозначения операции лексического выбора автор речи часто использует возможности градационных конструкций с союзами не только… но (а) и; не столько… сколько; не то что(бы)… а (но).Градационные конструкции выражают соединительную связь, осложненную иерархическими отношениями между однородными компонентами в простом (1), в сложном (2) предложении и даже на сверхфразовом уровне (3):
(1)Держал же он себя не то что благороднее, а как-то нахальнее(Ф. Достоевский. Братья Карамазовы); (2)Она коснулась животного и словно покинула пространство спальни – взгляд ее не то чтобы сделался бессмысленным, но он сфокусировался где-то вовне,за пределами здешнего мира. (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого); (3)После этого Мокер не то чтобы стал лентяем. Но емукатегорически претилибудничные административные заботы (С. Довлатов. Ремесло).
Метаязыковая функция градационной конструкции может быть подчеркнута дополнительными показателями: вводным словом (1), многоточием (2), вставкой, обосновывающей выбор слова (3):
(1)А пламя и правда, рвется, мечется, не то что столбом, а, сказать, деревом каким,вот как Окаян-дерево по весне: пляшет и гудит, крутит и клубится, а с места не сойдет (Т. Толстая. Кысь); (2)Такие обычно стоят на обочине трактов, на станциях, здоровые, не то что глупые, но… не интеллектуалки,смотрят на проезжающие машины, поезда и чего-то терпеливо ждут (В. Шукшин. Хмырь); (3)Именно этот взгляд вот уже несколько лет не то чтобы преследовал его – экие еще литературности! – нопостоянно возникалв памяти… (Е. Клюев. Андерманир штук; курсив автора).
Для оформления операции «авторедактирования» часто используются конструкции с семантикой противопоставления, в которых первый член пары отвергается, а второй принимается говорящим. Являясь общеязыковой универсалией и охватывая всю языковую систему [см.: Милованова 2009], отношения противопоставления реализуются не только на уровне простого (1) или сложного (2) предложения, но и на сверхфразовом уровне – как смысловые отношения между предложениями в тексте (3):
(1)Эта женщина, очевидно, жила, окруженная не поклонниками – а рабами;она, очевидно, даже забыла то время, когда какое-либо ее повеление или желание не было тотчас исполнено! (И. Тургенев.
Степной король Лир); (2) – Это балаган Обиралова? – обратился к ней Ханов. / – Балаганы с петрушкой, а это киятры!.. Это наши киятры… (В. Гиляровский. Балаган); (3)Сознание этой власти («и возможность ее смягчить» – оговаривает Толстой <…>) составляли для него [Ивана Ильича] главный интерес и привлекательность службы. Что там привлекательность! – упоительность!(А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг; курсив авторский).
Эти примеры демонстрируют не спор о денотате, а спор о названии. Например, в тексте И. Тургенева не обсуждается, были ли мужчины, окружавшие героиню, на самом деле свободными гражданами или рабами: оба выделенных слова обозначают один и тот же объект – обсуждается выбор одного из синонимических обозначений, то есть очевидна метаязыковая импликация: 'Точнее будет назвать этих мужчин рабами'. Метаязыковые высказывания, построенные по данному образцу, можно рассматривать как один из стилистических приёмов, основанных на использовании метаязыковых операций.
Следует отметить, что подобные конструкции лишь по формальным признакам можно отнести к противительным: функционально они близки к градационным (поскольку часто оформляют выбор обозначения, в большей степени выражающего актуальный признак: не поклонники, а рабы)и к уточняющим (поскольку указывают на выбор более точного обозначения, отвергая менее точное: не балаган, а театр).
К аналогам метаоператоров отнесем различные способы визуального «квантования» информации, например, использование формата списка, парцелляция, нестандартное абзацное членение. Ср.:
Предыдущее изложение должно было, кажется, показать, что в выбивании миллионов и в заселении ГУЛага была хладнокровно задуманная последовательность и неослабевающее упорство.
Что ПУСТЫХ тюрем у нас не бывало никогда, а бывали либо полные, либо чрезмерно переполненные.
Что пока вы в своё удовольствие занимались безопасными тайнами атомного ядра, изучали влияние Хейдеггера на Сартра и коллекционировали репродукции Пикассо, ехали купейными вагонами на курорт или достраивали подмосковные дачи, – а воронки непрерывно шныряли по улицам, а гебисты стучали и звонили в двери (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг).
К аналогам метаоператоров отнесем и некоторые лексические средства – слова и выражения, семантика которых благоприятствует использованию их в качестве средства метаязыковой оценки. Так, маркеры вопросительности что ли, как тами т. п. могут указывать на приблизительность и/или обобщенность метаязыковой характеристики. Ср.:
«Сегодня нет налицо революционной ситуации…» / – А что такое «ситуация»? – перебил Чубов. <…> / – <…> Ситуация – это положение, обстановка, что ли, – в этом роде.Так я говорю? (М. Шолохов. Тихий Дон).
Существуют слова и выражения, которые вне учета метаязыковой функции могут представляться избыточными. В то же время в целом ряде исследований находим замечания о метаязыковой функции тех или иных слов, оборотов, которые, по мнению специалистов, могут сигнализировать об имплицитной метаязыковой оценке. Так, Е. В. Огольцева обнаруживает свойства сигналов авторской рефлексии у некоторых единиц в сочетаниях с образно-компаративными дериватами – например, у неопределенных местоимений и наречий (что-то, какой-то, как-то),у частиц и наречий количественной семантики прямо, впрямь, буквально, решительно, почти, просто, чисто, так и, совершенно, совсем, чуть (ли) неи т. п. Ср.: в фигуре в самом деле есть что-то лошадиное;рожа <…> с узким лбом и какими-то тараканьимиусами; как-то по-петушиномуподпрыгнули т. п. [Огольцева 2007: 426]. Подобные единицы акцентируют внимание на семантике и употреблении сочетающихся с ними слов, они «активизируют фантазию читателя, призывают его к сотворчеству, провоцируют поиск признаков-оснований сравнения и, следовательно, «достройку» всей компаративной структуры на основе предложенного образа» [Там же].
Целый ряд местоимений и наречий обладает способностью сигнализировать о метаязыковых контекстах. Так, наблюдения показывают, что разговорная формула всякие тамможет указывать на непрямое употребление существительного, с которым согласуется данное сочетание. Ср.:
<…> купили прилавок, холодильник и стали торговать съестным, так, ничего особенного – молочные продукты, масло, сыр, хлеб, пирожные, всякие там пепси и фанты(Г. Маркосян-Каспер. Кариатиды. НКРЯ);Журналисты – народ дотошный, может и найти. <…> Может быть, через таких же, как и он, балбесов пишущих? Через всякие там «Ассошиэйтед-пресс» и тому подобную белиберду(П. Галицкий. Опасная коллекция. НКРЯ).
Во всех приведенных примерах сочетание всякие тамуказывает на то, что следующее за ней выражение следует толковать в смысле метонимического расширения: всякие там Nозначает 'всё, что входит в ту же тематическую группу, что и N' (не только пепси и фанта,но и другие газированные напитки; не только «Ассошиэйтед-пресс»,но и другие средства массовой информации). Исключение из фразы сочетания всякие тампереводит высказывания в плоскость буквального понимания. Ср.: найти… через всякие там «Ассошиэйтед-пресс»('через какие-либо СМИ') [53]53
С таким расширительным пониманием согласуется и множественное число существительных singularia tantum (вещественных пепсии фанта,собственного «Ассошиэйтед-пресс»).
[Закрыть]и найти… через «Ассошиэйтед-пресс»('именно через «Ассошиэйтед-пресс»') и т. п.
Наконец, отнесем к аналогам метаоператоров различные приемы нестандартного графического и орфографического оформления текста. Например, роль метапоказателя играет отступление от орфографической нормы. Так, сигналом метаязыковой рефлексии является менапрописных и строчных букв: ненормативное написание онима (имени собственного) с маленькой или апеллятива (нарицательного слова) с заглавной буквы. Такое написание является метаоператором, сигналом о том, что слово в данном случае получает некую семантическую модификацию. Ср.:
<…> самый лай, который поднимали флегматические барбосы, бровкии жучки,был приятен моим ушам (Н. Гоголь. Старосветские помещики); <…> генерал Е. С. Птухин <…> говорил: «если б я знал – я бы сперва по Отцу Родномуотбомбился, а потом бы сел!» (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг).
Содержание подобных семантических модификаций вполне конвенционально для автора и адресата, оно не требует специальной вербализации и носит характер «нерефлектирующей рефлексии» [54]54
Однако если метаязыковой смысл использования прописных / строчных букв отличается от конвенционального, автор вводит в текст необходимый вербальный комментарий: Мнят себя Бог знает кем, а потом старятся и умирают <…> Раньше это слово велено было писать с маленькой буквы, я и писал. А сейчас уже не могу(Е. Попов. Подлинная история «Зеленых музыкантов»).
[Закрыть], то есть имеет статус языкового значения (ср. употребление выражения с большой буквы).
Метапоказателями являются различные способы экспериментирования с графикой и орфографией, которые активны во многих сферах современной коммуникации (в том числе – в поэзии [Зубова 2008], в интернет-общении [Гусейнов 2002; Сидорова 2007; Сидорова, Стрельникова, Шувалова 2009 и др.]) и свидетельствуют, по мнению специалистов, об эстетическом отношении к языку [Мечковская 2009: 485].
Один из косвенных сигналов рефлексии связан с нестандартным использованием графических выделений. Ср.:
Чтобы делать зло, человек должен прежде осознать его как добро или как осмысленное закономерное действие. Такова, к счастью, природа человека, что он должен искать оПРАВДАниесвоим действиям (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг).
Подобный прием описывается как графодеривация [55]55
В другой терминологии – «графические игры» [Максимов 2004], графиксация [Изотов 1998: 76].
[Закрыть][Попова 2008], среди разновидностей которой выделяется типографиксация – создание «неолексем» при помощи «суперсегментного средства, не являющегося собственно языковым, напр., выделение курсивом / полужирным / подчеркиванием или другим способом какой-либо части деривата, что приводит к актуализации некоторых смыслов, к перераспределению сем» [Попова 2008: 217]. И хотя в приведенном примере выделение сегмента ПРАВДАне приводит к созданию нового означающего, в определенном смысле здесь можно говорить об окказиональной деривации, так как слово оправданиепретерпевает изменения: а) возникает новая, окказиональная, квазиморфемная структура слова, мотивированная эстетической задачей автора; б) устанавливаются (оживляются этимологические) связи со словом правда [56]56
Аналогичные примеры с точки зрения их семантической специфики могут интерпретироваться и как прием псевдомотивации с использованием прописных букв [Ильясова 2002; Стахеева, Власкина 2009].
[Закрыть].Импликативное метаязыковое суждение в данном случае может быть выражено следующим образом: 'В слове оправданиезаключено слово правда',адресату понятно: оправдание– это превращение в правду, придание вида правды.
Графодериваты относительно редки в художественной прозе, в большей степени они характерны для речевых сфер и жанров, настроенных на активный языковой эксперимент, насыщенных приемами языковой игры: в поэзии [Зубова 2003; 2010; Суховей 2007; Николина 2003; 2009 а], текстах СМИ [Костомаров 1994; Ильясова 2002; Шишкарева 2009 и др.], в рекламе [Бударагина 2009; Попова 2009], в интернет-коммуникации [Сидорова 2007; Осильбекова 2009; Сидорова, Стрельникова, Шувалова 2009]. В сфере художественной прозы графодеривация маркирует фрагменты синкретичного (художественно-публицистического) характера (как в приведенном выше примере из «Архипелага ГУЛага») или используется как средство создания комического эффекта; ср.:
Было это в сорок шестом году. Ещё до реформы, жили на карточки. По писательским, литерным, выдавали чуть побольше. Я получил уже литеру «А». Литератор.Кроме того, были литер-бетеры и прочие кое-какеры (В. Некрасов. Саперлипопет).
Таким образом, система естественного метаязыка обогащается и за счет семантических потенций тех единиц и конструкций, которые мы назвали аналогами метаоператоров, то есть таких единиц и конструкций, для которых функция метапоказателя не является основной, однако они выполняют ее «по совместительству». Поскольку аналоги не в каждом употреблении выступают как метаоператоры, иногда бывает трудно определить, эксплицирована ли в данном конкретном случае метаязыковая операция или имеют место иные отношения между компонентами. Например, О. Н. Иванищева приводит как примеры толкований следующие фрагменты [Иванищева 2008: 90, 92]:
(1)Восемнадцати лет от роду, меня, первокурсницу, отправили на целину.То есть туда, где степь, ковыль, небо, звёзды, элеватор и зерно, зерно, зерно (Л. Миллер. И чувствую себя невозвращенкой. Мелочи жизни); (2)Пока что весь дом в моём распоряжении; если же летом они все-таки отважатся пустить дачников– какую-нибудь интеллигентную семью с детишками, – мне придётся следить за порядком из просторного мезонина с отдельным входом (М. Бутов. Свобода).
В первом примере фраза, связанная с предыдущей пояснительным союзом, может быть интерпретирована и как вид толкования – экспликация периферийных элементов семантики (Целина – это место, где есть степь…и т. д.), и как фрагмент распространяющего характера (Отправили на целину, а там степь…и т. д.). Однако во втором примере толкование, на наш взгляд, отсутствует вовсе (хотя конструкция уточнения в принципе может использоваться и для оформления дефиниции). Видимо, при квалификации того или иного высказывания как метаязыкового следует учитывать интенции субъекта речи. Так, семантизация слова может быть вызвана тремя видами авторского намерения: а) объяснить значение полностью или частично непонятного адресату слова; б) выразить индивидуальное представление о смысле слова; в) дать слову образное, «риторическое» определение [57]57
Ср.: Ты – муж, а слово «муж» в переводе на дачный язык значит бессловесное животное, на котором можно ездить и возить клади сколько угодно, не боясь вмешательства общества покровительства животных(А. Чехов. Трагик поневоле).
[Закрыть]. Во втором из приведенных примеров коммуникативные условия не требуют семантизации слова дачникикак непонятного адресату; здесь нет попытки дать субъективную, образную, риторически окрашенную дефиницию. Таким образом, при установлении факта использования синтаксической конструкции в качестве метаоператора следует учитывать конкретные коммуникативные условия, которые требуют или не требуют метаязыкового комментария.
Конструкции, обозначающие выбор способа обозначения (нет N a , а есть N b ; не…, аи т. п.), могут выражать и спор о денотате, и спор о наименовании, которое в большей степени соответствует сущности обозначаемого:
– Любовь, дева, луна, поэзия… – перебил Череванин. – На свете нет любви, а есть аппетит здорового человека; нет девы, а есть бабы; вместо поэзии в жизни мерзость какая-то,скука и тоска неисходная (Н. Помяловский. Молотов).
Первое суждение (нет любви, а есть аппетит здорового человека)можно интерпретировать как выбор обозначения для денотата, более адекватного его свойствам, а можно рассматривать и как спор «о мире»: существует ли в действительности любовь, или ее нет, а существует лишь физическая потребность. Второе суждение (нет девы, а есть бабы)в большей степени похоже на спор о названии, поскольку обозначения деваи бабаприменимы к одному денотату, но различаются коннотациями. А третье суждение (вместо поэзии в жизни мерзость какая-то)может быть только высказыванием «о мире».
Возможно, в подобных случаях и не следует стремиться к четкой квалификации высказывания как суждения «о мире» или суждения «о языке»: семантическая амбивалентность таких высказываний является в художественной речи особым средством экспрессии.
Итак, метаоператоры и их аналоги – это материально выраженные показатели акта метаязыковой рефлексии, которой подвергается тот или иной объект (используемое в тексте слово или выражение). В то же время возможны рефлексивы, в которых языковая единица подвергается оценке, но факт этой оценки не отмечен какими-либо материально выраженными сигналами. В таких случаях будем говорить о нулевых метаоператорах, которые также отнесем к косвенным сигналам метаязыковой рефлексии.
III. Нулевые метаоператоры.Под нулевыми метаоператорами мы понимаем отсутствие непосредственных (прямых или косвенных) метапоказателей при наличии импликаций – метаязыковых суждений. Ср.:
Между ними много так называемых у нас «глупышей»,больших птиц с тонкими, стройными, пегими крыльями, с тупой головой и с крепким носом. В самом деле, у них глуповатафизиономия (И. Гончаров. Фрегат «Паллада»).
В этом примере читатель без труда «расшифровывает» импликацию: 'Название птицы глупышобразовано от слова глупый,поскольку птица имеет глупый вид'. В то же время в тексте нет указаний на отношения словообразовательной мотивации между словами глупыши глупый– эти отношения читатель обнаруживает, опираясь на свой языковой опыт, а автор, в свою очередь, рассчитывает на «понятливость» адресата [Федосюк 1998 а]. Поскольку в данном случае имеет место метаязыковое суждение (имплицитное, но легко восстанавливаемое), но нет материально выраженных показателей метаязыковой операции – установления деривационных отношений, – мы говорим о том, что здесь имеет место нулевой метаоператор [58]58
С точки зрения семантической и функциональной специфики нулевые метаоператоры можно сопоставить не с нулевыми окончаниями (которые противопоставлены материально выраженным не только нулевой формой выражения, но и собственным морфологическим значением), а с нулевыми суффиксами, которые выражают те же морфологические или словообразовательные значения, что и синонимичные им материально выраженные суффиксы, отличаясь от последних только отсутствием фонемного состава (ср., напр., материально выраженные и нулевые суффиксы прошедшего времени глагола: принес ла – принёс,а также нулевые словообразовательные суффиксы: глин яный,но золот()ой; ходь ба,но бегои т. п.).
[Закрыть]. В подобных случаях реализуется специфическое свойство языка – его способность «запечатлевать и передавать неявно выраженные, имплицитные знания, информацию и опыт, передавать и хранить больше, чем на это потрачено «средств»» [Рябцева 2005: 17].
Мы говорим о нулевых метаоператорах в следующих случаях: а) когда в тексте сталкиваются единицы, имеющие сходный план выражения; б) когда автор прибегает к намеренному нарушению языкового стандарта; в) когда в тексте используется прием реконструкции того или иного речевого стандарта (различные виды подражания).
Существует целый ряд типичных импликаций метаязыкового характера, которые читатель «прочитывает», основываясь на соположении в тексте единиц с похожим планом выражения. К этой группе рефлексивов с нулевыми метаоператорами отнесем контексты, в которых имеет место паронимическая аттракция (1), аллитерация (2), актуализация словообразовательных связей (3) – как правило, диахронических:
(1)Был Чурилин родом из Лебедяни,и помещала я его, в своем восприятии, между лебедойи лебедями,в полной степи (М. Цветаева. Наталья Гончарова); (2). поняв, что в них есть какой-то смысл, с интересом его про следил. Изнеможденный, счастливый, с ледяными пятками… он встал, чтобы потушить свет (В. Набоков. Дар) [59]59
Пример из статьи А. В. Леденёва, который рассматривает звуковые повторы (аллитерацию) как «графико-фонетические маркеры привилегированных значений» [Леденёв 2001: 451].
[Закрыть]; (3) Анна. Гляжу я на тебя. на отца ты похож моего. на батюшку. такой же ласковый… мягкий… / Лука. Мялимного, оттого и мягок(М. Горький. На дне); В размышлениях доктора Дарвин встречался с Шеллингом, а пролетевшая бабочка с современной живописью, с импрессионистским искусством. Он думал о творении, твари, творчествеи притворстве [60]60
Подобное столкновение в одном контексте слов, объединенных деривационными отношениями, описано в специальной литературе как особый прием – словообразовательный повтор [см.: Кожевникова 1987; Николина 2005 а].
[Закрыть](Б. Пастернак. Доктор Живаго).
В подобных случаях, по мнению М. Л. Гаспарова, наблюдается неразрывное единство двух процессов поэтического осмысления: «сближение слов по звуку и вслушивание в получившийся новый смысл» [Гаспаров 1997: 266].
В синтаксисе текста паронимическая аттракция интерпретируется как разновидность коннектора – это текстовый оператор, «организующий как план выражения, так и план содержания, рассматриваемых в их параллельности» [Северская, Преображенский 1989: 262]. Думается, в аспекте исследуемой проблемы наличие в дискурсе сближаемых паронимов (а также других видов сближения [61]61
Паронимическое сближение слов осуществляется с опорой на консонантные совпадения, поэтому в некоторых случаях трудно провести четкую границу между паронимической аттракцией и аллитерацией [см.: Голуб 1986: 94; Северская 1988: 214] или этимологизированием [см.: Никитина, Васильева 1996: 105].
[Закрыть]) можно рассматривать и как метатекстовый оператор особого рода, поскольку в подобных случаях «мы имеем дело … с импликативным суждением: если есть звуковое сходство, то существует и смысловая близость» [Никитина, Васильева 1996: 105], «созвучность слов становится ручательством истинного соотношения вещей и понятий в мире» [Гаспаров 1997: 266].
В рефлексивах с нулевыми метаоператорами основанием для «выводного» знания служит единство трех факторов: а) пространственная близость [62]62
Расположение сопоставляемых слов может быть как контактным, так и дистантным, однако расстояние между ними должно соответствовать возможностям читательского восприятия: важно, чтобы адресат фиксировал обе сопоставляемые единицы как находящиеся в одном контексте.
[Закрыть]единиц в тексте, б) сходство их плана выражения и в) соотнесённость с содержанием текста. Однако в подобных случаях именно на реципиента возложена обязанность, во-первых, обнаружить намерение автора выразить метаязыковую оценку, а во-вторых, установить содержание этой оценки. Соположение в тексте формально сходных слов далеко не всегда свидетельствует о намеренном их сближении для выражения той или иной метаязыковой оценки, поэтому успешность восприятия и понимания рефлексива зависит от способности адресата к декодированию и от целого ряда обстоятельств, которые выступают как помехи или катализаторы адекватной интерпретации. Ср., например, сочетание черные чернила,которое не воспринимается носителями языка как тавтологическое – в силу невозможности избежать тавтологии и высокой частотности в «серьезных» жанрах речи. В большинстве контекстов это сочетание не возбуждает метаязыковых ассоциаций. Ср.:
Он пишет хокку исключительно черными чернилами,причем ученическим пером (С. Гандлевский. НРЗБ. НКРЯ)и т. п.
В других же контекстах обращает на себя внимание нарочитость тавтологии:
Над ними небо было черное, чернее чернил,и не было видно звезд (Б. Савинков (В. Ропшин). То, чего не было. НКРЯ);<.. > у нас непорядок со временем и есть ли смысл заниматься каким-то серьезным делом например чертить чертежи черными чернилами [63]63
Источники цитаты – известная тавтограмма: Четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж чрезвычайно чисто.
[Закрыть]когда со временем не очень хорошо <…> (С. Соколов. Школа для дураков. НКРЯ)и т. п.
О. И. Блинова, основываясь на данных обыденной мотивологии, отмечает, что наиболее достоверным показателем осознания словообразовательных связей слов являются высказывания, включающие в свой состав метаоператоры (Сильный ветер, снег метёт —и называют метель),а так называемые «характеризующие тексты», которые содержат «какую-либо характеристику обозначаемых ими предметов – по функции, свойству, признаку, использованию и т. п.» не свидетельствуют об осознании мотивационных отношений (например, В России у нас тоже метели сильные мели, а морозов таких, как здеся, не былои под.) [Блинова 2009: 232–233]. В самом деле, в «характеризующих текстах» не эксплицировано понимание говорящими словообразовательных связей между родственными словами [64]64
Такое положение характерно для слов, мотивационные связи которых в современном русском языке ослаблены (метель – мести, опенок – пеньи т. п.). В то же время «характеризующие тексты», в которых используются слова с живыми словообразовательными связями, принимаются в качестве доказательств и при отсутствии специальных метаоператоров. Ср. приводимые автором примеры: Шелковникпо болотам растет, жёлтенький светочек высокий, листок такой круглый <…> мягонький, как шелковыйили А это вот шумовка.Она от шумав голове, когда вот голова сильно шумит,её и пьюти т. п. [Блинова 2009: 234]. Видимо, для квалификации подобных контекстов как «метаязыковых» или «характеризующих» оказываются важными сразу несколько факторов: 1) актуальность обнаруживаемых словообразовательных связей, 2) наличие средств акцентирования (например, повтор: от шумав голове – когда голова сильно шумит;ср. также пример другого исследователя: Физа в больнице, у ей грыжа прогрызла в пах. Она с палочкой – и вот это. прогрызла ей в пах, а в однем правом <… > боку была <…> а счас в левом опять прогрызла[Иванцова 2009: 347]), 3) народно-этимологические технологии семантизации слова, наконец, 4) субъективный фактор – готовность исследователя к обнаружению соответствующих примеров.
[Закрыть]. В то же время наблюдение над художественными текстами показывает, что в них и при отсутствии метаоператоров (то есть при нулевых метаоператорах) возникающие «мотивационные сцепки» [Велединская 1997: 4] могут актуализировать (осознаваемые говорящими) отношения языковых знаков. Ср. подобные «сцепки» в текстах художественных произведений:








