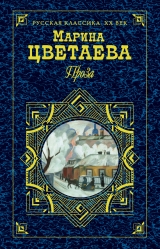
Текст книги "Мемуарная проза"
Автор книги: Марина Цветаева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 31 страниц)
МЛАДЕНЧЕСТВО
Наталья Гончарова родилась в Средней России, в самом сердце ее, в Тульской губ<ернии>, деревне Лодыжино. Места толстовско-тургеневские. Невдалеке Ясная Поляна, еще ближе Бежин Луг. А в трактире уездного городка Чермь – беседа Ивана с Алешей. Растет с братом-погодком в имении бабушки. Бабушка безвыездная: ни к кому никуда, зато к ней все, вся деревня. По вечерам беседы на крыльце. Что у кого отелилось – ожеребилось – родилось, что у кого болит – чем это что лечить. Бабушка живет в недостроенном доме, родители Гончаровой с детьми напротив, в недоснесенном. Почему недоснесли? Почему недостроили? Так, между начатком и пережитком, протекает ее младенчество. Два дома и ни одного цельного, а зато два. Дом в ущелье – прямой вывод тех двух. Прямым выводом была бы и палатка, всякое жилье, кроме комфортабельной казармы современности. Это – отзвук в быту. И – обратный урок колыбели: недостроенное – достраивай! Законченные «соборы» Гончаровой – нет всем недостроенным домам.
– У вас есть любимые вещи? – Нелюбимые – есть. Недоделанные. Я просто оборачиваю их лицом к стене, чтобы никто не видел и самой не видеть. А потом, какой-то нужный час – лицом от стены и – все заново.
На вопрос, на который никто не отвечает сразу, а иные не отвечают вовсе, не потому, что не было, а потому, что не думали («да у меня и не было первого!» ушами слышала) – Гончарова ответила точно и сразу:
– Первое воспоминание? В той комнате, знаете, о которой я Вам говорила, – белянке, мы с братом за круглым столом смотрим картинки. Книга толстая, картинок много. Гóда? Два.
– А это должно быть второе, если не первое. Я все детство прожила в деревне и совсем не помню зимы. Была же, и гулять должно быть водили, – ничего. А это помню. Весна на гумне. Меня за руку ведут через лужи. А из луж (голос тишает, глаза загораются, меня, на которую глядят, не видят, видят): – из-под льда и снега – ростки. Острые зеленые ростки. На гумне всегда много зерен рассыпано. Первые проросшие.
Ну, есть и лучшие, ну, может ли быть лучше, чем: два первых сразу, вся Гончарова в колыбели: сила природы в ней и тяга ремесла. Книга то-олстая! Картинок мно-ого! И не эти ли острые ростки – потом – через всю книгу ее творчества: бытия.
– Кукол не любила, нет. Кошек любила. А что любила – садики делать. (Вообще любила делать.) Вырезались из бумаги кусты, деревца и расставлялись в коробке. Четыре стенки – ограда. Законченный сад.
– Вам бы не хотелось сейчас – такое деревцо, тогдашнее?
(Голубово, имение барона Б. А. Вревского. «В устройстве сада и постройках принимал Пушкин, по фамильному преданию, самое горячее участие: сам копал грядки, рассадил множество деревьев, что, как известно, было его страстью».)
– Вы говорите, первое воспоминание. А вот – самое сильное, без всяких событий. Песня. Нянька пела. Припев, собственно:
А молодость не вернется,
Не вернется опять.
– А знаете, в чем дело? В противузаконном «опять». Если бы во-век – не то было бы, не все было бы. Какое нам дело, что во-век? Во-век, это так далеко, во-век, это вперед, в будущее, то во-век, в которое мы не верим, до которого нам дела нет, во-век, это ведь и после нас, а не с нами, после всех. Ведь во-век – это не только в наш век (жизнь), в наш век (столетие), а вообще – и во веки веков. Поэтому безразлично.
А вот опять, то есть сюда же, на эту точку, на которой мы сейчас стоим. Ведь мы стоим, вещь уходит! Не вернется опять – вспять. В опять ее невозвратный шаг от нас, просто – ушагивает.
А во-век – никогда – никакого зрительного впечатления, отвлеченность, в которую мы не верим. Кто же когда-либо верил в ничто и никогда.
Усиленное не вернется, не только не вернется, но сугубо не вернется. Вот—опять!
– Я ведь маленькая была и слов не понимала. Понимала только, что ужасно грустно.
– Вы понимали – смысл.
– А еще у нас была молельня. Но до молельни были молитвы, то есть нянька. Красивая, молодая, черноглазая. И вот, не знаю уж для чего, может быть, чтобы сидели смирно, а может быть, чтобы просто сидели, а она бы уходила, – молитвы. Сидим и молимся. Да как! Часами! (Может быть, ее же, нянькины, грехи и замаливали…) Вы только представьте себе: дети, резвые, драчуны – я до пятнадцати лет дралась с братом, мы запирали дверь на задвижку и дрались, дрались ожесточенна – только одним махом – и тогда я поняла, что бесполезно, – дети, резвые, драчуны, – а ведь как ждали этого часа! – «Вот когда папа с мамой уйдут».
– А что это были за молитвы?
– Не знаю. Простые, должно быть.
– Хлыстовские, может быть?
– А молельня: там у нас фильтр был – знаете, такая громада? Тяжелый, глиняный, нелепый какой-то. И никто, конечно, не цедил. А фильтр стоял. А стоял он на ящике, особом таком, в боку отверстие, вроде окна. Знаете такие ящики? И вот однажды мы, поглядев, поняли, что это, собственно, храм. Огромный храм, только маленький. И устроили молельню. Пол выстлали золотой бумагой, даже алтарь был. И – молились.
– Но как же, – раз ящик был маленький?
– Не в нем молились, в него молились, через то окошко, боковое…
(Перекличка. Недавно я, во вступлении к письмам Рильке, обмолвилась: «Еще мне хочется говорить – ему, точней – в него». То, что Гончарова говорит о храме, относится также к божеству храма: в него молиться, не ему молиться.)
… «Нянька знала. А мать, кажется, нет. Просто топчемся около фильтра. Мало ли…»
Гончаровские соборы из глубока росли!
«В гимназию поступила прямо из деревни. От всех доставалось, за все доставалось. Особенно от словесника за орфографию». – Плохую? – «Тульскую. Говорила по-тульски – х вместо ф и все такое – а писала как говорила. Написанным это должно было выглядеть ужасно». – Ужасно. – «А еще от классной дамы – за кудри. Вились только две передние пряди, это-то и сбивало: вся гладкая, а по бокам вьюсь. И глажу, и мажу… Сколько – раз: „Гончарова, к начальнице в кабинет!“ – „Опять завилась?“ – И мокрой щеткой, до боли в висках. Выхожу, гладкая, как мышь, а сама смеюсь, – от воды ведь, знаете, что с кудрявыми волосами? И на следующей перемене…»
– «А кудри завьются, завьются опять!»
Только погрустить об этих педагогах, могущих заподозрить в щипцах – этот дичок, за давностью преподавания природоведение забывших, очевидно, что есть волосы, действительно вьющиеся, как хмель вьется, и что с такими волосами – как с хмелем – как с самой Гончаровой – ничего не поделаешь. Разве что вырвать с корнем.
Все это мелочи – и драки, и молельня, и кудри. Останется не это, а «соборы». Хочу, чтобы и это осталось.
Есть ли у художника личная биография, кроме той, в ремесле? И, если есть, важна ли она? Важно ли то, из чего? И – из того ли – то?
Есть ли Гончарова вне холстов? Нет, но была до холстов, Гончарова до Гончаровой, все то время, когда Гончарова звучало не иначе, как Петрова, Кузнецова, а если звучало – то отзвуком Натальи Гончаровой – той (печальной памяти прабабушки). Гончаровой до «соборов» нет – все они внутри с самого рождения и до рождения (о, вместимость материнского чрева, носящего в себе всего Наполеона, от Аяччио до св. Елены!) – но есть Гончарова до холстов, Гончарова немая, с рукой, но без кисти, стало быть – без руки. Есть препоны к соборам, это и есть личная биография. – Как жизнь не давала Гончаровой стать Гончаровой.
Благоприятные условия? Их для художника нет. Жизнь сама неблагоприятное условие. Всякое творчество (художник здесь за неимением немецкого слова Кünstler) – перебарыванье, перемалыванье, переламыванье жизни – самой счастливой. Не сверстников, так предков, не вражды, ожесточающей, так благожелательства, размягчающего. Жизнь – сырьем – на потребу творчества не идет. И как ни жестоко сказать, самые неблагоприятные условия – быть может – самые благоприятные. (Так, молитва мореплавателя: «Пошли мне Бог берег, чтобы оттолкнуться, мель, чтобы сняться, шквал, чтобы устоять!»)
Первый холст – конец этой Гончаровой и конец личной биографии художника. Обретший глас (здесь хочется сказать – глаз) – и за него ли говорить фактам? Их роль, в безглагольную пору, первоисточника, отныне не более как подстрочник, часто только путающий, как примечания Державина к собственным стихам. Любопытно, но не насущно. Обойдусь и без. И – стихи лучше знают!
И если ценно, то в порядке каждой человеческой жизни, может быть и менее, потому что менее показательно. Не-художник в жизни живет весь, на жизнь – ставка, на жизнь как она есть, здесь – на жизнь как быть должна.
Холст: есмь. Предыдущее – ход к холсту.
Есть факты – наши современники. Есть – наши предшественники, факты до нас. «Когда я не была Гончаровой» (не для других, а для самой себя, не Гончаровой – именем, а Гончаровой – силой). Таково все детство и юность. Предки, предшественники, предтечи. Их и нужно слушать. Дедов – о будущих внуках. Гончарова – маленькая, себе нынешней бабушка, слепая и вещая. Рука Гончаровой, насаживающая садик, знает, что делает, пятилетняя Гончарова – нет. Встреча знания с сознанием, руки Гончаровой с головой Гончаровой – первый холст. Рука Гончаровой, насаживающая садик, – рука из будущего. Здесь пращур вещ! Ее рука умнее ее. В последующем – юношестве – рука (инстинкт) сдает. Лучший пример – та же Гончарова, кончающая школу живописи и ваяния – скульптором. Боковое ответвление принявшая за ствол. Рука, смело раскрашивающая деревья в семью-семь цветов радуги, здесь ослепла и наткнулась на форму. (Бабушка заснула, и внучка играет сама).
Детство – пора слепой правды, юношество – зрячей ошибки, иллюзии. По юношеству никого не суди. (Казалось бы – исключение Пушкин, до семи лет толстевший и копавшийся в пыли. Но почем мы знаем, что он думал, верней, что в нем думало, когда он копался в пыли. Свидетелей этому не было. Последующее же – о несуждении по юношеству – к Пушкину относится более, чем к кому-либо. Пушкин, беру это на себя, за редкими исключениями в юношестве – отталкивает.)
О, это потом опять споется – как спелось с Гончаровой. Сознание доросло до инстинкта, не спелось, а спаялось с ним. С первым холстом (с фактом – актом – первого холста, каков бы ни был) Гончарова – зрячая сила, вещь почти божественная.
История моих правд – вот детство. История моих ошибок – вот юношество. Обе ценны, первая как Бог и я, вторая как я и мир. Но, ища нынешней Гончаровой, идите в ее детство, если можете – в младенчество. Там – корни. И – как ни странно – у художника ведь так: сначала корни, потом ветви, потом ствол.
История и до-история. Моя тяга, поэта, естественно, к последней. Как ни мало свидетельств – одно доисторическое – почти догадка – больше дает о народе, чем все последующие достоверности. «Чудится мне»… так говорит народ. Так говорит поэт.
Если есть еще божественное, кроме завершения, мира явленного, то – он же в замысле.
Еще божественнее!
Но есть и еще одно – уже не божественное, а человеческое – в личной биографии большого человека: то сжатие сердца, с которым встречаем гончаровское деревцо. То соучастие сочувствия, вызываемое в нас, всех так игравших, ею, доигравшей и выигравшей.
У подножия тех соборов – та картонка.
Простое умиление сердца.
ДВЕ ГОНЧАРОВЫ
– Что Вы сейчас пишете?
– Наталью Гончарову.
– Ту или эту?
Значит, две. Две и есть. Чем руководствовались родители нашей, назвав ее тем именем, еще раз возобновив в наших ушах злосчастное созвучие, почти что заклеймив. В честь? Мысленно оставляю пустое место. В память? Помним и так. Может быть – и скорее всего – попросту: у нас-де в роду имя Наталья. Но именно таким попросту орудует судьба. К этому еще вернусь, говоря о Наталье Гончаровой – той.
Наталья Гончарова – та – вкратце.
Молодая девушка, красавица, та непременная красавица многодочерних русских семейств, совсем бы из сказки, если из трех сестер – младшая, но старшая или младшая, красавица – сказочная, из разорившейся и бестолковой семьи выходит замуж за – остановка – за кого в 1831 г. выходила Наталья Гончарова?
Есть три Пушкина: Пушкин – очами любящих (друзей, женщин, стихолюбов, студенчества), Пушкин – очами любопытствующих (всех тех, последнюю сплетню о нем ловивших едва ли не жаднее, чем его последний стих), Пушкин – очами судящих (государь, полиция, Булгарин, иксы, игреки – посмертные отзывы) и, наконец, Пушкин – очами будущего – нас.
За кого же из них выходила Гончарова? Во всяком случае, не за первого и тем самым уже не за последнего, ибо любящие и будущие – одно. Может быть, за второго – Пушкина сплетен – и – как ни жестоко сказать – вернее всего, за Пушкина очами суда. Двора: за Пушкина – пусть со стихами, но без чинов, – за Пушкина – пуще, чем без чинов – вчерашнего друга декабристов, за Пушкина поднадзорного.
Что бы ни говорилось о любви Николая I к Пушкину, этого слова государя о поэте достаточно: «Здесь все тихо, и одна трагическая смерть Пушкина занимает публику и служит пищей разным глупым толкам. Он умер от раны за дерзкую и глупую картель, им же посланную, но слава Богу, умер христианином». И еще, в ответ на нижеследующие слова Паскевича: «Жаль Пушкина, как литератора, в то время, когда его талант созревал, но человек он был дурной». – «Мнение твое о Пушкине я совершенно разделяю, и про него можно справедливо сказать, что в нем оплакивается будущее, а не прошедшее». (Будущее – что? «Хороший» человек, в противовес «дурному», бывшему? Или будущий большой писатель? Если первые – откуда он взял, вернее, как он, хоть на ноготь зная Пушкина, мог допустить, что Пушкин будет – «хорошим» в его толковании!) Да даже если бы на смертном одре самоустно ему, государю, поклялся – клянется умирающий, держит (не держит) живущий. Если же второе, неужели государю всего данного Пушкиным было – мало? Где он видал больше? Да было ли больше в тридцать шесть лет? Но Бог иногда речет устами (даже цензоров!) – бывшее бы (поведение, дарование) вот что хотел сказать, а сказал будущее, то есть назвал нас, безутешных в таком пушкинском окружении.
Николай I Пушкина ласкал, как опасного зверя, который вот-вот разорвет. Пушкина – приручал. Беседа с «умнейшим человеком России»? Ум – тоже хищный зверь, для государей – самый хищный зверь. Особенно – вольный. Николай I Пушкина засадил в клетку, а клетку позолотил (мундир камер-юнкера и – о, ирония! – вместо заграничной подорожной – открытый доступ в архив, которым, кстати, Пушкина при себе и держал. – «Ты в отставку, а я тебе архивную дверь перед носом». И Пушкин – остался. Вместо деревни – Двор, вместо жизни – смерть).
Николай I Пушкина видел под страхом, под страхом видела его и Гончарова. Их отношение – тождественно. Если Николай I, как мужчина и умный человек, боялся в нем ума, Наталья Гончарова, как женщина, существо инстинкта, боялась в нем – его всего. Николай I видел, Наталья Гончарова чуяла, и еще вопрос – какой страх страшней. Ума ли, сущности ли, оба, и государь, и красавица, боялись, и боялись силы.
Почему Гончарова все-таки вышла замуж за Пушкина, и некрасивого, и небогатого, и незнатного, и неблагонадежного? Нелюбимого. Разорение семьи? Вздор! Такие красавицы разорять созданы. Захоти Гончарова, она в любую минуту могла бы выйти замуж за самого блистательного, самого богатого, самого благонадежного, – самое обратное Пушкину. Его слава? Но Гончарова, как красавица – просто красавица – только, не была честолюбивой, а слава Пушкина в ее кругах – ее мы знаем. Его стихи? Вот лучшее свидетельство, из ее же уст:
«Читайте, читайте, я не слушаю».
А вот наилучшее, из уст—его:
«…Я иногда вижу во сне дивные стихи, во сне они прекрасны, но как уловить, что пишешь во время сна. Раз я разбудил бедную Наташу и продекламировал ей стихи, которые только что видел во сне, потом я испытал истинные угрызения совести: ей так хотелось спать!»
– Почему вы тотчас же не записали этих стихов?
Он посмотрел на меня насмешливо и грустно ответил:
– Жена моя сказала, что ночь создана на то, чтобы спать, она была раздражена, и я упрекнул себя за свой эгоизм. Тут стихи и улетучились.
(А. О. Смирнова, Записки, т. 1.)
Почему же? За что же?
Страх перед страстью. Гончарова за Пушкина вышла из страху, так же, как Николай I из страху взял его под свое цензорское крыло.
Не выйду, так… придется выйти. Лучше выйду. Проще выйти. «Один конец», так звучит согласие Натальи Гончаровой. Гончарова за Пушкина вышла без любви, по равнодушию красавицы, инертности неодухотворенной плоти – шаг куклы! – а может быть и с тайным содроганием. Пушкин знал, и знал в этот час больше, чем сама Гончарова. Не говоря о предвидении-судьбе – всем над и под событиями, – Пушкин, как мужчина, знавший много женщин, не мог не знать о Гончаровой больше, чем Гончарова, никогда еще не любившая.
Вот его письмо:
«…Только привычка и продолжительная близость могут мне доставить привязанность Вашей дочери; я могу надеяться со временем привязать ее к себе, но во мне нет ничего, что могло бы ей нравиться; если она согласится отдать мне свою руку, то я буду видеть в этом только свидетельство спокойного равнодушия ее сердца.
…Не явится ли у нее сожаление? не будет ли она смотреть на меня, как на препятствие, как на человека, обманом ее захватившего? не почувствует ли она отвращение ко мне? Бог свидетель – я готов умереть ради нее, но умереть ради того, чтобы оставить ее блестящей вдовой, свободной хоть завтра же выбрать себе нового мужа, – эта мысль – адское мучение!»
(Пушкин – Н. И. Гончаровой (матери),
в перв<ой> половине апреля 1830 г.)
Пушкин в этот брак вступил зрячим, не с раскрытыми, а с раздернутыми глазами, без век. Гончарова – вслепую или вполуслепую, с веками-завесами, как и подобает девушке и красавице.
С Натальи Гончаровой с самого начала снята вина.
(«Молодость, неопытность, соображения семьи». Не доводы. Княгиня Волконская тоже была молода и неопытна, а семья – вспомним ее сборы в Сибирь! – тоже соображала – и как! «Молодость, неопытность, семья» —принадлежность всех невест того времени и ничего не объясняют. Не говоря уже о том, что девушки того круга почти исключительно жили чувствами и искусствами и тем самым больше понимали в делах сердца, чем наши самые бойкие, самые трезвые, самые просвещенные современницы.)
– Эту жизнь мы знаем. Выезжала, блистала, повергала к ногам всех, от тринадцатилетнего лицеиста до Всероссийского Самодержца – нехотя, но не противясь – как подобает Елене, рождала детей, называла их, по желанию мужа, простыми именами. (Мария, Александр) – третьего: «Он дал мне на выбор Гаврилу и Григория (в память Пушкиных, погибших в Смутное время). Я выбрала Григория». Хорош выбор – между удавкой и веревкой! (В данную минуту с ней все мое сочувствие, право матери, явившей в мир, являть и в имени. Не то плохо, что Григорий плох, а что ей пришлось выбрать Григория.)
Безучастность в рождении, безучастность в наименовании, нужно думать – безучастность в зачатии их. Как – если не безучастность к собственному успеху – то неучастие в нем, ибо преуспевали глаза, плечи, руки, а не сущность, не воля к успеху: «вошел – победил». Входить – любила, а входить – побеждать. Безучастность к работе мужа, безучастность к его славе. Предельное состояние претерпевания.
Кокетство? Не больше, чем у современниц, менее прекрасных. Не она более кокетлива – те менее прекрасны. Отсюда успех. Две страсти, если можно применить к ней это слово: свет и обратная страсть: отвращение к деревне. Так, Пушкину на мечту о Болдине: «С волками? Бой часов? Да вы с ума сошли!» И залилась слезами.
Дурная жена? Не хуже других, таких же. Дурная мать? Не хуже других, от нелюбимого мужа. Когда Пушкина убили, она плакала.
Нет в Наталье Гончаровой ничего дурного, ничего порочного, ничего, чего бы не было в тысячах таких, как она, – которые не насчитываются тысячами. Было в ней одно: красавица. Только – красавица, просто – красавица, без корректива ума, души, сердца, дара. Голая красота, разящая, как меч. И – сразила.
Просто – красавица. Просто – гений.
Ибо все: и предательство в любви, и верность в дружбе, и сыновнесть своим дурным и бездарным родителям (прямо исключающим возможность Пушкина), и неверность – идеям или лицам? (нынче ода декабристам, завтра послание их убийце), и страстная сыновнесть России – не матери, а мачехе! – и ревность в браке, и неверность в браке, – Пушкин дружбы, Пушкин брака, Пушкин бунта, Пушкин трона, Пушкин света, Пушкин няни, Пушкин «Гавриилиады», Пушкин церкви, Пушкин – бесчисленности своих ликов и обличий – все это спаяно и держится в нем одним: поэтом.
Все на потребу! Керн так Керн, Пугачев так Пугачев, дворцовые ламповщики так дворцовые ламповщики (с которыми ушел и пропал на три дня, слушая и записывая. Пушкина – все уводило).
В своем (гении) то же, что Гончарова в своем (красоте). В своем гении то же, что Гончарова в своем. Не пара? Нет, пара. Та рифма через строку со всей возможностью смысловой бездны в промежутке. Разверзлась.
Пара по силе, идущей в разные стороны, хотелось бы сказать: пара друг от друга. Пара – врозь. Это, а не другое, в поверхностном замечании Вяземского: «Первый романтический поэт нашего времени на первой романтической красавице».
Неправы другие с их «не-парностью». Первый на первой. А не первый по уму на последней (дуре), а не первая по красоте на последнем (заморыше). Чистое явление гения, как чистое явление красоты. Красоты, то есть пустоты. (Первая примета рокового человека: не хотеть быть роковым и зачастую даже этого не знать. Как новатор никогда не хочет быть новатором и искренне убежден, что просто делает по-своему, пока ему ушей не прожужжат о его новизне, левизне! – роковое: эманация.)
Наталья Гончарова просто роковая женщина, то пустое место, к которому стягиваются, вокруг которого сталкиваются все силы и страсти. Смертоносное место. (Пушкинский гроб под розами!) Как Елена Троянская повод, а не причина Троянской войны (которая сама не что иное, как повод к смерти Ахиллеса), так и Гончарова не причина, а повод смерти Пушкина, с колыбели предначертанной. Судьба выбрала самое простое, самое пустое, самое невинное орудие: красавицу.
Тяга Пушкина к Гончаровой, которую он сам, может быть, почел бы за навязчивое сладострастие и достоверно («огончарован») считал за чары, – тяга гения – переполненности – к пустому месту. Чтобы было куда. Были же рядом с Пушкиным другие, недаром же взял эту! (Знал, что брал.) Он хотел нуль, ибо сам был – всё. И еще он хотел того всего, в котором он сам был нуль. Не пара – Россет, не пара Раевская, не пара Керн, только Гончарова пара. Пушкину ум Россет и любовь к нему Керн не нужны были, он хотел первого и недостижимого. Женитьба его так же гениальна, как его жизнь и смерть.
«Она ему не пара» – точно только то пара, что спевается! Есть пары по примете взаимного тяготения счастливые по замыслу своему, по движению к – через обеденный ли стол (Филемон и Бавкида), через смертное ли ложе (Ромео и Джульетта), через монастырскую решетку (Элоиза и Абеляр), через все моря (Тристан и Изольда) – через все вопреки – вопреки всем через – счастливые: любящие.
Есть пары – тоже, но разрозненные, почти разорванные. Зигфрид, не узнавший Брунгильды, Пенфезилея, не узнавшая Ахилла, где рок в недоразумении, хотя бы роковом. Пары – всё же.
А есть роковые—пары, с осужденностью изнутри, без надежды ни на сем свете, ни на том.
Пушкин – Гончарова.
Что такое Гончарова по свидетельствам современников? Красавица. «Nathalie est un ange»[71]71
Наташа—ангел (фр.)
[Закрыть] (Смирнова). «Печать меланхолии, отречения от себя…» (NB! От очередного бала или платья?) Молчаливая. Если приводятся слова, то пустые. До удивительности бессловесная. Все об улыбке, походке, очах, плечах, даже ушах – никто о речах. Ибо вся в улыбках, очах, плечах, ушах. Так и останется: невинная, бессловесная – Елена – кукла, орудие судьбы.
Страсть к балам – то же, что пушкинская страсть к стихам: единственная полная возможность выявления. (Явиться – выявиться!) Входя в зал – рекла. Всем, от мочки ушка до носка башмачка. Всем сразу. Всем, кроме слов. Все être[72]72
Быть (фр.).
[Закрыть] красавицы в paraître.[73]73
Казаться (фр.).
[Закрыть] Зал и бал – естественная родина Гончаровой. Гончарова только в эти часы была. Гончарова не кокетничать хотела, а быть. Вот и разгадка Двора и деревни.
А дома зевала, изнывала, даже плакала. Дома – умирала. Богиня, превращающаяся в куклу, возвращающаяся в небытие.
Если друг другу не пара, то только в христианском смысле брака, зиждущегося на совместном устремлении к добру. Ни совместности, ни устремления, ни добра. Впрочем, устремление было: брачная парная карета, с заездом на Арбат, дом Хитровой (туда молодые поехали после венца), гнала прямо на Черную речку. Отсюда пути расходятся: Гончарова – к Ланскому, Пушкин – в Святогорский монастырь.
Языческая пара, без Бога, с только судьбой.
Жуткая подробность. Карета, увозившая Пушкина на Черную речку, на дворцовой набережной поравнялась с каретой Гончаровой. Увидь они друг друга… «Но жена Пушкина была близорука, а Пушкин смотрел в другую сторону».
Фактическое. Пушкин должен был быть убит белым человеком на белой лошади, в которого так свято верил, что даже ошибочно счел его Вейскопфом (он точно свою смерть примерял), – одним из генералов польской войны, на которую стремился – навстречу смерти. Судьба посредством Гончаровой выбирает Дантеса, пустое место, равное Гончаровой. Пушкин убит не белой головой, а каким-то – пробелом.
Кто бы – кроме?
«Делать было нечего, я стал готовиться к поединку, купил пистолеты, выбрал секунданта, привел бумаги в порядок и начал дожидаться и прождал напрасно три месяца. Я твердо, впрочем, решил не стрелять в Пушкина, но выдерживать его огонь, сколько ему будет угодно».
(Гр. В. А. Соллогуб – обиженный им!)
Не такой же, а именно Дантес, красавец, кавалергард, смогший на прощальные прощающие слова Пушкина со смехом ответить: «Передайте ему, что я его тоже прощаю!» Не Дантес смеялся, пушкинская смерть смеялась, – той белой лошади раскат (оскал).
Чтобы не любить Пушкина (Гончарова) и убить Пушкина (Дантес), нужно было ничего в нем не понять. Гончарову, не любившую, он взял уже с Дантесом in dem Kauf,[74]74
В придачу (нем.).
[Закрыть] то есть с собственной смертью. Посему, изменила Гончарова Пушкину или нет, только кокетничала или целовалась, только целовалась или другое все, ничего или все, – не важно, ибо Пушкин Дантеса вызвал за его любовь, не за ее любовь. Ибо Пушкин Дантеса вызвал бы в конце концов и за взгляд. Дабы сбылись писания.
И еще, изменила ли Гончарова Пушкину или нет, целовалась или нет, все равно – невинна. Невинна потому, что кукла невинна, потому что судьба, невинна потому, что Пушкина не любила.
А Ланского любила и, кажется, была ему верной женой.
«Первая романтическая красавица наших дней» не боялась призраков. Призрак Пушкина (живого из живых, страстного из страстных – призрак арапа!) страшен. Но она его не увидела, а не увидела его, потому что Пушкин знал, что не увидит. На призрак нужны – не те очи. Мало на него самых огромных, самых наталье-гончаровских глаз. Последний приход Пушкина был бы его последним поражением: она бы не оторвалась от Ланского, до которого наконец дорвалась.
Наталья Гончарова и Пушкин, Мария-Луиза и Наполеон. Тот же страшный сон, так скоро и так жадно забытый, Гончаровой на груди Ланского, Марией-Луизой на груди Нейперга.
Тяжело с нелюбимым. Хорошо с любимым. Так и в песнях поется. Нужно пожалеть и их.
Что же дальше с Гончаровой?
Раздарив все смертные реликвии Пушкина – «я думаю, вам приятно будет иметь архалук, который был на нем в день его несчастной дуэли», Нащокину – архалук (красный, с зелеными клеточками), серебряные часы и бумажник с ассигнацией в 25 р<ублей> и локоном белокурых волос, Далю – талисманный перстень с изумрудом и «черный сюртук с небольшой, в ноготок, дырочкой против правого паха» – на вынос тела из дому в церковь «от истомления и от того, что не хотела показываться жандармам» не явившись (первое неявление за сто явлений!).
– А вот еще свидетельство, девять недель спустя:
«То, что вы мне говорите о Наталье Николаевне, меня опечалило. Странно, я ей от всего сердца желал утешения, но не думал, что желания мои исполнятся так скоро».
(А. Н. Карамзин – Е. А. Карамзиной,
8 апреля 1837 года из Рима.)
А вот другое, немного спустя:
«Ты спрашиваешь меня, как поживают и что делают Натали и Александрина: живут очень неподвижно, проводя время как могут; понятно, что после жизни в Петербурге, где Натали носили на руках, она не может находить особой прелести в однообразной жизни завода, и она чаще грустна, чем весела».
(Д. Н. Гончаров – Екатерине Николаевне Дантес-Геккерн,
из Полотняного Завода,
4 сентября 1837 года.)
А вот и эпилог:
Наталья Николаевна Пушкина 18 июля 1844 года вышла замуж за генерала Петра Петровича Ланского.
1837–1844. Что же между? Два года добровольного изгнания на Полотняном Заводе – «Носи по мне траур два года. Постарайся, чтобы забыли про тебя. Потом выходи опять замуж, но не за пустозвона», – потом все то же, под верховным покровительством государя Николая I, не раз выражавшего желание, «чтобы Наталья Николаевна по-прежнему служила одним из лучших украшений его царских приемов. Одно из ее появлений превратилось в настоящий триумф».
Наталья Николаевна и Николай I – еще раз сошлись.
«Спящий в гробе мирно спи,
Жизни радуйся живущий».
Так бы и «радовалась» – до старости, если бы, семь лет спустя после смерти Пушкина, не вышла замуж за Ланского, давшего ей – неисповедимы пути господни! – то, чего не мог дать – раз не дал! – Пушкин: человеческую душу.
Здесь кончается Гончарова – Елена, Гончарова – пустое место, Гончарова – богиня, и начинается другая Гончарова: Гончарова – жена, Гончарова – мать, Гончарова – любящая, новая Гончарова, которая, может быть, и полюбила бы Пушкина.
Ну, а вне Пушкина, Дантеса, Ланского? Сама по себе? Не было. Наталья Гончарова вся в житейской биографии, фактах (другой вопрос – каких), как Елена Троянская вся в борьбе ахейцев и данайцев. Елены Троянской – вне невольно вызванных и – тем – претерпенных ею событий просто нету. Пустое место между сцепившихся ладоней действия. Разведите – воздух.
Вот Наталья Гончарова – та.
Наша:
Молодая девушка, чудом труда и дара, внезапно оказывается во главе российской живописи. Затем… Затем все то же. Никаких фактов, кроме актов. Чисто мужская биография, творца через творение, вся в действии, вне претерпевания. Что обратное Наталье Гончаровой – той? Наталья Гончарова – эта. Ибо обратное красавице не чудовище («la belle et la bête»[75]75
Красавица и чудовище (фр.).
[Закрыть]), как в первую секунду может показаться, а – сущность, личность, печать. Ведь если и красавица – не красавица, красавица – только красавица.








