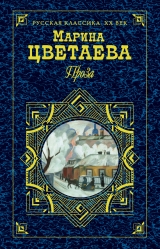
Текст книги "Мемуарная проза"
Автор книги: Марина Цветаева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 31 страниц)
Как описать Ангела? Ангел ведь не состоит из, а сразу весь. Предстает. Предстоит. Когда говорит Ангел, никакого сомнения быть не может: мы все видим – одно.
Только прибавлю: с седою прядью. Двадцать лет – и седая, чистого серебра, прядь.
И еще – с бобровым воротом шубы. Огромной шубы, потому что и рост был нечеловеческий: ангельский.
Помимо этого нечеловеческого роста, «фигуры» у него не было. Он сам был – фигура. Девятнадцатый год его ангельству благоприятствовал: либо беспредельность шубы, либо хламида св. Антония, то есть всегда – одежда, всегда – туманы. В этом смысле у него и лица не было: так, впадины, переливы, «и от нивы и до нивы – гонит ветер прихотливый – золотые переливы»… (серебряные). Было собирательное лицо Ангела, но до того несомненное, что каждая маленькая девочка его бы, из своего сна, узнала. И – узнавала.
Но зря ангельский облик не дается, и было в нем что-то от Ангела: в его голосе (этой самой внутренней из наших внутренностей, недаром по-французски organe), в его бережных жестах, в том, как, склонив голову, слушал, как приподняв ее, склоненную, в двух ладонях, изнизу – глядел, в том, как внезапным недвижным видением в дверях – вставал, в том, как без следу – исчезал.
Его красота, ангельскость его красоты, его все-таки чему-то – учила, чему-то выучила, она диктовала ему шаг («он ступает так осторожно, точно боится раздавить какие-то маленькие невидимые существа», Аля), и жест, и интонацию. Словом (смыслом) она его научить не могла, это уже не ее разума дело, – поэтому сказать он ничего не мог (нечего было!), выказать – все.
Поэтому и обманывались: от самой простой уборщицы – до нас с Сонечкой. «Так любит, что и сказать не может…» (Так – не любил, никак не любил.) «Какая-то тайна…» Тайны не было. Никакой – кроме самотайны такой красоты.
Научить ступить красота может (и учит!), поступить – нет, выказать – может, высказать – нет. Нужному голосу, нужной интонации, нужной паузе, нужному дыханию. Нужному слову – нет. Тут уже мы вступаем в другое княжество, где князья – мы, «карлики Инфанты».
Не «было в нем что-то от Ангела», а – все в нем было от Ангела, кроме слов и поступков, слова и дела. Это были – самые обыкновенные, полушкольные, полуактерские, если не лучшие его среды и возраста – то и не худшие, и ничтожные только на фоне такой красоты.
Я сказала: в каком-то смысле у него лица не было. Но и личины – не было. Было – обличие. Ангельская облицовка рядового (и нежилого) здания. Обличие, подобие (а то, что я сейчас делаю – надгробие), но все-таки лучше, что – было, чем – не было бы!
Ему – дело прошлое, и всему этому уже почти двадцать лет! его тогдашний возраст! – моя стихотворная россыпь «Комедьянт», ему, о нем, о живом, тогдашнем нем, моя пьеса «Лозэн» (Фортуна), с его живым возгласом у меня в комнате, в мороз, под темно-синим, Осьмнадцатого века фонарем:
…да неужели ж руки
И у меня потрескаются? Черт
Побрал бы эту стужу!
Жаль вас, руки.
(Это черт звучало нежнее лютни!) Вижу игру темно-синего света и светло-синей тени на его испуганно-свидетельствуемой руке… Ему моя пьеса (пропавшая) «Каменный ангел»: каменный ангел на деревенской площади, из-за которого невесты бросают женихов, жены – мужей, вся любовь – всю любовь, из-за которого все топились, травились, постригались, а он – стоял… Другого действия, кажется, не было. Хорошо, что та тетрадь пропала, так же утопла, отравилась, постриглась – как те. Его тень в моих (и на моих!) стихах к Сонечке… Но о нем – другая повесть. Сказанное – только чтобы уяснить Сонечку, показать, на что были устремлены, к чему были неотторжимо прикованы в ту весну 1919 года, чем были до краев наполнены и от чего всегда переливались ее огромные, цвета конского каштана, глаза.
Сонечка! Простим его ангельскому подобию.
__________
Однажды я зашла к нему – с очередным даром. Его не застала, застала няньку.
– Вот книжечку принесли Юрочке почитать – и спасибо вам. Пущай читает, развлекается. А мало таких, милая вы моя, – с приносом. Много к нему ходят, с утра до ночи ходят, еще глаз не открыл – звонят, и только глаза смежил – звонят – и все больше с пустыми руками да поцалуями. Да я тем барышням не в осуждение – молоденькие! а Юрочка – хорош-расхорош, завсегда хорош был, как родился, хорош был, еще на руках был – все барышни влюблялись, я и то ему: «Чего это ты, Юрий Алексаныч, уж так хорош? Не мужское это дело!» – «Да я, няня, не виноват». Конечно, не виноват, только мне-то двери отворять бегать от этого – не легче… Пущай цалуют! (все равно ничего не выцалу-ют), а только: коли цалуешь – так позаботься, – чтобы рису, али пшена, али просто лепешечку – вы же видите, какой он из себя худющий, сестра Верочка который год в беркулезе, неровен час и он: одно лицо, одна кровь – не ему, понятно, он у нас стеснительный, не возьмет, – а ко мне на кухню: «Нате, мол, няня, подкрепите своего любимого». Нет, куда там! Коли ко мне на кухню, так – что не любит – плакаться. И голова пуста, и руки пусты. Зато рот по-олон: пустяками да поцалуями.
А зато одна к нему ходит – золото. (Две их у меня – носят. только одна – строгая такая, на манер гувернантки, и носик у них великоват будет, так я сейчас не про них…) Вы барышню Галлиде знаете? Придет: «Юрочка дома? Сначала Юрий Алексаныч говорила, ну а потом быстро пообвыкла, меня стесняться перестала». – «Дома, говорю, красавица, только спит». – «Ну, не будите, не будите, я и заходить не хотела, только вот – принесла ему, только вы, няня, ему не говорите…»
И пакетец сует, а в пакетце – не то чтобы пшено али ржаной хлеб, а завсегда булочка белая: ну, белая… И где она их берет?!
Или носки сядет штопать. «Дайте мне, нянечка, Юрочкины носки». – «Да что вы, барышня, нешто это ваших молодых ручек дело? Старухино это дело». – «Нет уж!» – и так горячо, горячо, ласково, ласково в глаза глядит. «Вы меня барышней не зовите, а зовите – Соня, а я вас – няня». Так и стала звать – Сонечка, как малюточку.
Ну уж и любит она его – и сказать не могу!
Носки перештопает, рубашечку погладит (а наш-то все спит, не ведает!), поцалует меня в щеку – «Кланяйтесь, няня, Юрочке» – и пойдет.
Сколько раз я своему красавцу говорила: «Не думай долго, Юрий Александрович, все равно лучше не сыщешь: и красавица, и умница, и работница, и на театре играет – себя оправдывает, и в самую что ни на есть темнющщую ночь к дохтору побежит, весь город на ноги поставит, а уж дохтора приведет: с такой женой болеть мо-жно! – а уж мать твоим детям будет хороша, раз тебя, версту коломенскую, в сыновья взяла. И ростом – под стать: ты – во-о какой, а она – ишь какая малюточка! (Мне: „Верзилы-то завсегда малюточек любят“.) Только мал золотник – да дорог.
– А он?
– Стоит, улыбается, отмалчивается. Не любит – вот что.
– Другую любит?
– Эх, милая вы моя, никого-то он не любит, отродясь не любил, кроме сестры Верочки да меня, няньки. (Я, мысленно: „И себя в зеркале“.)
– Так про Сонечку – чтоб досказать. Не застанет – веселая уходит, а застанет – завсегда со слезами. Прохладный он у нас.
– Прохладный он у вас. Зеркало – тоже прохладное.
__________
У Сонечки была своя нянька – Марьюшка. „Замуж буду выходить – с желтым сундуком – в приданое“. Не нянька – старая прислуга, но старая прислуга, зажившаяся, все равно – нянька. Я этой Марьюшки ни разу, за всю мою дружбу с Сонечкой, не видала – потому что она всегда стояла в очереди: за воблой, за постным маслом и еще за одной вещью. Но постоянно о ней слышала, и все больше, что „Марьюшка опять рассердится“ (за Юру, за бессонные ночи, за скормленное кому-то пшено…)
Однажды стук в дверь. Открываю. Черное, от глаз, лицо – и уже с порога:
– Марина! Случилась ужасная вещь. В моей комнате поселился гроб.
– Что-о-о?
– А вот – слушайте. Моя Марьюшка где-то прослышала, что выдают гроба – да – самые настоящие гроба (пауза) – ну, для покойников – потому что ведь сейчас это – роскошь. Вы же знаете, что Алексею Александровичу сделали в Студии – всюду будто уже выдали, а у нас не выдают. Вот и ходила – каждый день ходила, выхаживала – приказчик, наконец, терпение потерял: „Да скоро ли ты, бабка, помрешь, чтоб к нам за гробом не таскаться? Раньше, бабка, помрешь, чем гроб выдадим“ – и тому подобные любезности, ну, а она – твердая: „Обешшано – так обешшано, я от своего не отступлюсь“. И ходит, и ходит. И, наконец, нынче приходит – есть! Да, да, по тридцатому талону карточки широкого потребления. „Ну, дождалась, бабка, своего счастья?“ – и ставит ей на середину лавки – голубой. „Ну-ка примерь, уместишься в нем со всеми своими косточками?“ – „Умещусь-то умещусь, говорю, да только не в энтом“. – „Как это еще – не в энтом?“ – „Так, говорю, потому что энтот – голубой, мужеский, а я – девица, мне розовый полагается. Так уж вы мне, будьте добры, розовенький, – потому что голубого не надо нипочем“. – „Что-о, говорит, карга старая, мало ты мне крови испортила, а еще – девица оказалась, в розовом нежиться желаешь! Не будет тебе, чертова бабка, розового, потому что их у нас в заводе нет“. – „Так вы уж мне тогда, ваше степенство, беленький“, – я ему, – испужалась больно, как бы совсем без гробику не отпустил – потому что в мужеском голубом лежать для девицы – бесчестье, а я всю жизнь от младенческих пелен до савана честная была. Тут он на меня – ногами как затопочет: „Бери, чертова девица, что дают – да проваливай, а то беду сделаю! Сейчас, орет, Революция, великое сотрясение, мушшин от женщин не разбирают, особенно – покойников. Бери, бери, говорю, а то энтим самым предметом угроблю!“ – да как замахнется на меня – гробовой крышечкой-то! Стыд, страм, солдаты вокруг – гогочут, пальцами – тычут…
Ну, вижу, делать нечего, взвалила я на себя свой вечный покой и пошла себе, и так мне, барышня, горько, скоко я за ним таскалась, скоко насмешек претерпела, а придется мне упокоиться в мужеском, голубом».
И теперь, Марина, он у меня в комнате. Вы над дверью полку такую глубокую видели – для чемоданов? Так она меня – прямо-таки умолила: чтобы под ногами не мешался, а главное – чтобы ей глаз не язвил: цветом. «Потому что как на него взгляну, барышня, так вся и обольюсь обидой».
Так и стоит. (Пауза.) Я, наверное, все-таки когда-нибудь к нему – привыкну?
(Это было в Вознесенье 1919 года.)
__________
Четвертым действующим лицом Сонечкиной комнаты был – гроб.
__________
А вот моя Сонечка, увиденная другими глазами: чужими.
– Видел сегодня вашу Сонечку Голлидэй. Я ехал в трамвае, вижу – она стоит, держится за кожаную петлю, что-то читает, улыбается. И вдруг у нее на плече появляется огромная лапа, солдатская. И знаете, что она сделала? не переставая читать и даже не переставая улыбаться, спокойно сняла с плеча эту лапу – как вещь.
– Это – живая она! А вы уверены, что это – она была?
– О, да. Я ведь много раз ходил смотреть ее в «Белых ночах», та же самая в белом платьице, с двумя косами… Это было так… прэлэстно (мой собеседник был из Царства Польского), что весь вагон рассмеялся, и один даже крикнул: браво!
– А она?
– Ничего. И тут глаз не подняла. Только, может быть, улыбка стала – чуть-чуть шире… Она ведь очень хорошенькая.
– Вы находите?
– С опущенными веками, и этими косами – настоящая мадонна. У нее, вероятно, много романов?
– Нет. Она любит только детей…
– Нно… это же не…
– Нет, это мешает.
__________
Так я охраняла Сонечку от – буржуйских лап.
Романы?
Je n’ai jamais su au juste ce qu’étaient ses relations avec les hommes, si c’étaient ce qu’on appelle des liaisons – ou d’autres liens. Mais rêver ensemble ou dormir ensemble, c’êtait toujours de pleurer seule.[181]181
Я никогда не знала в точности, каковы были ее отношения с мужчинами: были ли они тем, что называют любовными связями, или иными узами. Но мечтать ли вместе, спать ли вместе – а плакать всегда в одиночку (фр.).
[Закрыть]
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ВОЛОДЯ
Первое слово к его явлению – стать, и в глазах – сразу – стан: опрокинутый треугольник, где плечам дано все, поясу – ничего.
Первое впечатление от лица – буква Т и даже весь крест: поперечная морщина, рассекающая брови и продолженная прямолинейностью носа.
Но здесь – остановка, потому что все остальное зрительно было – второе.
Голос глубокий, изглубока звучащий и посему отзывающийся в глубинах. И – глубоко захватывающий, глубокое и глубоко захватывающий.
Но – не певучий. Ничего от инструмента, все от человеческого голоса в полную меру его человечности и связок.
Весь с головы до пят: «Voilà un homme!»[182]182
Се – человек! (фр.).
[Закрыть]
Даже крайняя молодость его, в нем, этому homme – уступала. Только потом догадывались, что он молод – и очень молод. С ним, заменив Консула – юношей, а Императора – мужем, на ваших глазах совершалось двустишие Hugo:
Этот муж в нем на наших глазах проступал равномерно и повсеместно.
Этот юноша носил лицо своего будущего.
Об этом Володе А. я уже целый год и каждый раз слышала от Павлика А. – с неизменным добавлением – замечательный. «А есть у нас в Студии такой замечательный человек – Володя А.». Но этого своего друга он на этот раз ко мне не привел.
Первая встреча – зимой 1918–1919 года, на морозном склоне 1918 года, в гостях у молодящейся и веселящейся дамы, ногу подымавшей, как руку, и этой ногой-рукой приветствовавшей искусство – все искусства, мое и меня в том числе. Таких дам, с концом старого мира справлявших конец своей молодости, много было в Революцию. В начале ее. К 19-му году они все уехали.
Первое слово этого глубокого голоса:
– Но короли не только подчиняются традициям – они их создают.
Первое слово – мне, в конце вечера, где нами друг другу не было сказано ни слова (он сидел и смотрел, как играют в карты, я – даже не смотрела):
– Вы мне напоминаете Жорж Занд – у нее тоже были дети – и она тоже писала – и ей тоже так трудно жилось – на Майорке, когда не горели печи.
Сразу позвала. Пришел на другой день с утра – пошли бродить. Был голоден. Поделили и съели с ним на улице мой кусок хлеба.
Потом говорил:
– Мне сразу все, все понравилось, И что сразу позвали, не зная. И что сами сказали: завтра. Женщины этого никогда не делают: всегда – послезавтра, точно завтра они всегда очень заняты. И что дома не сидели – пошли. И что хлеб разломили пополам, и сами ели. Я в этом почувствовал – обряд.
А потом, еще позже:
– Вы мне тогда, у Зои Борисовны, напомнили польскую панночку: на вас была такая (беспомощно) – курточка, что ли? Дымчатая, бархатная, с опушкой. Словом, кунтуш? И посадка головы – немножко назад. И взгляд – немножко сверху. Я сразу в вас почувствовал – польскую кровь.
Стал ходить. Стал приходить часто – раза два в неделю, сразу после спектакля, то есть после двенадцати. Сидели на разных концах рыжего дивана, даже так: он – в глубоком его углу, я – наискосок, на мелком, внешнем его краю. Разговор происходил по длинной диагонали, по самой долгой друг к другу дороге.
Темный. Глаза очень большие, но темные от ресниц, а сами – серые. Все лицо прямое, ни малейшей извилины, резцом. В лице та же прямота, что в фигуре: la tête de son corps.[184]184
Просто – голова (фр.).
[Закрыть] Точно это лицо тоже было – стан. (Единственное не прямое во всем явлении – «косой» пробор, естественно прямей прямого.)
Зрительно – прямота, внутренне – прямость. Голоса, движений, в глаза – гляденья, рукопожатья. Все – односмысленно и по кратчайшей линии между двумя точками: им – и миром.
Прямость – и твердость. И даже – непреклонность. При полнейшей открытости – непроницаемость, не в смысле внутренней загадочности, таинственности, а в самом простом смысле: материала, из которого. Такой рукой не тронешь, а тронешь – ни до чего, кроме руки, не дотронешься, ничего в ней не затронешь. Поэтому бесполезно трогать. Совершенно, как со статуей, осязаемой, досягаемой, но – непроницаемой. В каком-то смысле – вещь без резонанса.
Словом, самое далекое, что есть от портрета, несмотря на пластическое несуществование свое, а может быть, благодаря ему, бесконечно-досягаемого и податливого, который, по желанию, можно вглядеть на версту внутрь рамы, или изнутри всех его столетий в комнату – выглядеть. Самое обратное портрету, то есть – статуя, крайней явленностью своей и выявленностью ставящая глазам предел каждой точкой своей поверхности.
(«Неужели это все я – М. И.?» – «Да, это все – вы, Володечка. Но рано обижаться – погодите».)
(Как потом выяснилось – это впечатление его статуарности было ошибочное, но это – потом выяснилось, и я этой ошибкой полтора года кормилась, на этой ошибке полтора года строила – и выстроила.)
Сразу стал – друг. Сразу единственный друг – и оплот.
В Москве 1918–1919 года мне – мужественным в себе, прямым и стальным в себе, делиться было не с кем. В Москве 1918–1919 года из мужской молодежи моего крута – скажем правду – осталась одна дрянь. Сплошные «студийцы», от войны укрывающиеся в новооткрытых студиях… и дарованиях. Или красная молодежь, между двумя боями, побывочная, наверное прекрасная, но с которой я дружить не могла, ибо нет дружбы у побежденного с победителем.
С Володей я отводила свою мужскую душу.
Сразу стала звать Володечкой, от огромной благодарности, что не влюблен, что не влюблена, что все так по-хорошему: по-надежному.
А он меня – М. И., так с отчества и не сошел, и прощались по имени-отчеству, и за это была ему благодарна, ибо в те времена кто только меня Мариной не звал? Просто: М. И. – никто не звал! Этим отчеством сразу отмежевался – от тех. Меня по-своему – присвоил.
Разговоры? Про звезды: однажды, возвращаясь из каких-то гостей, час с ним стояли в моем переулке, по колено в снегу. Помню поднятую, все выше и выше подымаемую руку – и имя Фламмариона – и фламмарионы глаз, только затем глядящих в мои, чтобы мои поднялись на звезды. А сугроб все рос: метели не было, были – звезды, но сугроб, от долгого стояния, все рос – или мы в него врастали? – еще бы час постояли – и оказался бы ледяной дом, и мы в нем…
О чем еще? Об Иоанне д’Арк – чуде ее явления – о Наполеоне на св. Елене – о Джеке Лондоне, его, тогда, любимом писателе – никогда о театре.
И – никогда о стихах. Никогда стихов – я ему. Не говорила, не писала. Наше с ним было глубже любви, глубже стихов. Обоим – нужнее. И должно быть – нужнее всего на свете: нужнее, чем он мне и я ему.
Об его жизни (любовях, семье) я не знала ничего. Никогда и не спросила. Он приходил из тьмы зимней тогдашней ночи и в нее, еще более потемневшую за часы и часы сидения, – уходил. («В уже посветлевшую» – будет потом.)
И я даже мысленно его не провожала. Володя кончался за порогом и начинался на пороге. Промежуток – была его жизнь.
Руку на сердце положа: не помню, чтобы мы когда-нибудь с ним уговаривались: «Когда придете?» и т. д. Но разу не было – за зиму, чтобы он пришел и меня не застал, и разу не было, чтобы застал у меня других. И «дней» у нас не было: когда два раза в неделю, а когда и раз в две. «Значит, вы всегда были дома и всегда одна?» – «Нет, уходила. Нет, бывала». Но это было наше с ним чудо, и разу не было, чтобы я, завидев его, не воскликнула: «Володя! Я как раз о вас думала!» Или: «Володя, если бы вы знали, как я мечтала, чтобы вы нынче пришли!» Или просто: «Володя! Какое счастье!»
Потому что с ним входило счастье – на целый вечер, счастье надежное и верное, как любимая книга, на которую даже не надо света.
Счастье без страха за завтрашний день: а вдруг разлюбит? больше не придет? и т. д. Счастье без завтрашнего дня. без его ожидания: выхаживания его большими шагами по улицам, выстаивания ледяными ногами – ледяными ночами – у окна…
Больше скажу: я никогда по Володе не скучала, так же достоверно не скучала по нему и без него, как ему радовалась. Мечтала – да, но так же спокойно, как о вещи, которая у меня непременно будет, как о заказном письме, которое уже знаю, что – послано. (Когда дойдет – дело почты, не мое.)
Сидел – всегда без шубы. Несмотря на холод и даже мороз – всегда без шубы. В сером, элегантном от фигуры костюме, таком же статном, как он сам, весь – очертание, весь – отграниченность от окружающих вещей, стен. Сидел чаще без прислона, а если прислонясь – то никогда не развалясь, точно за спиной не стена – а скала. Ландшафт за ним вставал неизменно морской, и увидев его потом (только раз!) на сцене, в морской пьесе – не то «Гибель „Надежды“», не то «Потоп» – я не только не почувствовала разрыва с моим Володей, а наоборот – может быть впервые увидела его на его настоящем месте: морском и мужском.
__________
От Павлика я уже год слышала, что «Володя – красавец»… «Не такой, как Юра, конечно, то есть такой же, но не такой… Вы меня понимаете?» – «Еще бы!» – «Потому что Юра так легко мог бы быть – красавицей, а Володя – уж никакими силами…»
Поэтому Володину красоту на пороге первого раза я встретила, как данность, и уже больше ею не занималась, то есть поступила с ней совершенно так, как он – когда родился. Не мешая ему, она не мешала и мне, не смущая и не заполняя его, не смущала и меня, не заполняла и меня. Его красота между нами не стояла – и не сидела, как навязчивый ребенок, которого непременно нужно занять, унять, иначе от скуки спалит дом.
С самого начала скажу: ничего третьего между нами не было, была долгая голосовая диванная дорога друг к другу, немногим короче, чем от звезды до звезды, и был человек (я) перед совершенным видением статуи, и может быть и садилась я так далеко от него, чтобы лучше видеть, дать этой статуе лучше встать, создавая этим перспективу, которой с ним лишена была внутренне, и этой создаваемой физической перспективой заменяя ту, внутреннюю, которая у людей зовется будущее, а между мужчиной и женщиной есть любовь.
Однажды я его, шутя, спросила:
– Володечка, а надоедают вам женщины с вашей красотой? Виснут?
Смущенно улыбаясь, прямым голосом:
– М. И., на каждом молодом виснут. Особенно на актере. Волка бояться… А мне всех, всех женщин жаль. Особенно – не так уж молодых. Потому что мы все перед ними безмерно виноваты. Во всем виноваты.
– А – вы?
– Я (честный взгляд), я стараюсь – исправить.
Дружил он, кроме меня, с одной их студийкой – с кавказской фамилией. Когда он ее очень уж хвалил, я шутя ревновала, немножко ее вышучивала, никогда не видав. И каждый раз: – Нет, нет, М. И., здесь смеяться нельзя. Даже – шутя. Потому что она – замечательный человек.
Неподдающийся, как скала.
– Она сестрой милосердия была в войну, – тоном высшего признания, – на войне была.
– А я – не была.
– Вам – не надо, вам – другое дело.
– Сидеть и писать стихи? О, я даже обижена!
– Нет, не сидеть и писать стихи, а делать то, что вы делаете.
– А что я делаю?
– То, что сделали вы—со мной, и то, что со мной—еще сделаете.
– Володя, не надо!
– Не надо.
Однажды он мне ее привел. И – о, радость! – барышня оказалась некрасивая. Явно-некрасивая. Такая же явно-некрасивая, как он – красивый. И эту некрасивую он, забалованный (бы) и залюбленный (бы), предпочитал всем, с ней сидел – когда не сидел со мной.
Попытка – исправить?
__________
Володя приходил ко мне с рассказами – как с подарками, точно в ладони принесенными, до того – вещественными, донесенными до моего дома – моего именно, и клал он мне их в сердце – как в руку.
Помню один такой его рассказ об убитом в войну французском летчике. Разбитый аппарат, убитый человек. И вот, через какой-то срок – птица-победитель возвращается – снижается – и попирая землю вражды, победитель-немец – сбитому французу – венок.
Такими рассказами он меня поил и кормил в те долгие ночи.
Никогда—о театре, только раз, смеясь:
– М. И., вы ведь меня не заподозрите в тщеславии?
– Нет.
– Потому что очень уж замечательно сказано, вы – оцените. У нас есть уборщица в Студии, милая, молоденькая, и все меня ею дразнят – что в меня влюблена. Глупости, конечно, а просто я с ней шучу, болтаю, – молодая ведь и так легко могла бы быть моей партнершей, а не уборщицей. У женщин ведь куда меньшую роль играют рождение, сословие. У них только два сословия: молодость – и старость. Так ведь? Ну, так она нынче говорит мне – я как раз разгримировался, вытираю лицо: «Ах, Володечка А<лексее>в, какой вы жестокий красавец!» – «Что вы, Дуня, – говорю, – какой я жестокий красавец? Это у нас З<авад>ский – жестокий красавец». – «Нет, – говорит, – потому что у Юрия Алекс<аны>ча красота ангельская, городская, а у вас, Володечка, морская, военная, самая настоящая нестерпимая жестокая мужская еройская. У нас бы на деревне Юрия Алекс<аны>ча – засмеяли, а от вас, Володечка, три деревни все сразу бы в уме решились».
Вот какой я (задумчиво) – ерой…
– «Красота страшна, быть может…» А теперь, Володя, в рифму к вашему жестокому красавцу, я расскажу вам свою историю:
Я отродясь помню в нашем доме Марью Васильевну – кто она была, не знаю, должно быть – все: и кто-нибудь из детей заболел – она, и сундуки перетрясать – она, и перешивать – она, и яйца красить – она. А потом исчезала. Худая – почти скелет, но чудные, чудные глаза, такие страдальческие, живое страдание: темно-карие (черных – нет, черные только у восточных – или у очень глупых: бусы) – во все лицо, которого не было. И хотя старая, но не старуха – ни одного седого волоса, черные до синевы, прямым пробором. Ну – монашка и еще лучше – старая Богородица над сыном. Да так оно и было: у нее – я тогда еще была очень маленькая – был сын Саша, реального училища, он жил у нас в пристройке, возле кухни. Потом мы с матерью уехали за границу, а он заболел туберкулезом, и мой отец отправил его в Сухум. «Ах, Мусенька, как он меня ждал, как меня ждал! С каждым пароходом ждал – а уж умирал совсем. Затрубит пароход: „Вот это мама ко мне едет!“ (Сиделка потом рассказывала.) А я взаправду ехала – ваш папаша мне денег дал, и дворник на вокзале билет купил и в поезд посадил, – я ведь в первый раз так далеко ехала. Еду, значит, а он, значит, ждет. И как раз, как нам пристать, пароход затрубил. А он – привстал на постели, руки вытянул: „Приехала мама!“ – и мертвый упал…»
…Это я вам, чтобы дать вам ее лицо, потому что это лицо у нее так и осталось, даже когда манную кашу варила или про генеральшиных мопсов рассказывала – всегда с таким лицом. Но теперь – про ту самую жестокую красоту – тоже рассказ, из ее молодости. «Я, Мусенька, не смотри на меня, что моща, и желтей лимону, и зубы шатаются, – я, Мусенька, красавица была. И было мне тогда пятнадцать лет. Пошла я за чем-то в лавочку, за мной следом молодой человек заходит. Вышла я – он за мной. Вхожу в дом, гляжу из окна – стоит, на занавеску смотрит. Из себя – брюнет, глазищи – во-о, усы еще не растут, ну, лет шестнадцать, что ли. И, ей-Богу, на меня похож – глазами, потому что глазами моими мне все уши прожужжали, пропели, уж я-то их у себя на лице – знала. Смотрю – мои глаза, мои и есть. Ну, словом – братишка мне. (Я одна росла.) Только – рассказывать-то долго, а поглядеть – коротко, разом я занавеску задернула.
Завтрашний день – опять в лавочку, а он уже стоит, ждет. Ничего не говорит, не кланяется, а только глядит. И все дни так пошло: следом – как тень и стоит – как пень. Ну, а на пятый, что ли, – у меня сердце не выдержало: и зло берет, что глядит, и зло берет, что молчит, – как выходит он вслед за мной, я – ему: „И глядеть нечего, и стоять нечего, потому что ничего не выглядишь, потому что я просватана: за богатого замуж выхожу“.
А он – весна была – стоит под деревцами, снял картуз да ни-изко поклонился. И – весь воском залился. А на другой день – я еще сплю – крик, шум: у Егоровых малый зарезался. Ночью, видать, потому что весь холодный. Все бегут – и я бегу.
И лежит он, Мусенька, мой недавний знакомец, гляделец, только глаз-то моих уже больше не видать: закрылись».
…Володечка, а ваша уборщица?
– Нет, М. И., времена другие, сейчас все страшно подешевело. Да я бы… почувствовал бы, если бы – действительно. Нет, выйдет замуж – и будут дети.
– И старшего назовет – Володечка.
– Это – может быть.
__________
Такими рассказами я его кормила и поила долгие ночи: он – в глубоком углу дивана, я на мелком его краю, под синим фонарем, по длинной диагонали – явить имевшей всю нашу друг к другу дорогу, по которой мы никогда никуда не пришли.
__________
…Теперь я думаю (да и тогда знала!) – Володя был – спутник, и дорога была не друг к другу, а – от нас самих, совместная – из нас самих. Отсюда и простор, и покой, и надежность – и неспешность: спешишь ведь только в тот извечный тупик, из которого одна дорога: назад, шаг за шагом все отнимая, что было дано, и даже – затаптывая, и даже – в землю втаптывая, ногой как лопатой заравнивая.
__________
О моей завороженности – иного слова нет – Ю. З. Володя, конечно, знал. Но он ее не касался, а может быть, она его не касалась. Только, когда я, изведенная долгими пропаданиями Ю. З. (а пропадать он начал скоро: сразу!), равнодушнейшим из голосов:
– А как З<авад>ский?
– З<авад>ский ничего. Играет.
З<авад>ский был единственный пункт его снисхождения. Это имя, мною произнесенное, сразу ставило его на башню, а меня – в садик под нею, в самый розовый его куст. И как хорошо мне было, внезапно умаленной на все свое превосходство (с ним – равенство) – маленькой девочкой, из своего розового изнизу заглядевшейся на каменного ангела. Володе же, для которого я была всегда на башне, – сама башня, как-то неловко было видеть меня младшей (глупой). Он, даже физически, отвечая о Ю. З., не подымал глаз – так что я говорила с его опущенными веками.
И когда я однажды, прорвавшись:
– Володя, вы меня очень презираете за то, что… – он, как с неба упав:
– Я – вас – презираю? Так же можно презирать – небо над головой! Но чтобы раз навсегда покончить с этим: есть вещи, которые мужчина – в женщине – не может понять. Даже – я, даже – в вас. Не потому, что это ниже или выше нашего понимания, дело не в этом, а потому, что некоторые вещи можно понять только изнутри себя, будучи. Я женщиной быть не могу. И вот, то немногое только-мужское во мне не может понять того немногого только-женского в вас. Моя тысячная часть – вашей тысячной части, которую в вас поймет каждая женщина, любая, ничего в вас не понимающая. З<авад>ский – это ваша общая женская тайна… (усмехнувшись)… даже – заговор.
Не понимая, принимаю, как все всегда в вас – и от вас – приму, потому что вы для меня – вне суда.
– А хороший он актер?
– На свои роли, то есть там, где вовсе не нужно быть, а только являться, представать, проходить, произносить. Видите, говорю вам честно, не перехваливаю и не снижаю. Да и не актера же вы в нем…
– А знаете ли вы, Володечка, вы, который все знаете, – что я всего З., и все свои стихи к нему, и всю себя к нему отдам и отдаю за час беседы с вами – вот так – вы на том конце, я на этом…
Молчит.
– …Что если бы мне дали на выбор – его всего – и наше с вами – только-всего… Словом, знаете ли вы, что вы его с меня, с моей души, одним своим рукопожатьем – как рукой снимаете?








