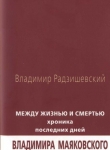Текст книги "Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы"
Автор книги: Марина Цветаева
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 26 страниц)
* * *
Мы подошли к единственной мере вещей и людей в данный час века: отношению к России.
Здесь Пастернак и Маяковский – единомышленники. Оба за новый мир и оба, – но вижу, что первое оба останется последним, ибо если Пастернак явно за новый мир, то вовсе не с такой силой явности против старого, который для него, как бы он ни осуждал политический и экономический строй прошлого, прежде всего и после всего – его огромная духовная родина. «Кто не с нами, тот против нас». Мы для Пастернака не ограничивается «атакующим классом». Его мы – все те уединенные всех времен, порознь и ничего друг о друге не зная делающие одно. Творчество – общее дело, творимое уединенными. Под этим, не сомневаюсь, подпишется сам Борис Пастернак не боец (kein Umstьrzler! [33]33
Не ниспровергатель! (нем.).
[Закрыть]). Пастернак – сновидец и прозорливец. В своей революционности он ничем не отличается от всех больших лириков, всех, включая роялиста Виньи и казненного Шенье, стоявших за свободу – других (у поэта – своя свобода), равенство – возможностей, и братство, которым каждый поэт, несмотря на свое одиночество, а может быть, и благодаря своему одиночеству, переполнен до самых краев сердца. В своей «левизне» он ничем не отличается от каждого человека, у которого сердце на месте, то есть – слева.
Вот признание самого Пастернака, недавнее, после пятнадцати лет Революции, признание:
И так как с малых детских лет
Я ранен женской долей,
И след поэта – только след
Ее путей – не боле,
И так как я лишь ей задет,
И ей у нас раздолье,
То весь я рад сойти на нет
В революцьонной воле —
то есть то же слово Виньи сто лет назад: «Aprйs avoir reflйchi sur la destinйe des femmes dans tous les temps et chez toutes les nations, j’ai fini par penser que tout homme devrait dire а chaque femme, au lieu de Bonjour: – Pardon!» [34]34
«После размышлений о судьбе женщин во все времена и у всех народов я пришел к заключению, что вместо слова приветствия „здравствуй“ каждый мужчина должен говорить женщине: „Прости меня“» (фр.).
[Закрыть]
И опять-таки от данного к общему, окольный – чисто-поэтов! – приход, через деталь и обход веками обманутой девушки – да через Гретхен же! – в Революцию. Как к лесу – через лист. И показательно, что самосознающий себя, боевой, волевой Маяковский с его самосознающим себя даром:
Всю свою звонкую силу поэта
Я тебе отдаю, атакующий класс!
– со всей своей волей и личностью в этом своем выборе – растворяется. Пастернаково же признание:
То весь я рад сойти на нет
В революцьонной воле —
нами, вопреки убежденности Пастернака и очевидности букв, читается:
Я рад бы весь сойти на нет —
– то есть Пастернак в нашем сознании, несмотря на Лейтенанта Шмидта и все, что еще такого напишет, в этой революционной воле, как вообще ни в какой людской, не растворяется, ибо ни с какой волей, кроме мировой, всей мировой – и действующей непосредственно через него – не только не слиянен, но и не знаком. Каждый подвластен, но каждый подвластен иному. За Пастернака знает кто-то больший, чем он, и иной, чем мы.
Маяковского ведут массы, хочется сказать по-французски: гений масс, потому он их и ведет. Массы будущего, потому он и ведет массы настоящего. И чтобы не было двусмысленности в толковании: Маяковского ведет история.
Маяковский: ведущий – ведумый. Пастернак – только ведомый.
* * *
Единомыслие – не мера сравнения двух поэтов. У Маяковского единомышленники – если не вся Россия, то вся русская молодежь. Каждый комсомолец больший и, во всяком случае, более явный единомышленник Маяковскому, чем Пастернак. Сходятся (едино – мыслят) эти двое только раз – в теме поэм: Октябрь и Пятый Год. Один написал Октябрь, другой Декабрь, но какой Октябрь и какой Декабрь, да и Декабрь-то от Октября сильно разнится… И напиши Пастернак завтра же свой Октябрь, это прежде всего будет его Октябрь, где центр боевых действий будет перенесен на вершины метущихся деревьев.
Второго, а по существу первого и единственного вопроса:
об отношении к Богу того и другого, Бога к тому и другому, я сейчас намеренно не подымаю. В свой час.
В разные устья, из разных истоков, разные в источниках, из которых пьют, в жаждущих, которых поят – зачем перечислять? – не: разные во всем, а люди разных измерений, они равны только в одном: силе. В силе творческого дара и отдачи. Следовательно, и в силе, по нас, удара.
Маяковский наш силомер. Пастернак наш глубино-мер: лот.
Но есть у этих двух, связанных только одной наличностью – силы, и одно общее отсутствие: объединяющий их пробел песни. Маяковский на песню неспособен, потому что сплошь мажорен, ударен и громогласен. Так шутки шутят («не гораздо хорошие») и войсками командуют. Так не поют. Пастернак на песню не способен, потому что перегружен, перенасыщен и, главное, единоличен. В Пастернаке песне нету места, Маяковскому самому не место в песне. Поэтому блоковско-есенинское место до сих пор в России «вакантно». Певучее начало России, расструенное по небольшим и недолговечным ручейкам, должно обрести единое русло, единое горло.
Для того чтобы быть народным поэтом, нужно дать целому народу через тебя петь. Для этого мало быть всем, нужно быть всеми, то есть именно тем, чем не может быть Пастернак. Целым и только данным, данным, но зато целым народом – тем, чем не хочет быть Маяковский: глашатай одного класса, творец пролетарского эпоса.
Ни боец (Маяковский), ни прозорливец (Пастернак) песен не слагают.
Для песни нужен тот, кто наверное уже в России родился и где-нибудь, под великий российский шумок, растет. Будем жить.
* * *
…Ты спал, постлав постель на сплетне,
Спал и, оттрепетав, был тих.
Красивый, двадцатидвухлетний,
Как предсказал твой тетраптих.
Ты спал, прижав к подушке щеку,
Спал со всех ног, со всех лодыг,
Врезаясь вновь и вновь с наскоку
В разряд преданий молодых.
Ты в них врезался тем заметней,
Что их одним прыжком достиг.
Твой выстрел был подобен Этне
В предгорье трусов и трусих.
Пастернак – Маяковскому
Kламар,
декабрь 1932.
Поэты с историей и поэты без истории
Никто еще дважды не ступал в одну и ту же реку.
Гераклит
Восходит солнце, и заходит солнце,
и спешит к месту своему, где оно восходит.
Идет ветер к югу, и переходит к северу,
и кружится, кружится на ходу своем,
и возвращается ветер на круги свои.
Проповедник
I
Передо мною лежит первое издание полного собрания стихотворений Пастернака в одной книге, этого, 1933 года. Почти пятьсот страниц мелким шрифтом. 1912–1932. Двадцать лет. Полтысячи страниц.
Вернемся назад на полстолетия, когда ни нас, ни нашего мира, ни самого Бориса Пастернака еще не существовало, и попытаемся угадать: каким может быть творчество поэта в течение двух десятилетий, из которых три года будут отданы мировой войне, еще три – гражданской, и еще двенадцать – строительству нового мира – и какому еще строительству! после какой разрухи! И лишь два первых года этих десятилетий будут принадлежать самому человеку, самому поэту, будто даны ему для того, чтоб научился дышать, чтобы вдохнул запас воздуха для всего, что последует дальше, когда он уже не сможет свободно, полной грудью лиры дышать. Каким же может стать лирическое двадцатилетие такого двадцатилетия исторического?
И такой же вопрос, с заменой «может быть» на «могло быть», поставим перед собой в конце протекающего пятидесятилетия, когда мы, современники Пастернака, и сам Пастернак, все наши исторические и личные судьбы будут видны как на ладони, когда мы войдем в область преданий и перестанем быть, мы – пройдем. Будущее как область преданий о нас и прошлое как область гаданий о нас (хотя иногда и кажется наоборот). Настоящее же – краткое и крохотное поле реальной деятельности.
Попробуем же с этой маленькой сцены настоящего ответить им – гаданию и преданию – и вам!
Борис Пастернак – поэт без развития. Он сразу начал с себя самого и никогда себе не изменял. Что вообще такое «я» поэта? Или шире, нет, пожалуй, – уже. Что такое языковое «я» поэта? Ведь словарь – не просто порядок слов. Сочетание «гоголевский период» мы узнаем прежде, чем уловим смысл каждого из этих двух слов.
Поэтическое «я» – это, по-видимому, «я» человеческое, проступающее в строе речи. Стихи часто являют нам нечто скрытое, приглушенное и совсем заглушенное, чего и сам-то человек в себе не знал. Он бы и не узнал это о себе, если бы не стихотворчество. Действие сил, неведомых действующему и осознаваемых лишь в самый момент действия. Здесь аналогия со сновидениями. Ведь если бы сновидения были управляемы (а это могут некоторые люди, особенно дети), то эта аналогия сновидений со стихотворчеством была бы полной. То, что в тебе скрыто и закопано, а в стихах открыто и выражено, – и есть твое поэтическое «я», сновидческое «я».
Другими словами, поэтическое я проступает как преданность души поэта особым снам, и это не воля его, а тайный источник всей его природы.
Я поэта есть я сновидца плюс я творца слова. Поэтическое я – это я мечтателя, пробужденное вдохновенной речью и в этой речи явленное.
Такова, в основе, личность поэта. Таков закон особости поэта. Поэтому все поэты столь схожи и столь несхожи. Схожи тем, что все без изъятья сновидят. Не схожи – своими снами.
* * *
Все поэты делятся на поэтов с развитием и поэтов без развития. На поэтов, имеющих историю, и поэтов без неё.
Графические первые отображаются стрелой, пущенной в бесконечность, вторые – кругом. Первые (стрела) влекомы поступательным законом самооткрывания. Они открывают себя во всех явлениях, встречающихся на пути, в каждом новом шаге и каждой новой встрече.
Все коллизии: мое – чужое, насущное – лишнее, случайное – вечное, все для них пробный камень. Пробный камень их силы, растущей с каждым новым препятствием. Их самооткрывание, самопознание души идет через познание мира путем опыта. Они идут, а мы физически ощущаем движение воздуха, ими рассекаемого, свежий ветер.
Они не оборачиваются на своем пути. Их опыт накапливается будто сам собой и складывается позади, как своя ноша за спиной, которая никогда не давит на плечи. На такую ношу не оборачиваешься. Ходок не ведает о своем вещевом мешке до той поры, пока он ему не понадобится, – до привала. Гёте «Геца фон Берлихингена» и Гёте «Метаморфоз растений» даже не знакомы. Взяв от себя прежнего все, что ему понадобится, нынешний оставил его в дивных лесах молодой Германии времен собственной молодости и зашагал дальше. Если бы зрелый Гёте встретил на перекрестке времен молодого, он, возможно, не узнал бы его настолько, что захотел бы познакомиться с ним. Говорю не о Гёте-личности, а о Гёте-творце. И этот пример наиболее очевиден.
Поэты, имеющие историю, как и сама история, не отрекаются от себя, а просто не оборачиваются на себя, они движутся только вперед! Таков закон движения и проникновения.
Гёте Геца, Гёте Вертера, Гёте «Римских элегий», Гёте «Науки о красках» и т. д. – где он сам? Везде и нигде. Сколько их? Столько, сколько шагов. Каждый новый шаг делал новый пешеход. Выходил один, а приходил другой. Гете-творец поднимал ступню каждого пешехода. Он был их творческой мышцей. Как и Пушкин. А может быть, это и есть сущность гения?
Как одиноки такие пешеходы! В них ищут того, кого теперь не узнаешь. Полюбили – одного, а он сам от себя уже отрекся. Поверили – одному, а он сам себя уже перерос. От Гёте до его восьмидесяти трех лет (года смерти) требовали Геца (Гёте двадцатилетнего). Более близкий пример – от Блока Двенадцати все еще требуют Незнакомку!
Именно об этом – гениальные строки нашего русского гётеанца, поэта и философа Вячеслава Иванова, живущего теперь в Падуе:
Чье имя с крыш вострубите —
Укрылся под чужим.
Кого и ныне любите —
Уж ныне не любим.
Дело не в возрасте – все мы меняемся. Дело в том, что зрелый Гёте не понимал собственной молодости. Есть поэты, к которым новая молодость приходит в старости. Трилогия страсти Гёте написана семидесятилетним стариком! Все дело в новизне взгляда, во вновь открывающихся горизонтах, вслед за просторами преодоленными. Дело в несчетности мгновений, в бесконечности задач, в безмерности сил Колумба. А вещевой мешок за спиной (Гёте действительно ходил с мешком для камней и минералов) все полнее и полнее. И дорога ведет в бесконечность. Солнце садится и тени растут. Но нет предела ни силам, ни пути!
Поэты с историей, что очень важно, – поэты темы. Мы всегда знаем, о чем они пишут, а если и не знаем, то узнаем после завершения их пути, куда они шли (у них есть цель). Редко такие поэты бывают чистыми лириками. Они слишком велики по объему и размаху, им тесно даже в своем «я» – пусть в самом большом; они так расширяют это «я», что оно просто сливается с краем горизонта. (Гёте, Пушкин.) Человеческое «я» становится «я» страны – народа – данного континента – столетия – тысячелетия – небесного свода… (Всемерное «я» Гёте: «Я вижу в тысячелетиях».) Тема для такого поэта – повод для рождения нового себя, которое не всегда человеческое. Весь их земной путь – череда перевоплощений и не всегда в человека: в камень, цветок, созвездие. Они словно вобрали в себя все дни творения.
Поэты с историей прежде всего поэты воли. Речь не о воле, осуществляющей деяние: никто не усомнится, что такая физическая громада, как «Фауст» или просто поэма в тысячу строк, не может возникнуть сама по себе. Без усилий воли могут возникнуть восемь, шестнадцать, редко двадцать строк – лирический прилив чаще всего приносит к нашим ногам осколки – хотя бы и самые драгоценные. Говорю о воле выбора, о воле – выборе. О решимости не только стать иным, но и именно таким иным. О решимости расстаться с сегодняшним собой. Решить, подобно герою сказки: направо, налево или прямо (но, подобно герою той же сказки, – никогда назад!), Пушкин, проснувшись однажды утром, решает: «Сегодня пишу Моцарта!» Воля выбора Моцарта – отказ от множества других видений и дел, жертва. Поэт с историей отбрасывает все, что не лежит на линии его «стрелы» – его личности, его дара, его истории. Выбирает его непогрешимый инстинкт главного. И после завершения пушкинского пути у нас остается ощущение, что Пушкин не мог не создать того, что создал, и написать то, что он не написал. И никто из нас не жалеет, что он отказался от замысла «Мертвых душ», которые находились на гоголевской генеральной линии. (Поэт с имеет еще и ясный взгляд на других. И Пушкин обладал таким взглядом)
Поэт без истории не имеет и четкого стремления к цели. Он, ведь, и сам не знает, что принесет ему лирический прилив. Чистая лирика не имеет волевого замысла. Нельзя заставить себя увидеть такой и именно такой сон, ощутить такое и именно такое чувство. Чистая лирика есть претворение состояния чистого переживания – «перестрадания», а в промежутках творения («пока не требует поэта к священной жертве Аполлон») – при отливах вдохновения – состояние безмерного опустошения. Море ушло, все унесло и до своего часа не вернет. Постоянное ужасающее висение в воздухе на честном слове вероломного вдохновения. А если оно однажды уронит?
Чистая лирика есть лишь запись наших снов и ощущений, плюс мольба, чтоб эти сны и ощущения никогда не иссякли… Если от лирика требовать еще… Но чего еще можно от него требовать?
Лирику не за что ухватиться: у него нет ни костяка темы, ни обязательных часов работы за столом; нет материала, откуда он черпает, которым он занят и даже поглощен в часы отлива; он держится в полном смысле на волоске доверия.
Не ждите жертвы: чистый лирик ничем не жертвует – он рад, когда хоть что-нибудь пришло. Не ожидайте от него морального выбора – что бы ни пришло, «зло» или «добро», – он так счастлив, что вообще пришло, что уж вам (обществу, морали, Богу) ничего не уступит.
Лирику дана воля лишь настолько, чтобы разобраться в дарах прилива.
Чистая лирика – всего лишь запись наших снов и ощущений. Чем лирик больше, тем запись чище.
* * *
Пешеход и столпник. Поэт без истории – это столпник, или, что то же, спящий. Что бы ни происходило вокруг его столпа, что бы ни созидали (или разрушали) валы истории, он слышит только свое, видит только свое, знает только свое. (Что бы ни разыгрывалось вокруг – он видит только свои сны.) Иногда это – великий поэт, как Борис Пастернак, но и мелкое, и великое с равной неодолимостью и силой влечет нас в зачарованный круг сна. Мы тоже превращаемся в столпников.
Чужие житейские сны, рассказанные нам, невыразительны и незаразительны, но как неотразимы сны лирические, волнующие нас больше наших собственных!
Уж за горой дремучею
Погас вечерний луч.
Едва струёй гремучею
Сверкает жаркий ключ…
Эти строки молодого Лермонтова сильнее всех моих детских снов; и не только детских; и не только моих.
О поэтах без истории можно сказать, что их душа и личность сложились еще в утробе матери. Им не нужно ничего узнавать, усваивать, постигать – они уже всё знают отродясь. Им не нужно ни о чем спрашивать – они являют. Очевидность, опыт для них – ничто.
Если круг их знаний узок – они не выходят из него, если он очень велик – они никогда его не сужают из надобности опыту угодить.
Они пришли в мир не узнавать, а сказать. Сказать то, что уже знают, все, что знают (если это много), единственное, что знают (если это одно).
Они пришли в мир, чтобы дать знать о себе. Чистые лирики, только лирики не допускают в свой мир ничего чужеродного; инстинкт чужого у них так же безошибочен, как у поэтов с историей – инстинкт своей генеральной линии. Весь эмпирический мир для них – чужероден. И поэтому их выбор есть отбор, а вернее – отпор. Отпор всей сущности их натуры, а не воли. И обычно бессознательный. В этом они, как и во многом, – дети. Мир для них: «Не так!» – «Нет, так. Сам знаю! Я лучше знаю!» Что он знает? То, что иначе – невозможно.
Поэты-лирики – антиподы миру, если говорить о мире человеческом: обществе, семье, морали, господствующей церкви, науке, здравом смысле, любом виде власти, – человеческом устройстве вообще, включая и пресловутый «прогресс»). Их стихи и судьбы всегда единое целое.
Для поэтов с историей нет посторонних тем, они сознательные участники мира. Их «я» равно миру. От человеческого до вселенского.
В отличии масштаба мира – отличие гения от лирического гения. Ведь существуют и чисто лирические гении, но их никогда не называют гениями. Замкнутость, обреченность на самого себя нарекается определяется словом лирик. А безграничность и даже безличность гения – отсутствием определения или невозможностью определения вообще. (Всякое определение, придавая точный смысл, ограничивает).
«Я» нельзя назвать гением. Гением может быть «я», облеченное в имя такого-то смертного, взявшее на потребу времени земные приметы. Вспомним, что гений у древних означал высшее и доброе существо, божество, стоящее над (человеком), а не самого человека. Гёте был гений потому, что над ним парил гений. Этот гений вел его и поддерживал до конца восемьдесят третьего года – до последней страницы Второго Фауста. Этот же гений и запечатлелся на его бессмертном лике.
* * *
Еще одно и, может быть, простейшее объяснение. Чистая лирика живет чувствами. Чувства всегда те же, у них нет развития, нет логики. Они непоследовательны. Они даны нам сразу все, все чувства, которые когда-либо нам суждено будет испытать, отродясь втиснуты в нашу грудь. Чувство (как и детство – человека, народа, планеты) всегда начинается с максимума, а у великих людей и поэтов на этом максимуме остается. Чувству не нужен повод, оно само повод для всего. Чувство не нуждается в опыте: оно все знает до опыта и лучше. (Всякое чувство еще и предчувствие.) В кого вложена любовь – тот любит, в кого гнев – тот негодует, а в кого обида – тот отродясь обижен. Обидчивость порождает обиду. Чувство не нуждается в опыте, оно заранее знает, что обречено. Чувству нечего делать на периферии опытного, оно – в центре, оно само – центр. Чувству нечего искать на дорогах, оно знает – что придет и приведет – в себя.
Зачарованный круг. Сновидческий круг. Магический круг.
* * *
Итак, еще раз:
Мысль – стрела.
Чувство – круг.
Такова сущность чистых лириков, природа чистой лирики. И если нам иной раз кажется, что они развиваются, изменяются, – развиваются и изменяются не они, а лишь их словарь, их языковой арсенал.
Редко кому из чистых лириков сразу даны те слова – его слова! Зачастую от бессловесности они начинают с чужих слов, не с собственных, а с общих (впрочем, именно тогда они и нравятся большинству, которое в них узнает собственную безликость!); и когда они, иной раз довольно быстро, начинают говорить своим языком, нам кажется, что они изменились и выросли. Но это не они выросли, выросло и доросло до «я» его языковое выражение. Ведь даже самый великий музыкант не может выразить себя на детской клавиатуре.
Есть дети, рождающиеся с готовой душой, но нет ребенка, который родился бы с готовой речью. (Был только один – Моцарт.) Чистые лирики буквально учатся говорить, ибо поэтический язык есть физика их творчества, тело их души, а всякое тело подлежит развитию. И тяжелее всего лирику удается найти именно свое слово, а вовсе не свое чувство, поскольку его он имеет от рождения.
Но нет чистого лирика, который бы уже в детстве не дал себя, окончательного себя, рокового себя, который бы не явил всего себя в какой-нибудь строфе из четырех или восьми строк, – строфе, которую потом никогда больше не даст и которая могла бы стать эпиграфом ко всему его творчеству, формулой всей его жизни. Первая строфа, которая могла бы быть и последней (преджизненная, а могла бы быть и предсмертной надписью на надгробной плите).
Таков лермонтовский «Парус». Чистые лирики, в большинстве своем, – дети очень раннего развития (и очень короткого века – жизненного и творческого), вернее сказать, очень ранней проницательности – прозрения своей обреченности на лирику. Чистые лирики – вундеркинды в буквальном смысле слова, с пронзительным ощущением судьбы, то есть себя.
Поэт с историей никогда не знает, что с ним будет. Это знает его гений, который ведет его и открывает ему ровно столько, сколько необходимо для его свободного движения: направление и ближайшую цель, постоянно скрывая главное за поворотом. Чистый лирик всегда знает, что с ним ничего не будет, что у него ничего не будет, кроме себя самого: собственного лирического, трагического переживания.
Сопоставим Пушкина, начавшего с лицейских стихов, и Лермонтова, начавшего с «Паруса». Пушкина в его первых стихах мы совершенно не прозрим, это только гений Державин смог в живом лице, в живом голосе и жесте юноши увидеть будущего гения. А в «Парусе» восемнадцатилетнего Лермонтова – уже весь Лермонтов, Лермонтов волнения, обиды, дуэли, смерти. У юного Пушкина не могло быть такого «Паруса», и вовсе не из-за неразвитости таланта – он был не менее одарен, чем Лермонтов. Просто Пушкин, как всякий поэт с историей, как и сама история, начал с самого начала и всю свою жизнь провел im Werden (в становлении), а Лермонтов сразу – был. Пушкину, чтобы открыть себя, потребовалось прожить не одну жизнь, а сто. Лермонтову же, чтобы открыть себя, нужно было только родиться.
Из моих современников назову троих – по совершенству их лирической особости: Анну Ахматову, Осипа Мандельштама и Бориса Пастернака, поэтов, родившихся сразу с собственным словарем и максимальной оригинальностью.
Когда молодая Ахматова в первых стихах своей первой книги дает любовное смятение строками:
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки, —
она одним толчком дает все женское и все лирическое смятение, – всю эмпирику! – одним росчерком пера запечатлевает исконный нервный жест женщины и поэта, когда в великие мгновенья жизни забывают, где правая и где левая – не только перчатка, а и рука, и страна света, теряющие вдруг всю выверенность. Посредством очевидности, поразительной точности деталей символизируется не просто душевное состояние – целый душевный строй. (Поэт, когда он выпускает перо, а женщина – руку любимого человека, действительно не знают, где правая, а где левая рука…) Две ахматовские строки, как камень, брошенный в воду, порождают широкие ассоциации, расходящиеся кругами по воде. В этом двустишии – вся женщина, весь поэт и вся Ахматова в своей единственности и неповторимости, которой невозможно подражать. До Ахматовой никто у нас так не дал жест. И никто после нее. (Разумеется, Ахматова нисколько не исчерпывается этим жестом; но дает одну из характернейших ее примет.) «Уже или еще?» – спросила я в 1916 году об Ахматовой, начавшей в 1912-м тем же кувшином из того же моря. Сегодня, семнадцать лет спустя, вижу, что тогда, сама того не ведая, она дала формулу своей лирической неизменности. Вслушаемся в образ: он имеет глубину. Вглядимся в движение: оно создает округлость. Округлость исчерпывающего жеста, по самой своей сущности глубокого. Кувшин. Море. Вместе они создают объемность. Возможно, сегодня, через семнадцать лет, я бы сказала: тем же ведром из того же колодца, ставя точность образа выше его красоты. Но сущность его осталась бы прежней. Привожу это как еще один пример лирической неизменности.
Мне никогда не приходилось слышать, чтобы об Ахматовой – или о Пастернаке – кто-нибудь сказал: «Всегда одно и то же! надоело!» – как нельзя сказать: «Всегда одно и то же» – о море, которое, по словам того же Пастернака:
Приедается все, лишь тебе не дано примелькаться,
Дни проходят, и годы проходят, и тысячи, тысячи лет…
Ибо и Ахматова, и Пастернак черпают не с поверхности моря (сердца), а со дна его (бездонного). Они точно так же не могут наскучить, как не может наскучить состояние сна, всегда одно и то же, но со всегда другим сновидениями. Как не может наскучить и самое сон.
Когда подходишь к явлению, надо знать, чего от него можно ожидать. И ожидать от него – именно его самого, того, что составляет его сущность. Когда подходишь к морю (и к лирику), то идешь за тем же впечатлением, а не за новым, за повторением, а не за продолжением. Поэта-лирика, как и море, даже если его книгу раскрываешь в первый раз, непременно пере-читываешь, в то время как реку, что течет вдаль, как и Пушкина, что идет вдаль, даже если ты родился на их берегах, всегда читаешь дальше. Это – различие между приходящим-уходящим, широким, усыпляющим лирическим морским движением и продольным, невозвратным – речным. Разность пребывания и прохождения. Реку любишь за то, что она всегда другая, море – за то, что оно всегда то же. Если хочешь новизны – селись у реки.
Лирика, как и море, сама приходит в волнение, сама успокаивается, сама в себе свершается. Не зря Гераклит, сказавши: «Никто еще дважды не ступал в одну и ту же реку», взял символом течения не море, которое каждый день видел перед собой и знал, а – реку.
Когда идешь к морю и к лирику, жаждешь не невозвратности течения, а именно возвратности волн; не неповторимости мгновенья и непреходящего, а именно повторяемости морских и лирических непредвиденностей, неизменности смен и перемен, неминуемости собственного изумления ими.
Обновление! Вот в чем власть лириков над нами, могущество, на котором держится все богослужение, все колдовство, все чары, все вызовы, все проклятия, все союзы человеческие и нечеловеческие. Даже мертвые встают из могил.
Кто может сказать великому и истинному: будь иным!
Будь! – вот наши безмолвные мольбы.
Поэту с историей мы говорим: «Смотри дальше!» Поэту без истории: «Ныряй глубже». Первому: «Дальше!» Второму: «Еще!»
И если иные поэты покажутся нам скучными своей монотонностью, то от недостатка глубины, от мелкости (или усыхания) образа, а не оттого, что образ – один и тот же. (Высохшее море – уже не море.) Если поэт наскучивает нам своим однообразием, берусь доказать, что это – не великий поэт, не великий образ. Если мы блюдце приняли за море – это не вина блюдца.
Сама лирика, при всей обреченности на самое себя, неисчерпаема. (Может быть, лучшая формула лирики и лирической сущности: обреченность на неисчерпаемость!) Чем больше черпаешь, тем больше остается. Потому-то она никогда не исчезает. Потому-то мы с такой жадностью бросаемся на каждого нового лирика: а вдруг душа, и ею утолим нашу? Словно все они опаивают нас горькой, соленой, зеленой морской водой, а мы каждый раз верим, что это – питьевая вода. А она снова – горькая! (Ведь структура моря, структура крови и структура лирики – одна и та же.)
А со скучными поэтами – то же, что и со скучными людьми: надоедает не однообразие, а тождественность ничтожного, хотя бы и весьма разнообразного. Как убийственно одинаковы, при всей разноголосости, газеты на столе, как убийственно одинаковы, при всем разнообразии, парижанки на улицах! Словно все это: рекламы, газеты и парижанки – не разное, а одно. На всех перекрестках, во всех лавках, трамваях, на всех аукционах и во всех концертных залах – им несть числа, но сколько бы их ни было, а все – одно! И это одно – все!
Надоедает, когда вместо человеческого лица видишь нечто худшее маски: слепок массового производства безликости: ассигнации без никакого золотого обеспечения! Когда вместо собственных слов – пусть совсем нескладных, звучат чужие – какие угодно блестящие (которые, впрочем, тут же теряют свой блеск – как шерсть мертвого зверя). Надоедает слышать из уст собеседника не его, а чужие слова. Более того, если вам наскучило повторение, то знайте, что слова эти наверняка чужие, не сотворенные, а повторенные. Ибо человек не может повторить себя. Повторить себя в словах невозможно; любая же, самая малая, перемена речи – уже не повторение, а преображение, за которым стоит другая суть. Даже когда человек старается повторить собственную, уже высказанную мысль, он всякий раз невольно делает это иначе; а стоит ему лишь чуть изменить ее, как он говорит уже новое. Разве что выучит наизусть. Когда поэт явно «повторяется», это означает, что он отделился от своего творческого «я», что он обкрадывает себя, как чужого.
Обновление как стержень лирики – это не обновление своих или чужих снов и образов, а лишь возвращение лирических волн при неизменной лирической сущности.
Волна всегда возвращается, и возвращается всегда иною.
С той же водой – другая волна.
Важно, что волна.
Важно, что вернется.
Важно, что вернется всегда иною.
Самое же важное из всего: какою бы иной она ни вернулась, она всегда вернется – морской.
Что такое волна? Структура и мускул. То же и в лирике.
Возобновление не есть повторение. Возобновление заложено в природе самих вещей, в основе самой природы. При возобновлении данных форм деревьев ни один дуб не повторяет соседнего, а на одном и том же дубу ни один лист не повторяет другого. Возобновление в природе – это создание такого же, но не того же самого; подобного, но не тождественного; нового, а не старого; создание, а не повторение.
Каждый новый лист есть очередная вариация на вечном стволе дуба. Возобновление в природе есть бесконечное варьирование единой темы.