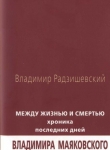Текст книги "Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы"
Автор книги: Марина Цветаева
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц)
В природе нет повторения: оно вне природы и, значит, вне творчества. В этом все дело. Повторяет только машина; у «поэтов, которые повторяют», машина памяти отделяется от творческих источников и становится чистым механизмом. Повторение есть чисто механическое воспроизведение неизбежно чужого, хотя бы и своего собственного. Ибо, выучив наизусть свою собственную мысль, я повторяю ее как чужую, без участия творческого начала.
Творческой, то есть моей, может быть только интонация, то есть чувство, с которым я произношу ее и меняю ее словесную форму, языковое и смысловое соседство, в которое ее ставлю. Но когда, например, я пишу на белом листке голую формулу, которую когда-то нашла: Etre vaut mieux qu’avoir (лучше быть, чем иметь), я повторяю формулу, которая так же не принадлежит мне, как любая алгебраическая формула. Вещь можно создать только однажды.
Самоповторение, то есть самоподражание, – акт чисто внешний. Природа, создавая очередной лист, не берет за образец уже существующие, сотворенные ею листы, потому что весь облик будущего листа заключен в ней самой; она творит без образцов. Бог создал человека по своему образу и подобию, но не повторяя себя.
Всякое поэтическое самоповторение и самоподражание – прежде всего подражание форме. Крадут у себя или у соседа некий вид стиха, те или другие обороты, те или иные образы – все вплоть до темы (так у Пастернака, например, все крадут дождь, который никто, кроме него единственного, не любит и который никому, кроме него единственного, не служит). Сущность же (свою или чужую) никому украсть не дано. Ибо сущности подражать нельзя. Поэтому все подражательные стихи мертвы. А если не мертвы и волнуют нас живой тревогой, тогда это не подражание, а превращение. Подражать, значит – уничтожить, во всяком случае – разрушить вещь, чтобы увидеть, как она сделана, украсть из нее тайну ее жизни – и восстановить заново все, кроме жизни.
II
Есть поэты, которые начинают с минимума и завершают максимумом, а есть такие, которые, начав с максимума, кончают минимумом (усыхание творческой жилы). А есть и такие, которые, начав с максимума, на этом максимуме держатся до последней строки. Из наших современников это – уже упомянутые Пастернак и Ахматова. Они никогда не давали ни больше, ни меньше, всегда оставаясь на максимуме самовыражения. Если путь одних есть путь самораскрытия, то в таком случае у них вообще нет пути. Они отродясь здесь. Их детский лепет уже данность, а не источник.
Звук осторожный и глухой
Плода, сорвавшегося с древа,
Среди немолчного напева
Глубокой тишины лесной, —
четверостишие семнадцатилетнего О. Мандельштама, где весь словарь и весь размер зрелого Мандельштама. Автоформула.
Что в первую очередь коснулось уха этого лирика? Звук падающего яблока, акустическое видение округлости. Что здесь от семнадцатилетия? Ничего. А что от Мандельштама? Все. И в первую очередь эта зрелость падающего плода. Эта строфа есть тот самый падающий плод, который дал поэт и от которого, как и от двустишия Ахматовой, рождаются необыкновенно широкие круги ассоциаций. Круглое и теплое, круглое и холодное, августовское – Августово (имперское), Парисово (греческое), Адамово (горловое) – все это дарит Мандельштам воображению читателя в одной-единственной строфе. (Ассоциативная мощь лириков!) Характерная примета лирика: давая это яблоко, поэт не назвал его своим именем. Но, в каком-то смысле, он от этого яблока никуда не ушел.
Кто может рассказать о поэтическом пути (беру самых великих и бесспорных лириков) Гейне, Байрона, Шелли, Верлена, Лермонтова? Они заполонили мир своими чувствами, воплями, вздохами и видениями, залили его своими слезами, воспламенили со всех четырех сторон своим негодованием…
Учимся ли мы у них? Нет. Мы из-за них и за них страдаем.
Так на мой русский лад перекраивается французская пословица: Les heureux n’ont pas d’histoire. [35]35
У счастливых не бывает истории (фр.).
[Закрыть]
Исключение – чистый лирик, у которого были, однако, и развитие, и история, и путь, – Александр Блок. Но, сказав «развитие», вижу, что это неверное представление, и слово, противоречащее сущности и судьбе Блока. Развитие предполагает гармонию. Может ли быть развитие – катастрофическим? И может ли быть гармония там, где налицо полный разрыв души? И вот, не для игры слов, строго их выверяя, утверждаю: Блок на всем своем поэтического пути не развивался, а разрывался.
О Блоке можно сказать, что он от одного себя пытался уйти к какому-то другому себе. От одного, который его мучил, к другому, который мучил его еще больше. Что характерно, Блок тем самым надеялся уйти от самого себя. Так смертельно раненный человек в страхе бежит от раны, так больной мечется из страны в страну, потом из комнаты в комнату и, наконец, с одного бока на другой.
Если Блок нам видится как поэт с историей, то эта история – лично его, Блока, История лирического поэта, лирика страдания. Если Блок нам видится поэтом, имевшим путь, то этот путь – лишь бегство по кругу от самого себя.
Остановиться, чтобы перевести дух.
И войти в дом, чтобы снова встретить там себя самого!
Разница лишь в том, что Блок с рождения побежал, в то время как другие оставались на месте.
Только однажды Блоку удалось убежать от себя – на жестокую улицу Революции. Это был соскок умирающего с постели, бегство от смерти – на улицу, которая его не заметила, в толпу, которая его растоптала. В обессиленную физически и надорванную духовно личность Блока ворвалась стихия Революции со своими песнями и разрушила его тело. Не забудем, что последнее слово «Двенадцати» Христос, – одно из первых слов Блока.
III
Таковы история, развитие и путь этого чистого лирика.
Думаю, что я уже ответила на начальный вопрос о Борисе Пастернаке, который повторю и здесь: чем может быть лирическое творчество двух таких десятилетий – 1912–1932?
Необходимые факты биографии: с 1914 года Б. Пастернак уезжал из России лишь однажды, на два месяца; таким образом, все годы войны, Революции и строительства он провел в самом горниле под молотом событий. Начнем сначала, от Б. Пастернака почти мальчика, еще до войны.
Когда за лиры лабиринт
Поэты взор вперят,
Налево развернется Инд,
Правей пойдет Евфрат,
А посреди меж сим и тем
Со страшной простотой
Легенде ведомый Эдем
Взовьет свой ствольный строй.
Он вырастет над пришлецом
И прошумит: мой сын!
Я историческим лицом
Вошел в семью лесин.
Взгляните: на пороге жизни стоит юноша. Что он видит? Куда смотрит? Какая личная и мировая история открывается перед ним?
Тигр – Евфрат, а посредине Эдем – и он, входящий в этот Эдем, который для него не миф, не исторический объект реальной истории: рая, природы, земли, где все было – всегда. Первый шаг юноши Пастернака был шаг – назад, в рай, в глубину. В тот самый рай, который, по Андерсену, есть не что иное, как сад Эдема, ушедший целиком, как был, и со всем, что в нем было, под землю, где цветет и поныне и будет цвести во веки веков.
Пастернак, как родился, так и исчез с поверхности событий (происходящего): пропал. И как бы он потом, десятилетие спустя, не старался стать хотя бы последней спицей в колеснице другой, собственно человеческой истории, хотя бы песчинкой под ее жерновами, изнанка истории, в буквальном смысле, становится для него лицом ее в стране дубов и верб.
Круг, в котором Б. Пастернак замкнулся, или который охватил, или в котором растворился, – огромен. Это – природа. Его грудь заполнена природой до предела. Кажется, уже с первым своим вздохом он вдохнул, втянул ее всю – и вдруг захлебнулся ею. Всю последующую жизнь с каждым новым стихом (дыханием) он выдыхает ее, но никогда не выдохнет. Его стихи всегда подобны взрыву, но – как бы это лучше сказать? – взрыву растительному. Так верба с набухшими зелеными почками имеет отдаленную аналогию со взрывом зеленых паров природы. Тот мой читатель, которому случалось когда-нибудь быть весной на холмах чешской Праги, окруженных вербами, поймет меня. У Пастернака, как у весны, взрывается весь паровой котел природы – и весь лирический котел.
Вот его определение поэзии 1917 года:
Это – круто налившийся свист,
Это – щелканье сдавленных льдинок,
Это – ночь, леденящая лист.
Это – двух соловьев поединок…
А следующие строки я назвала бы: объем поэзии:
Но чем его песня полней —
Тем полночь над нею просторней,
Тем глубже отдача корней.
Когда она бьется об корни…
Трудно на пятистах пастернаковских страницах выделить природу, гораздо легче выделить неприроду; впрочем, сомневаюсь, что на этих его пятистах страницах могла бы найтись хотя бы одна – без растения, без животного, без какого-нибудь напоминания о природе, видения ее, определения ее. От ископаемых мамонтов, с которыми он сравнивает влюбленного поэта:
Любимая! Жуть! Когда любит поэт —
Влюбляется бог неприкаянный!
И хаос опять выползает на свет,
Как во времена ископаемых, —
от природы, с которой он лицом к лицу (и которая – вся в нем), до будничной, подножной природы, которую во всей ее деятельности и во всех ее подробностях могут видеть только малые дети по причине своего малого роста и которую, вырастая, перестают видеть навсегда, – вся книга Пастернака – природа.
* * *
Когда я утверждаю, что Борис Пастернак прежде всего поэт природы, я не имею в виду природу, наличествующую в творчестве любого лирика.
Это не тот непременный общий лирический фон, на котором даются столь же общие лирические чувства: грусть, обида, любовь, воспоминания – чувства, отличающиеся одно от другого лишь степенью все той же общей интонации. Это не общее место лирики на общем месте природы. Это не общее (пусть и доходящее до величия) место природы в поэзии Виктора Гюго; это не чувство грусти вообще «Озера» Ламартина. Но это и не призрачная аллегория Гейне, величайшего лирика, у которого роза неминуемо означает девушку, а сосна – юношу, притом непременно – поэта, юношу-поэта вообще, который тоскует о пальме, олицетворяющей собою человеческое существо, юное и женственное; и грусть сосны всегда приобретает характер общечеловеческой тоски. Это не отпечаток природы на неизменном лице лирики. Но это и не однообразная и монотонная эгоцентрическая природа романтиков, где всё непохоже на себя, где всё и вся похожи на героя, а все герои – один на другого, и все на одно лицо – лицо романтика. Не принадлежит Пастернак и к тем поэтам, что высятся романтическим утесом и водопадом низвергаются оттуда в бездну своей собственной души. Это не море, которое есть сам Лермонтов, с летящим парусом (все тем же Лермонтовым). Это и не пушкинский «Анчар», «древо смерти», где дерево – лишь повод для изображения человеческой жестокости. Это и не природа Алексея Толстого с его ощущением мира:
Благословляю вас, леса,
Долины, горы, нивы, воды, —
строки, прекрасно передающие восприятие мира поэтом, но ни в коей мере не рисующие ни леса, ни долины, ни нивы и служащие здесь мерой наполненности души поэта, выражением его душевного состояния. Это и не одухотворенная природа Тютчева:
Не то, что мните вы, природа,
Не слепок, не бездушный лик:
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.
Но что это за душа, любовь, язык? Из тютчевских строк мы этого не узнаем; узнаем мы только душу, любовь и язык – самого Тютчева. Это и не природа, воспроизведенная прозаиком: увиденная глазами крестьянина, охотника, горца, постигнутая толстовским зрением (прибавим к этому: и гениальностью).
И это не совсем другая природа живописания, чарующая природа Гоголя, где вдруг разлилась и засверкала всеми красками его языковая палитра. Это не колдовская власть слова над нами, это не «чуден Днепр при тихой погоде», что с самого начала очаровывает нас словами, звучанием слов, слышится нам шумом самого Днепра вопреки спокойствию его течения, о котором нам говорят эти слова и ради чего они и написаны. Это не колдовская сила слова над нами. (Гоголевский Днепр, как и лермонтовское «Уж над горой дремучею…», – формы чистейшей поэтической магии, это волшебство поэзии в чистом виде, где ни одна вещь не похожа на себя, где, согласно народной поговорке, «и вода не вода, и земля не земля», где магический Днепр и магический Тифлис, где слова Тифлис и Днепр приобретают новую, необычную наполненность: наполненность не собою, а зачарованностью.)
Наконец, – хотя это и более близко к лирике Пастернака – но все же недостаточно близко, – это не природопоклонство Ницше и его более ранней предшественницы Беттины, где Бог отождествлен с Солнцем, от прикосновения которого чело становится – освященным.
Но здесь – остановимся, ибо, сколько бы мы ни перечисляли поэтов и прозаиков, их природа никогда не будет тождественна природе Пастернака. Ибо пастернаковская природа – единственна в своем роде.
Это не основа вещей.
Это не «он» (автор).
И не «она» (объект).
И даже не «оно» (божество).
Пастернаковская природа – только собственно она и ничто другое. Она – сама – и есть действующее лицо.
До Пастернака природа давалась через человека. У Пастернака природа – без человека, человек присутствует в ней лишь постольку, поскольку она выражена его, человека, словами. Всякий поэт может отождествить себя, скажем, с деревом. Пастернак себя деревом – ощущает. Природа словно превратила его в дерево, сделала его деревом, чтобы его человеческий ствол шумел на ее, природы, лад. Если принять за исходное слова Паскаля, что человек – это «мыслящий тростник», то Пастернак – не тростник, который мыслит, во всяком случае, его тростник мыслит не по-человечески.
Цельность существования природы дает неотторжимость ее от пастернаковской поэзии. Пастернак уникален и беспримерен в своем предпочтении природы – всему (о чем я скажу в свое время) и, стало быть, в этой природе он не может предпочитать что-нибудь одно в ущерб другому, – а это означает, что природа для него существует только вся, целиком, без изъятия.
Этим объясняется и то, что природа у Пастернака – действующее лицо. Действует не он, а она. Сама она. Само-деятельность. Вывожу это из многочисленных примеров. Отсюда – и самоценность природы в творчестве Пастернака. Природа у него – не повод, а цель. Самоцель.
И, наконец, особенность его ощущения природы диктует постоянство ее присутствия в творчестве. Для Пастернака характерно не просто пребывание в природе, а категорическая невозможность какого бы то ни было, пусть даже малейшего, отсутствия его в ней. Ни человек не может так пребывать в природе, ни природа – в человеке; так природа может пребывать только в себе самой. Самопребывание.
Из сего явствует, что Пастернак был сотворен не на седьмой день (когда мир после того, как был создан человек, распался на «я» и все прочее), а раньше, когда создавалась природа. А то, что он родился человеком, есть чистое недоразумение. И все его творчество – лишь исправление этой, счастливой для нас и роковой для него, ошибки природы. Подобно тому, как природа по ошибке может дать человеку не тот пол, здесь произошла явная ошибка в облике. Ибо даже тогда, когда Пастернак говорит о себе и для себя, – это всего лишь голос в хоре природы, на равной ноге с любым другим ее голосом. Он всегда сосуществует, никогда не выделяется. Как равный, а не как высший. Так, например, куст может шелестеть о своих мелких личных заботах. А дуб рядом с ним шумит о своей, дубовой, радости. А все вместе – лес. Хор.
О чем бы ни говорил Пастернак: о своем личном, притом сугубо человеческом, о женщине, о здании, о происшествии, – это всегда природа, возвращение вещей в ее лоно.
Он одинок только среди людей – одинок не как человек, а как не-человек.
После всего этого говорить о любви Пастернака к природе – просто нелепо. Любовь – это наше отстранение от вещей, а в лучшем случае – уничтожение этой дистанции, то есть слияние. Возьмем самый человеческий пример – материнство. Ни одна мать сама себе не скажет, что любит своего ребенка, очень любит, любит больше всего на свете, любит одного его и пр. А если и скажет, то только другим. Потому что она его больше чем любит. Она – это он, а он – это она. Так и у Пастернака с природой. Любить природу – значит признать, что ты – вне ее. Поскольку Пастернак в ней, то она с ним – одно целое, и он не может ее «любить». Можно сказать, что он дает дерево не сердцем, а – сердцевиной. Потому нам и кажется, что он не умеет говорить, что он говорит не как человек. Лучше всего было бы, если бы мы наконец поняли, что он говорит не о людских делах.
Лирическое «я», которое есть самоцель всех лириков, у Пастернака служит его природному (морскому, степному, небесному, горному) «я», – всем бесчисленным «я» природы. Эти бесчисленные «я» природы и составляют его лирическое «я». Лирическое «я» Пастернака есть тот, идущий из земли, стебель живого тростника, по которому струится сок и, струясь, рождает звук. Звук Пастернака – это звук животворных соков всех растений. Его лирическое «я» – питающая артерия, которая разносит повсюду зеленую кровь природы. Последнее «я» Пастернака – не личное, не людское, это – кровь червя, соль волны. Потому-то он – самый удивительный из всех лириков.
Давай ронять слова,
Как сад – янтарь и цедру,
Рассеянно и щедро —
Едва – едва – едва…
IV
Весна, я с улицы, где тополь удивлен,
Где даль пугается, где дом упасть боится,
Где воздух синь, как узелок с бельем
У выписавшегося из больницы.
Удивлен – пугается – боится?.. Кто?.. Больной, что зимой выходит из больницы? Сам поэт, выходящий зимой из больницы? Нет, тополь, дом, даль – и, в них и через них, Пастернак. Тополь, удивляющийся внезапно возникшей дали, дома, словно пугающиеся крутизны и падающие, лишенные своих снежных подпорок. А узелок с бельем – у больного, выписавшегося из больницы? Нет, сам воздух, чистый, вымытый, залитый весенней синью. (И – картина больничных халатов на веревке над лужей, развевающихся, плещущихся.) А все вместе – образ спотыкающегося от немощи и счастья – «я».
Вот еще образец самодеятельной природы:
А затем прощалось лето
С полустанком.
Снявши шапку,
Сто слепящих фотографий
Ночью снял на память гром.
Каково самое первое впечатление от этого четверостишия? Беспрестанное скрещивание молний, что в народе, не знаю почему, так чудесно и убедительно называют «воробьиной ночью». И опять-таки: кто это прощается? Поэт с полустанком? Нет, само лето. Кто, снявши шапку, щелкает затвором аппарата? Телеграфист на станции? Сам поэт? Нет, гораздо больше и сильнее – гром! Последний гром струящегося русского лета.
«В 1865 году неподалеку от Луары гром ударил в работника, который спрятался от непогоды под грушей. Когда его, без сознания, принесли домой, то заметили поразительную вещь: на его груди отпечаталась ветка груши» (Гастон Тисандье. «Научные беседы», глава «Действие молнии»).
Из чего следует, что гром действительно может сделать отпечаток. Что все «фантазии» и все «вольности» великого поэта – всего лишь подтверждение законов природы, неведомых обычному человеку. А в пастернаковском четверостишии мы увидели еще больше, а именно: самого поэта, лежащего ничком под деревом, с веткой, оттиснутой на груди с рождения и навек. Все поэты от рождения меченые. Эта отметина – пастернаковская.
Такова вся книга. В ней все необычайно. Как у ребенка: река купается, куст наслаждается тенью… Очеловечение природы? Но кто поручится, что река в самом деле не купается в самой себе, а куст не наслаждается собственной тенью, что дорога и впрямь не уходит сама от себя? Ведь у всех народов дорога «идет» или «уходит». И кто из нас, возвращаясь ночью по знакомой тропе или по незнакомой окраинной улице, не ощущал, что его с обеих сторон в самом деле провожают деревья, и кто из нас, покидая милое сердцу место, не чувствовал, что деревья и впрямь провожают нас («смотри, мама, дерево побежало»), машут, бегут, отстают. Только у детей и у народов с наивным эгоцентризмом самодеятельность природы обращена на человека, у Пастернака же эгоцентризм природы обращен на самое себя.
* * *
Вот, без единого личного напоминания, полдень Пастернака:
Текли лучи. Текли жуки с отливом.
Стекло стрекоз сновало по щекам.
Был полон лес мерцаньем кропотливым,
Как под щипцами у часовщика.
Казалось, он уснул под стук цифири,
Меж тем как выше, в терпком янтаре,
Испытаннейшие часы в эфире
Переставляют, сверив по жаре.
Тут жук-рогач с отливом, отблеск стрекоз на щеке человека, залитой золотом. И все это течет. Все это – жук-рогач, стрекоза, щека – едино и равно, с одним и тем же правом живого и божественного. Говоря словами другого поэта:
Всё во мне, и я во всем.
Вот земная любовь, которую Пастернак дал в ее самом томительном, но и самом притягательном выражении – поцелуе:
Поцелуй был, как лето. Он медлил и медлил.
Лишь потом разражалась гроза.
Пил, как птицы. Тянул до потери сознания…
До такой чистоты: дать поцелуй птицы, что пьет из водомоины после дождя, до такой чистоты, красоты и точности не доходил еще никто. А вот в одной строке – образ всей поэзии:
Тетрадь подставлена – струись!
Это «струись» сразу же переносит нас к единственному предпочтению Пастернака в природе: к дождю. (Можно сказать, что Пастернак в природе предпочитает все, но дождь – больше всего!) Дождем и пастернаковскими слезами буквально затоплена вся книга. Небо у него – мало сказать, плачет слезами. Оно разражается плачем. Его небо – большой ребенок. Как и сам Пастернак. Ибо пастернаковский исключительный, поразительный, единоличный культ дождя – самый обычный для детей культ. Каждый ребенок – дождепоклонник. И если он плачет из-за дождя, то лишь потому, что его на этот дождь не пускают. Пастернак же, как уйдет под дождь, так никогда бы и не возвращался.
Вот как он передает ощущения ветки под дождем:
Ты в ветре, веткой пробующем,
Не время ль птицам петь,
Намокшая воробышком,
Сиреневая ветвь.
А вот что бывает на дожде с цветком – с цветочной чашечкой:
Душистою веткою машучи,
Впивая впотьмах это благо,
Бежала на чашечку с чашечки
Грозой одуренная влага…
На чашечку с чашечки скатываясь,
Скользнула по двум – и в обеих
Огромною каплей агатовою
Повисла, сверкает, робеет.
А вот как показан дождь, весенний дождь в один из первых дней Революции:
Усмехнулся черемухе, всхлипнул, смочил!
Лак экипажей, деревьев трепет…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лужи на камне. Как полное слез
Горло – глубокие розы, в жгучих,
Влажных алмазах. Мокрый нахлест
Счастья – на них, на ресницах, на тучах…
Вот как сказано о послегрозовых испарениях земли:
Гроза, как жрец, сожгла сирень
И дымом жертвенным застлала
Глаза и тучи…
И, в противоположность торжественности жреца, – самое скромное явление:
Всё, как стираный передник,
Туча сохнет и лепечет.
И совершенно потрясающая картина предгрозовой пыльной дороги:
Накрапывало, – но не гнулись
И травы в грозовом мешке.
Лишь пыль глотала дождь в пилюлях,
Железо в тихом порошке.
Селенье не ждало целенья,
Был мак, как обморок, глубок…
А вот и конец дождя:
И вдруг пахнуло выпиской
Из тысячи больниц.
Даже умывальный таз преображается у поэта в альпийский ручей:
Я умолял приблизить час,
Когда за окнами у Вас
Нагорным ледником
Бушует умывальный таз…
Можно сказать, что у книги Пастернака глаза постоянно на мокром месте. Так порой бывает в горах: идешь по тропинке, через несколько шагов натыкаешься на ручеек, идешь вдоль него, перепрыгиваешь его, сворачиваешь – и внезапно тебе на голову обрушивается поток. Подземная вода альпийских стремнин.
Толковать же пастернаковские слезы, живой дождь его лица, трудно. Пастернак плачет обо всем; всякое нахлынувшее чувство вызывает у него слезы.
Это не скупые мужские слезы – с датой и адресом («последний раз я плакал тогда-то и тогда-то о том-то и том-то»), слезы, которых стыдятся, которые скрывают и которые, стыдясь и скрывая, именно за их редкость ценят на вес золота; это не умышленные, сосчитанные злые мужские слезы, которые, во всяком случае, помнят и запоминают навсегда.
Но это и не женские слезы – прежде и больше всего слезы слабости (что нисколько не уменьшает их болезненности!), это не извечные слезы женской беспомощности, обиды, угнетенности, напрасных страданий. Нет, это не слезы унижения и обиды.
Но это и не людские слезы вообще, о которых другой русский поэт сказал:
Слезы людские, о слезы людские,
Льетесь вы ранней и поздней порой,
Льетесь безвестные, льетесь незримые,
Неистощимые, неисчислимые,
Льетесь, как льются струи дождевые
В осень глухую, порою ночной.
Слезы Пастернака – это выражение силы: силы его чувств, – избыток жизни, находящий выход в слезах и строфах, кипящий, как котел страстей. Можно сказать, что когда Пастернаку лучше всего, когда он сильнее всего, когда он – в наибольшей степени – он, тогда он плачет:
И сады, и пруды, и ограды,
И кипящие белыми воплями
Мирозданья – лишь страсти разряды,
Человеческим сердцем накопленной.
То же – и о ливне.
Ни женские, ни мужские – лирические. Слезы Пастернака суть лирические разливы, которыми жива лирика.
* * *
Я подробнее всего говорила о дожде и зелени у Пастернака. Пусть мой братский сербский читатель поверит мне на слово, что с тою же страстью он изображает и солнце, и ветер, и снег – все стихии от бушующей ноябрьской метели до цветной апрельской – все времена года и дня, все события и состояния природы, всю ее физику и психику, все климатические пояса души и планеты – от вечного льда бессмертия до живой суши страсти, а чего нет в его книге, того нет и в природе. (А чего в природе – нет?) При самом тщательном геологическом, географическом изучении вы не смогли бы найти здесь ни одного пропуска. Все в наличии. И это все и есть лицо Пастернака.
Но об одной специфической особенности пастернаковского пребывания в природе я должна сказать особо. Я имею в виду его пребывание – в погоде. Думаю, что важнейшее событие души в жизни Пастернака при окончательном суммировании мук и радостей – это погода, утренний быстрый взгляд в окно, а до этого – настороженный слух: «Ну что, как там?» И что бы «там» ни было: дождь, солнце, метель или просто хмурый день, который народ дивно зовет «святым», Пастернак уже заранее счастлив, действительно счастлив. Вот кому и впрямь легко угодить Господу! Ибо во всей книге нет ни единого сетования ни на зной, ни на холод, ни на грязь – и какую грязь! И если в одном из стихотворений он без конца мочит в ведре с водой полотенце, которое тут же нагревается на его лбу, или в другом, в других – закутывается шарфом, то речь идет о такой жаре, от которой собаки бесятся, и таком морозе, на котором собаки (слезами) плачут; для поэта же и ныряние в ведро, и закутывание в шарф – величайшее блаженство. Этим своим пребыванием в Погоде он напоминает только одно: Пруста (которого вообще во многом напоминает), посвятившего этой ежедневной погоде, феномену ежедневной погоды за окном и в комнате одну из незабываемых глав своего бессмертного произведения.
Творчество Пастернака – это прежде всего и после всего лирическая метеорология и метеорологическая лирика.
Ибо, когда Пастернак говорит, мы чувствуем, что он говорит не только о важнейшем событии своей жизни, но и нашей. Так может говорить только влюбленный – и летописец.
Если иной раз Пастернак, погрузившись в писание, то есть в сон, из этого сна спросит детей: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?» – то хорошая ли погода – об этом он не спросит никогда, и только еще через пятьсот лет мы, возможно, это от него узнаем. 1917 год Россия не забудет, и не только из-за Керенского (который, кстати, был удостоен одного из прекраснейших пастернаковских ливней, – не оставившем на нем сухой нитки!).
А какое, по Пастернаку, наступает историческое двадцатилетие? Во-первых, необычайное по своей метеорологии. Постоянные дожди, постоянные метели, постоянные ураганы, жары, наводнения… Книга Пастернака – это прежде всего некая метеорологическая Революция. Если сумму всех этих природных явлений распределить по дням, то на каждый день этих двух десятилетий на одну и ту же точку земного шара придется по крайней мере четыре бури, три метели, два наводнения и один ураган. Природа или, вернее, погода в книге Пастернака не поскупилась. За двадцать лет в пастернаковской книге пролилось больше ливней, чем за двести лет, разлилось больше рек, чем в долине Миссури, родилось больше месяцев, чем за все время существования Персии, и расцвело больше деревьев, чем в Эдеме…
Последнее слово прямо приводит нас к Творцу из Эдема, и самого Пастернака.
Ты спросишь, кто велит,
Чтоб август был велик,
Кому ничто не мелко,
Кто погружен в отделку
Кленового листа
И с дней Экклезиаста
Не покидал поста
За резкой алебастра.
Ты спросишь, кто велит,
Чтоб август был велик,
Чтоб губы астр и далий,
Осенние, страдали?
Чтоб мелкий лист ракит
С седых кариатид
Слетал на седость плит
Осенних госпиталей?
Ты спросишь – кто велит?
Всесильный Бог деталей,
Всесильный Бог любви,
Ягайлов и Ядвиг.
Так Пастернак отвечает на вопрос: Бог.
V
Но будем честными. Постараемся объяснить следующее: Да, природа. Погода. А «Лейтенант Шмидт»? А весь «Потемкин»? А весь «Девятьсот пятый год»? Стихи с явной темой, притом чисто гражданской. А все страдания России? А все радование новому миру? А все революционные и социалистические признания, наконец?
Нельзя представить себе человека, знакомого с бурей в природе и никак не откликнувшегося на нее в жизни. (А тем более спрятавшегося от нее под подушку!) Поскольку революция есть стихия, Пастернак откликнулся на нее сразу. Но как откликнулся? В этом все дело.
Но моросило, и топчась
Шли пыльным рынком тучи,
Как рекруты, за хутор, поутру.
Брели не час, не век —
Как пленные австрийцы,
Как тихий хрип,
Как хрип:
Испить, сестрица!
Это – его первый отклик на войну. В тучах он видит рекрутов, а в шорохе мокрых деревьев ему слышатся стоны пленных.
Нашу родину буря сожгла.
Узнаешь ли гнездо свое, птенчик?
Это его первый отклик на Революцию. А вот картина степи в Революцию:
Она, туманная, взвилась
Революцьонною копной… —
и дальше – о самом воздухе степи (и, конечно, о самом себе):
Он чует, он впивает дух
Солдатских бунтов и зарниц,
Он замер, обращаясь в слух…
Ложится, слышит: Обернись.
Это пока 1917 год. Дальше – больше. Дальше – весь «Матрос в Москве», который в маловодную семихолмную Москву влил целых два моря: морское и революционное, да еще и третье разливанное, поскольку матрос пьян – как матрос в гавани, так пьян, что угловой дом принимает за свой корабль. Матрос, по великодушному выражению Пастернака, – подобен морю, соединяющему в себе «со звездами – дно».
Дальше – вся «Высокая болезнь» – высокая и бессмертная болезнь поэзии среди общей смертельной болезни, – голодного тифа – с печальным образом самого поэта:
А сзади в зареве легенд
Идеалист-интеллигент
Печатал и писал плакаты
Про радость своего заката.
(Борис Пастернак – единственный из поэтов Революции, кто осмелился встать на защиту оплеванной и слева и справа интеллигенции.) «Высокая болезнь» – с почти страшной картиной конца империи: