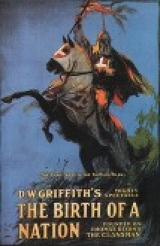
Текст книги "Огонь Просвещения (СИ)"
Автор книги: Марат Нигматулин
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
И члены твои исцелят от застоя,
Как верные слуги тебя обласкают.
И долг свой гражданский тот муж исполняет,
Что тело свое опускает в те воды,
Страну он родную уж тем восхваляет,
И хвалит достоинства оной природы.
Блаженна река: от всего исцеляет;
И даже от жизни течения бренной,
Покуда вокруг эфемерное тает,
Река и в века остается нетленной.
Омыть свое тело идет сюда каждый,
Здоров будь он очень, иль болен ужасно,
Будь от рожденья он трус, иль отважный
Река накрывает его в водах страстно.
И всякому, кто укрепленья желает
Духа, иль тела, всего организма,
Судьба на купанье здесь определяет,
Но только лишь тех, кто не терпит снобизма.
Непознанное.
Гулял я по лесу, ничто не искал,
Красивый цветочек я вдруг увидал.
Роскошным цветом, вдали от аллей,
Светил он ярко среди ветвей.
К нему уж шел я, его сорвать,
На мягкую землю уж начал ступать,
Но правил тем местом какой-то бес –
Цветок отдалялся все глубже в лес.
И только на кочку ногой ступил,
Как все в этом мире я тут же забыл,
И вот уже в пропасть летел я вниз,
Со скоростью дикой, как черный фриз.
Но вот я, шатаясь, едва стоял,
Где я находился никто не знал.
Я брел по лесу в кромешной тьме,
И страшно, как в детстве, там было мне.
Тут шорох я сзади вдруг услыхал,
В груди своей вопль с трудом удержал.
Во тьме различил я тут голос родной,
Тревога и страх мой исчезли долой,
И сердце сверкнуло былых светом дней,
И шел я на голос сквозь толщу ветвей,
И разум мой образ родной ваял,
Но ветви раздвинув, я чуть не упал.
Призрак там бледный кругами ходил,
От жуткой тоски, видно, песнь голосил.
И тусклый свет лился от призрака вкруг,
Помыслил я мельком: он враг или друг.
Его со страхом я обошел,
Того, что искал, я тут не нашел.
Он голову поднял, в глаза мне взглянул,
Как малую птичку меня он спугнул.
Глазницы были как бездна пусты,
Но он все ж смотрел на меня сквозь кусты.
Де долго я думал, бежать или нет,
И вскорь потерял во тьме он мой след.
Но быстро окончился дикий лес,
И дух отпустил мой его злобный бес.
И луг бескрайний пред мною предстал,
По пахнущим травам я вдаль зашагал.
Тут было намного светлей, чем в лесу,
У края земли усмотрел полосу.
Я быстро понял – лежит там восток,
Оттуда к нам утром является Бог.
И чистое небо над головой
В душе рождало моей покой.
На купол небесный пока я смотрел,
Я духа иного, увы, проглядел.
Ежик явился пред мной партизан,
В лапах могучих сжимал он наган.
Чрез плечо перекинута лента патрон,
Видно сразу, что в битву он вел эскадрон.
На ногах изорвались его сапоги,
В них его, вероятно, настигли враги.
И безмолвно герой предо мною стоял,
Не видя меня, в свою духу взирал.
Выпускнику.
Ты школьный последний окончил уж класс,
Как Путин Великий свершил то давно,
И путь начинаешь ты свой на Парнас,
И крепок твой бот – не пойдет он на дно.
Республики славный ты сын и достойный,
Вступаешь на долгий и трудный ты путь,
Выходишь с пустою сумой ты в день знойный,
Но все ничего – резов дух твой как ртуть.
Открыт тебе путь, гражданин молодой,
Усвоил ты принцип всех знаний уж главный,
Над миром вознесся ты гордой главой,
Ты юноша сильный, достойный и статный!
И как ни штормило б природу вокруг,
Как будто утес ты над ней возвышайся,
В душе сохраняя спокойствие, друг,
От мыслей высоких не отвлекайся.
Golden Eagle.
На музыку Běiyáng Shuǐ Shī Jūn Gē.
Hurrah, Russian, best from nations,
Greatest nation under sky,
Best in world in all relations,
Most wise people my!
Ten thousand fly Golden Eagle
In the glitters blue sky bright,
Fly on crystal ocean seagull
And a yellow warm sun light!
Celebrate to all Empire –
In fact we make greatest blow.
Three the colors sky to fire,
Flowers and around to grow!
Голоса товарищей.
Друзья, товарищи мои,
Сказать вам я сегодня должен,
Прошли уж худшие те дни,
Да будет факт тот непреложен!
Дрожат над миром небеса,
И ветры яростные реют,
Мы слышим ваши голоса,
Враги от них уже немеют!
И вольный, смелый гражданин,
Назло врагам, судьбе напротив,
Идет на бой, и не один,
Богов и капитала против!
Крестьянин пиренейских гор,
Шахтер донецкий, клерк из Сити,
Терпели долго до сих пор,
Но теперь вон от них бегите!
И сотни, тысячи голов
На небо взор свой обратили,
И не болтая лишних слов
Великий подвиг совершили.
Друзьям протянем руку мы,
И слился лепет в общий глас,
От страха враг встал на дыбы,
Ему он хуже, чем ГЛОНАСС.
Боятся жители дворцов,
Трещат у тронов их столбы,
И войско мощное стрельцов
Ничто пред силою толпы!
Ломаются уже штыки,
И их солдаты отступают,
Бросают крепость уж враги,
Над нею знамя водружают!
Уж Солнце алое взошло
Над синим Тихим Океаном,
Почти в Европу уж пришло
Врагам их жизнь закончив адом.
С востока поднялась волна,
Она страшна и к вам идет,
И будет так она сильна,
Она вас в клочья разнесет!
Вы слышите: стучат сердца,
И этот стук зовет на бой,
Считает время до конца,
Как враг издаст предсмертный вой.
Аджика и богдыхан.
Китайский знатный раз богач
Из города Гонконг,
Who was a fat and slow mach,
Раскуривал свой бонг.
Курил он сладостный дурман
С утра в гостиной дома,
Читая старенький кайдан
Пока лилася сома.
Потом он встал, надел кафтан
И подпоясал брюхо,
Отбросил в сторону кайдан,
Прочистил свое ухо.
Надел он туфельки свои
And go to dirty street,
Тряслись на нем одежд слои,
And face was early sweet.
Хоть он себе давал зарек
Не бегать на базар,
Себе он в мыслях шля упрек,
He go to ferry-star.
Он на базаре увидал
Now-how from the West.
Кавказский магазин стоял,
This mag was to the best.
Зашел он в этот магазин,
When attics crash from eat,
Торговец был там армянин.
«What in your market hit» –
Спросил китайский богатей –
«What better for the healthy my,
Что лучше из сластей?».
«We have the best in world product – you must this
product buy!» –
Торговец отвечал,
Китаец оживился в миг,
Торгаш интриговал:
«This product lie in jar this big!» –
Кавказец заявлял.
– Что в банке этой за продукт –
Chinese to answer question.
– This product from Caucasus wood! –
Catch merchant situation.
– Аджика это, господин. –
Сказал армян болтливый.
– Она на вам сил даст на один.
Китаец похотливый
Неверно мысль уловил,
И малость удивившись,
Продукта о цене спросил,
В тот миг же позабывшись.
– Что, господин, продукте том,
From what this product make.
Цена звучала будто гром,
Ведь ценник – for the lake.
И армянин тут рассказал вдруг,
Что в банке крылось за стеклом,
Китаец испытал испуг –
Лежал он под столом.
«Две пинты мюнхенского пива
И узкие американские штаны,
Пинетки Джорджа прямо Стива,
Кило какао тут даны.
Сукна английского два метра,
Меха российских соболей,
Тут ель с провинции Альберта,
Химический немецкий клей.
Голландский джин, коньяк французский,
Вискарь шотландский дорогой,
Молочный свин хороший, прусский,
Коров волгодских тут удой.
Китовый ус и клык моржовый,
And many tropically fruits,
Окорочок мясной готовый,
Кило семь колбасы and boots.
Тут специй много всяких разных,
Макулатуры аж галлон,
А травок столько там потрясных,
От них такой начнется гон!
Женьшень и корни мандрагор,
Тут Ag и Au порошок,
Oldest socks of Britain empor,
Патрон немецких целый блок.
Тут горный мед, нефрит тут тертый,
И янтаря крупный кусок,
Хомяк тут дикий и проворный,
Барана жирный очень бок.
Ворвани банки тут крутые,
Дерев садовых тут кора,
Металлы всякие такие,
Металлов тяжких тут гора!
Потом все это мы смешали,
И год в котле оно кипит,
Потом аджику закопали,
Пять лет в земле она лежит
В бочонке темном герметичном,
Там изменяясь и томясь,
Затем в баллоне же отличном
В наш магазин явилась, торопясь.».
Китайцу в руки отошла аджика,
Пятьсот он фунтов за нее отдал,
And go to home, between the hotel «Nika»,
Прийдя домой, аджику он сожрал.
Какой же вкус, какие ароматы,
Мне словом то не передать,
Залил тот запах все палаты,
Из окон вырвался гулять.
Взгляни, comrade, какая муть,
Глубока цвета красота,
В том цвете все, что в свете будь,
Как хороша Аджика будет та.
Галлюцинации Бунина.
Солнце восходит из-за лесов,
Соловей уже в роще поет,
По росистой траве звук не слышен шагов,
Счастлив тот, кто в России живет.
И река у подножья холма,
Огибая его, голосит,
И пока спят спокойно дома,
Тишь такая в округе стоит.
И вдыхаю я запах земли,
И смотрю как деревья растут.
Всему миру сознаюсь в любви,
И пускай все на свете живут!
В Ароматном лежу я дыму,
Как на облаке я развалился,
Предаваясь тут морфию-сну,
Окончательно я просветлился.
Будто лодки все мысли плывут,
Святой дух в меня будто вселился,
Во все стороны мысли идут,
В духе том разум мой растворился.
В кронах ветер, гуляя, шумит,
Звучит арфой мне музыка эта,
Сквозь прохладу утра он летит,
Вобрав в звуки свои краску лета.
И камыш над прозрачной водой
Поет с волнами песню едину,
И качаясь, маня как рукой,
Славит кратку свою он годину.
И лягушки, и мыши, и все
Издают дифирамбные звуки,
Утро славит живет кто в траве,
Вырываясь из пут ночной скуки.
Массу тела я тут потерял,
Невесомым я стал, как пушинка,
И в эфире приятном летал,
Сознавая, что я лишь песчинка.
И комфорт я такой испытал,
Будто гору я с плеч моих скинул,
Наслаждаясь, я с тем изнывал,
И уж думал, что мир я покинул.
В Солнца свете уходит туман,
Время снова приблизилось дня,
Я совсем погрузился в дурман,
И заснул, себя Пушкиным мня.
Молодая гвардия Единой России.
Как, товарищи, я рад,
Вслед за Лениным, Петеном,
И вступая в их отряд,
Стал я реакционером!
Я теперь один из вас,
Духом будто пионеры,
Все мы реакционеры,
И виденье Алигьери в сердце каждого из нас.
Одой к юности взывая,
К силе, гордости младой,
Всех в пучок объединяя
И ведя на смертный бой.
Нет уж ни одной деревни,
Что не шлет камрадов в строй,
Что ни развернут намедни
Флаги гвардии младой.
Президент же, вас мы славим,
Ни один из нас не плох,
Мы победу вам подарим
Или наш последний вздох.
И врагу нас не сломить,
Братья, всяк из нас герой,
Суждено нам победить,
За Россию встав стеной.
В пылу сражений и победы славной
Зажглося снова пламя октября,
Вперед де, к цели нашей главной,
Против богов и Белого царя.
Заветной цели наш народ добьется,
Еще при вас настанет этот день,
Как снова сердце Ленина забьется,
А в Ницце расцветет сирень.
И страшен врагу фронт объединенный,
Америка боится и ислам,
Не люб им русский нрав традиционный,
Но скоро уж окончится бедлам.
И инородец, мучимый трудами,
России никогда не даст отпор,
Ведь, рея над святыми кораблями,
Несет свободу русский триколор.
И русская весна вернется снова,
Пока мы ждем ее в горах и на морях,
Вы, граждане, нам крепкая основа,
Вы гордость и победа нам в боях.
Наш триколор с победой возвратится,
Когда мир новый станет на земле,
И нам тогда уж все простится,
Придет конец тогда вселенской мгле.
Так братья, лицом к Солнцу обратимся,
И новые рубашки натянув,
С землей родною только как простимся,
На бой пойдем, мы сапоги обув.
И коль уснем в земле родимой,
Пять стрел в ярме напомнят вам о нас,
Пять алых роз над нашею могилой
Напомнят жизни нашей сказ.
Под сенью красных же знамений
Пойдем мы в свой последний бой,
За жизнь грядущих поколений
Уходит в вечность молодогвардейцев строй.
Про мой кредит.
И скучно, и грустно,
И некому руку подать,
Увы, но мне нужно
Кредит уже свой отдавать.
Зачем в кредит я дачу взял?
Она мне не нужна ведь.
Я договор кредитный смял,
Да съел, поскольку снедь
Давно уж в доме у меня
Не водится, и медь
Последнюю я сдал в цветмет, десятого уж дня.
И чаще все смотрю на плеть,
Висит что на стене,
В ночи она на вид как змей,
Да думаю, как мне
Окончить ход уж мерзких дней,
Увы, но пистолет
Заложен уж давно в ломбард.
Богатства древних лет
Истратив, даче я не рад.
Но светит солнце в небесах,
И выпадает снег,
Все в мире обратится в прах,
Таков ведь жизни бег.
Я знаю: жизнь прекрасна,
И хоть мне грустно иногда,
Но все ж всегда мне ясно,
Что не верну кредит я НИКОГДА.
Был бы я Лермонтов...
Над Кавказом восходит заря,
И курится в заре той Машук,
Дым плывет над горами летя,
И растет пред окном моим бук.
Пальцем тонким я беленьких рук
Оттираю тут содой медаль,
Что досталась ценой многих мук,
И висит на стене моей сталь.
Смотрю часто на шашку свою,
Что отнял у торговца в горах,
Но сказал, что добыл я в бою,
Что хозяин ей был некий шах.
На медали лик вижу царя,
Что вручил мне вот эту медаль,
Благодарности мне говоря, –
Не зря ехал в такую я даль.
Солнце гонит стада облаков,
И задумался я глубоко,
Сказать все не хватает мне слов,
И душою я так далеко.
За что медаль я получил –
Вы спросите меня.
Скажу, что там я совершил,
Себя в том не виня.
Возглавить дали мне подряд
И вышли на врага,
Увел я далеко отряд,
Забрались аж в луга.
Тогда нам крупно повезло –
Спалили мы дотла
Не как всегда, одно село,
А целых три села.
За удаль славную мою
Мне выдали медаль
«За доблесть видную в бою»,
Из серебра, что жаль.
Квартиру новую царь дал
И в звании повысил.
За то уж душу б я продал,
И цену не завысил.
Отпуск дали мне впридачу,
Я героем стал газет,
В Пятигорске дали дачу,
(В ней фарфоровый клозет!)
Я ношу стальную каску
И крутой противогаз,
Вот не зря прошел я таску
И уехал на Кавказ.
Герой я новых поколений:
Поэт, философ, офицер.
По мнению газет я гений,
И человек я строгих мер.
Уж скоро стану генералом,
И получу Железный крест,
Карьеру кончу я парадом,
Уеду я из здешних мест
В семейный старый свой колхоз,
Где детство я провел,
И буду разводить там коз,
Момент к тому пришел.
Писать я буду свои книги,
На море отдыхать,
И в члены Академской Лиги
Решу тогда я поступать.
Ко мне домой приедет Ленин,
Мой ум себе перенимать,
И буду я, плешивый мерин,
Ему всю душу изливать.
А Солнце ныне уж взошло,
И светит как фонарь,
Расцвета время мне пришло,
С медали смотрит царь!
Государство – моя свобода!
В данной статье мне хотелось бы лишний раз обсудить наши сложные сегодняшние взаимоотношения между государством и гражданином, которые следует понимать тем более глубоко, чем далее наше общественное сознание развивается по пути прогресса. Сегодняшние концепции понимания данного вопроса совершенно никакого действительно грамотного человека не способны удовлетворить, но могут лишь воспалить его интерес к этому вопросу и поиску ответа на него действительно верного. В умах западных жителей ничтожные идеологи, вроде Рона Пола и тому подобных клеветников и опошлителей, все более пытаются укрепить глупую концепцию «минимального государства», которое по их разумению «должно быть кротким». Надо же нам, честным патриотам Республики, задаться теперь вопросом о том, почему им вздумалось «укоротить» государство? Разумеется, надо в этом вопросе осветить былые тенденции западной, и в первую очередь американской, общественной мысли для прихода к действительно верным умозаключениям. Известно, что американское государство безусловно оказалось нищим в вопросе творения собственной самобытной философии, философии особенной и отличной от европейской, притом разветвленной, как последняя. Конечно, родилась в Америке и вполне самобытная философия – прагматизм, сущность которого многим глубже, нежели у некоторых европейских концепций, но все же он так и остался одной из немногих «чисто американских» концепций. Смеляков в своей книге «Деловая Америка: записки инженера» пишет: «История образования и развития Соединенных Штатов как государства явилась той почвой, на которой взошли и сложились особенности американского стиля и метода. Видный деятель коммунистического движения Уильям З. Фостер в своей книге „Закат мирового капитализма“ отмечал, что капитализм в Америке „развивался и существовал в гораздо более благоприятных условиях, чем в любой другой стране мира. США занимают огромную часть континента, не разрезанную государственными и таможенными границами, которые оказывают губительное воздействие на капитализм в Европе. Страна обладает исключительно богатыми запасами сырья, благоприятным климатом, протяженной береговой линией, отличными гаванями и другими условиями, необходимыми для строительства крупной индустриальной державы. Кроме того, в деле создания американского общественного строя американский капитализм в основном не связывали пережитки феодализма, которые служили серьезным препятствием для развития капитализма в других странах. Хроническая нехватка рабочей силы, вызывавшаяся тем, что капитализму в Америке приходилось фактически создавать все на голом месте, в течение многих десятилетий служила мощным стимулом для развития техники и изобретательства, всегда направленных на разработку приспособлений, позволяющих экономить рабочую силу“». Мы, как материалисты и диалектики, знаем, что внешняя экономическая и природная среда влияет на наши мысли и порождает философию в ее первозданном виде, в виде совершенно нетронутой разумом и логикой глупости, а ежели в Америке среда была такой, как писано выше, то и местная философия ей соответствовала. И если вы спросите меня о том, кто был и остается «самым американским философом из американских», но никак не попросите выделить среди них умнейшего, то я назову вам Роберта Кийосаки, что в своем убогом идеализме даже хуже Шопенгауэра, ибо последний знал многое, но заблуждался, а первый не зная ничего делает то же самое. Конечно, были в Америке люди великие, вроде Джона Дьюи и Бенджамина Франклина, последний из которых даже попал на банкноту, хотя, надо признать, был он отнюдь не «рыночником», которому кроме денег не было интересно никакое другое явление, хотя за данным гражданином не нашлось действительно стоящих гуманистических последователей, а все прочие усвоили лишь то, что «время – деньги». Приживался в Штатах и социал-дарвинизм, имевший в подобной стране всегда много последователей, наследующих в обыденности его от Спенсера, хотя кроме него от последнего ничего и не взявших, несмотря на множество умных мыслей в его голове. Американская интеллигенция, как равно и пролетариат, действуя по своей умственной недоразвитости, вызванной тогдашней экономической отсталостью, марксизм не восприняли. Вот, как описывает данные события советский учебник истории: «В идеологическом отношении американский пролетариат был еще незрелым. Социалистическое движение в США было намного слабее, чем в Европе. В отличие от германского и французского пролетариата, американские рабочие не сумели создать массовую марксистскую партию. Они оказались во власти самого реакционного профсоюзного руководства. Революционные социалисты, еще слабо подготовленные в организационном и теоретическом отношении, оказались не в силах нанести поражение Гомперсу и его сторонникам. На длительное время в рабочем движении США победили оппортунисты.». Само собой, американская философия выросла особенно ущербной и совершенно убогой, лишенной своей левой ноги, а потому и бесконечно хромой, как сам Милтон Фридман в глубокой старости, которая вовсе ему ума не добавила, хотя и лишила и того малого, чем был он наделен. Как известно, если начать все очень плохо, то исправить все и выровняться будет совсем непросто, а посему далее американская философия стала двигаться в том же направлении, углубляя и усиливая накал идиотии, породив Айн Рэнд, ставшую позором для всех людей мира, ибо своим именем она девальвировала само имя человека и имя философа. Речь здесь, однако, пойдет не про Рэнд, но про людей с ней смежных, всю проклятую клику которых с удовольствием приняли в Америке в тот грозный для нее час, когда была она выставлена Европой за полной невозможностью оную терпеть. Это я, конечно, говорю про австрийскую экономическую школу, которая ныне уже не имеет ничего общего ни с Австрией, ни с экономикой, но лишь с ультраправой публичной политикой в духе «Tea movement». Об австрийской школе мы еще свое слово скажем в соответствующем разделе, а пока же я речь наша подступает прямо к той теме, о которой говорилось в начале статьи: рождение последних идей о «минимальном государстве». В то время как ранние «австрийские» экономисты, куда в первую очередь мы должны снести Бем-Баверка, хотя бы формально блюли чистоту научной мысли, то их последователи соблюдали это самое правило все менее жестким образом. Под влиянием практической работы Рейгана, Тетчер и Пиночета, в списке коих лишь последний заслуживает даже и не особого внимания, но особого рода уважения как государственный деятель, вышеназванные идеи проникли в массы жильцов Запада, ввергая его в хаос и ужас на многие годы вперед. В умах людей малограмотных, а нередко и относительно образованных, стали складываться совершенно безумного рода концепции, которые захватили определенную долю населения там, а затем начали распространяться по всему миру; среди этих самых концепций на первом месте оказывается т.н. «либертарианство». Последнее учение представляет собой совершенно глупую, пристрастную и не имеющую ни философского, ни экономического теоретического базиса политическую программу, единственная задача которой – баламутить воду в пруду публичной политики. Аморфные либертарианские организации в Штатах состоят из людей, которые совершенно не в силах даже понять сути того учения, что они отстаивать и защищать вздумали, являясь лишь действительной мишурой для игрищ их тщеславных и жадных лидеров. Вот, что пишет по данному вопросу Том Хартманн: «Weirdly, that same poll found that 41% of libertarians believe that the government should regulate business, 46% of libertarians believe that corporations make too much profit, and 38% of libertarians believe that government aid to the poor is a good thing. Similarly, of the so-called libertarians polled, 42% believe that police should be able to stop and search people who „look like criminals,“ and 26% think “homosexuality should be discouraged.”». Вот перевод этого отрывка: «42% либертарианцев считают, что государство должно регулировать бизнес, 46% либертарианцев считают, что корпорации имеют слишком много дохода, и 38% либертарианцев что когда государство помогает бедным, то это хорошо. 42% считают, что полиция может останавливать людей „выглядящих криминально“, и 26% считают, что „гомосексуализм должен быть постыдным“.». Либертарианство возникло во второй половине XX века, будучи тесно связанным с таким деятелем, как Мюррей Ротбард, равно как и «анархо-капитализм», притом нашлось большое число невежд, желающих «поддержать перспективное начинание». Крупные капиталистические объединения не особенно проявляли интерес к подобного рода движению, поскольку отказ от государственного регулирования для низ не нес выгоды, несмотря на заявления эпигонов Ротбарда. Связано это было в первую очередь с тем, что американское государство не только не представляет перед крупными компаниями опасности, но скорее является их главнейшим союзником, помогающим в решении конфликтов междоусобных и с населением страны, скажем так, не совсем рыночными методами. Государственная поддержка очень нужна капиталистам, ибо с ней они обретают возможность влиять на вещи куда более полно, нежели без нее: они могут, к примеру, используя помощь солдат правительства, открыть себе рынки другой страны, разогнать демонстрацию или устроить войну, искусственно создавая себе возможность сбыта товара. Крупный капиталист, нашедший себе союзников в лице агентов правительства, получает огромное преимущество перед иными капиталистами, такой поддержки лишенных; в конце концов, владение армейскими и полицейскими силами укрепляют экономическое положение всякого, ибо штыки и пушки есть высшая мера надежности в вопросах финансов и важнейший во всяком споре аргумент между деловыми людьми. Всякий, кто отвергает государство, отбрасывает прочь и культуру, и порядок, и всякое доброе начинание, ибо без оного все лучшее, что только находится в человеке, гибнет в огне неутихающих «войн всех со всеми», приводящих к становлению нового строя, нередко многим более жестокосердного, нежели предшествующий, и при котором уже и о существовании продуктового рынка можно лишь мечтать, не то что о бытие рынка свободного. Определим, однако, самую суть свободного существования человека, пытаясь выяснить то, что действительно под этим следует понимать, а также то, что разумеют под тем невежественные либертарианцы, не понимающие самую сиречь сего божественного явления. Свободная воля во все времена была важной проблемой для общего философического гнозиса с точки зрения определения того, существует ли она как таковая, а также того, что она представляет собой в случае удовлетворительного ответа на данный вопрос. Наибольшее распространение, как и следует полагать, получило конформистское движение «презренной партии середины» – классический компатибилизм, особенно хорошо сочетающийся с буржуазным законодательством, а потому имеющий всегда хорошее подкрепление своей власти над невежественными умами. Суть данного эклектического учения состоит в соединении свободы воли с детерминизмом, что в высшей степени противно логическому ходу мысли и угрожает научному духу, попирая его своим иррационализмом и глупостью, совмещенной с самого мерзкого вида поповщиной: «Что „научная поповщина“ идеалистической философии есть простое преддверие прямой поповщины, в этом для И. Дицгена не было и тени сомнения. „Научная поповщина, – писал он, – стремится пособить религиозной поповщине“. „В особенности область теории познания, непонимание человеческого духа, является такой вшивой ямой“, в которую „кладет яйца“ и та и другая поповщина. „Дипломированные лакеи с речами об „идеальных благах“, отупляющие народ при помощи вымученного идеализма – вот что такое профессора философии для И. Дицгена.“ („Материализм и эмпириокритицизм“. В. И. Ленин). Самое главное и ужасающее тут состоит в том, что мы здесь сталкиваемся с поповщиной утонченной, интеллигентной, что делает ее, однако, во многие разы мерзее, нежели если бы она была дикой, тупоумной и некультурной, ибо именно утонченность и делает ей возможность пролазить в мозги наших коллег и сограждан, уничтожая их и топя в своей мерзости незаметно. Следует нам определить некоторые аргументы данного рода реакционеров, а также понять истоки их особого неразумения и установить причины его для дальнейшей борьбы. Первейшим защитником указанного нами заблуждения был Дэвид Юм – человек, воплотивший в себе образ карикатурного философа-идеалиста, который, будучи облаченным в дорогие одежды, восседает в салоне, окруженный малограмотными буржуа, рассуждая о „моральной философии“ и пытаясь „научить всех добрым нравам“, не забывая при этом уминать очередного молочного поросенка – образ, мало претерпевший изменений со времен появления салонов и буржуазии, что там обитает, нуждаясь в интеллектуальных клоунах, обязанных оную развлекать. Юм был поклонником физиократов и Смита, а это еще более укажет нам его буржуазную и дурную природу, природу, отжившую свое, а потому ныне ставшую сутью реакционности, что выяснить из слов его уже будет возможно: „Несомненно, что большинство людей всегда предпочтет легкую и ясную философию точной, но малодоступной и многие будут рекомендовать первую, считая ее не только более приятной, но и более полезной, чем вторая. [Правильно, люди невежественные и малограмотные так и полагают. – здесь и далее примечания Марата Нигматулина.] Она в большей мере соприкасается с обыденной жизнью, воспитывает сердце и чувства, а касаясь принципов, влияющих на действия людей, исправляет поведение последних и приближает их к тому идеалу совершенства, который описывается ею. Напротив, малодоступная философия, будучи продуктом такого типа ума, который вникать в деловую и активную жизнь, теряя свой престиж, как только философ выходит из тени на свет, и принципам ее нелегко сохранить какое бы то ни было влияние на наше поведение и образ действий. Наши чувства, волнения наших страстей, сила наших аффектов – все это сокрушает ее выводы и превращает глубокого философа в заурядного человека. [Сие есть ложь, так действительно точная и глубокая философия, а не пустотелая болтовня, на нее похожая со взгляда неспециалиста, способна всякое действо в себя уложить.] Надо также сознаться, что самую прочную и в то же время самую справедливую славу приобрела именно легкая философия, тогда как отвлеченные мыслители, кажется, пользовались до сих пор лишь мимолетной известностью, основанной на капризе или невежестве современников, но не могли сохранить свою славу перед лицом более беспристрастного потомства. [Вероятно, Юм считает, будто эстетический вкус и понимание мира самой невежественной частью общества есть эталон для всех остальных его частей.] Глубокому философу легко допустить ошибку в своих утонченных рассуждениях, но одна ошибка необходимо порождает другую, по мере того как он выводит следствия, не отступая ни перед какими выводами, даже необычными и противоречащими общераспространенному мнению. [Но данный аргумент может быть аргументом против утонченной философии в столь же малой степени, как констатация того, что, изучая высшие сферы математики, легко допустить в них ошибку, может быть аргументом против изучения математики вовсе.] Если же философ, задающийся целью всего лишь представить здравый смысл человечества в более ярких и привлекательных красках, и сделает ошибку, он не пойдет дальше, но, снова обратившись к здравому смыслу и естественным воззрениям нашего ума, вернется на правильный путь и оградит себя от опасных заблуждений. [Но коли философ есть лишь представитель „здравого смысла“, он превращается в самого обычного проповедника учения, не развивающего его, а лишь пересказывающего с украшательствами риторики, а это есть путь стагнации – путь в никуда.] Слава Цицерона процветает и теперь, тогда как слава Аристотеля совершенно угасла. [Это более, нежели просто сомнительное выражение.] <…> Эддисона, быть может, будут читать с удовольствием, когда Локк будет уже совершенно забыт. [Локка читатель мой, вероятно, знает, как и я, а вот о первом из двух мыслителей даже и я имею крайне смутное представление.] Обычный тип философа, как правило, не пользуется большим расположением в свете, ибо предполагается, что такой философ не может ни приносить пользу обществу, ни способствовать его развлечению: ведь он живет, стараясь быть подальше от людей, проникнутый принципами и идеями, столь же далекими от обычных представлений. <…> Туманные размышления и глубокие исследования я запрещаю и строго накажу за них…“. Судя как по всему тексту вместе, так и по последнему высказыванию в частности, мы смело можем сказать, что Юм предлагает нам не философию, а самую дикую поповщину, намеренно запрещая и предостерегая нас от кропотливого изучения, ограничиваясь поверхностным максимально, ибо при глубоком исследовании мы способны и до крамолы дойти. Таким образом, поповщина Юма, противная логике, и в вопросе о свободе воли быть нам не может картою, а значит это лишь то, что мы вынуждены прибраться к тому выводу, о котором я уже давно хочу вам объявить; тут я уж хочу перейти к изучению того мыслителя, который общепринятую свободу и сотворил в нашем понимании и национальном законе, и речь, разумеется, пойдет логично, о человеке из Калининграда. „Воля никогда не определяется непосредственно объектом и представление о ней, а есть способность делать для себя правило разума побудительной причиной поступка.“ – пишет он в одном из своих сочинений. В иной части той же книги он продолжает: „Это не что иное, как личность, т.е. свобода и независимость от механизма всей природы, рассматриваемая вместе с тем как способность существа, которое подчинено особым, а именно данным собственным разумом, чистым практическим законам; следовательно, лицо как принадлежащее чувственно воспринимаемому миру подчинено собственной личности, поскольку оно принадлежит и к интеллигибельному миру; поэтому не следует удивляться, если человек как принадлежащий к обоим мирам должен смотреть на собственное существо по отношению к своему второму и высшему назначению только с почтением, а на законы его – с величайшим почтением.“. И, наконец: „свободу можно определить и как независимость воли от всякого другого закона, за исключением морального.“. Иными словами, человек, поступающий сообразно совести своей велениям, не подвергаясь при этом ущемлениям со стороны законов государства, является свободным в правовом и обыденном познании. Мы, разумеется, готовы быть согласными и с такой трактовкой позиции, но, будучи материалистами-диалектиками, нам надо прийти к особому рассуждению: если свобода человека состоит в реализации желаний своей натуры и совести ее, то чем большими материальными средствами он обладает, тем большая свобода появляется у него. Действительно, ведь богач способен реализовать очень многие из своих желаний, имея возможность всегда жить „по совести“ в своем понимании, соблюдая все ритуалы, в то время как бедный гражданин, находясь в состоянии крайней нужды, ради одного выживания вынужден нередко попирать свои нравственные правила, не думая уж о реализации даже самых своих мизерных желаний, из чего мы можем заключить, что чем богаче человек, тем более он свободен, а чем он беднее, тем он более находится в зависимости от обстоятельств. Но тут мы оказываемся в еще более неприятном состоянии, ведь мы понимаем и видим на примерах, что богатый, используя силу своего положения, может поставить бедного своего согражданина в крайне невыгодное и прямо унизительное положение: богач, имея достаточное денежное владение, может забрать у бедного и все его скудное состояние, и жену с детьми, направив последних на неблагородное предприятие, а первое растратив в свою пользу. Свершиться такое, вопреки мнениям многих наших и иноземных либералов, верящих в „божественную силу закона“, может в любом государстве классовом, хоть в диком довольно, хоть во вполне цивилизованном, но если для творения подобного дела в бедных странах хватит капитала и небольшого, то для такого же мероприятия в богатой стране надо иметь куда больше средств. Во всяком случае богач, имея достаточно средств, может откупиться от стражей закона, которые, слыша звон золотых монет, забывают про долг перед народом и Родиной; просто в богатых государствах откупаются большими суммами, чем в бедных, но сути процесса это не меняет, ибо связано только с ценами. Единственный путь устранения подобного „небратского состояния“ – это погубление самой его причины, т.е. классового общества, где наличествует и богатство, и бедность, а это есть путь революции и построения социалистического общества. Только тогда, когда государство перестанет служить правящим сословиям, а станет всецело достоянием трудящихся, оно сможет обеспечить полнейшую свободу каждому своему члену из общества, но до тех пор мы можем лишь довольствоваться скудными средствами, выделяемыми на поддержку бедных жителей с его стороны, хотя уже и это есть очень большой шаг, налагать хулу на который за его половинчатость не стоит, ибо лучше уж малое, чем ничего. Собственно, даже просто обеспечивая охранные и правовые мероприятия, государство уже умножает нашу свободу, ибо если при классовом государстве ее могут попирать буржуазные сословия, в его отсутствие это может желать всякий человек, физическая сила которого больше вашей. Таким образом мы приходим к выводу о том, что государство, чем более оно делается сильным, усмиряя при этом желание богатых в их стяжательстве по отношению к бедным, усиливая давление на первых и пытаясь помочь последним, тем больше в том государстве будет свободы у большинства его жителей. Напротив, позволяя вести богачам дела как им вздумается, мы фактически позволяем немногим всех остальных поставить в ужасающее положение и эксплуатировать по своему разумению, а потому „свобода рынка“ – это есть позволение грабежа народа, легализация отъема денег. Единственный способ всех в одинаковой степени наделить свободой состоит в полном уничтожении класса эксплуататоров и богатеев, полнейшей национализации средств производства и сотворении государства, опекающего и защищающего свой народ. Малообразованный человек со множеством зависимостей и суеверий в голове, едва влачащийся в жалких лохмотьях на работу, ибо он недоедает и не имеет средств к покупке одеяния нового, свободным быть никак не может, ибо полностью зависим от работодателя, который может решить вопрос о его существовании обычным увольнением, в то время как человек образованный и здоровый, наделенный нужными к существованию и развитию средствами, как раз и есть человек свободный, даже если он и работает на государственном предприятии, пользуясь дарами его деятельности. Мы приходим, таким образом, к выводу о том, что чем более государственного вмешательства и помощи имеют народные массы, чем более попирается им власть богатых, тем больше свободы в таком государстве, тем полнее она там выражена и лучше распределена. Вот поэтому я их хочу воскликнуть во весь голос: государство – моя свобода!








