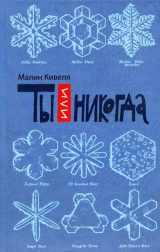
Текст книги "Ты или никогда"
Автор книги: Малин Кивеля
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
6
Трамвай как парник, пассажиры как саженцы, покрытые каплями влаги. Вечер. Я выхожу из трамвая и оказываюсь на дне ледяного озера, покупаю рыбу в «Деликатесе», балтийскую салаку, напичканную диоксинами и прочими ядами, которые, по большей части, приходят с востока, но нельзя отрицать и вину нашей индустрии, нашего сельского хозяйства и туалетов. Затем я покупаю хрен, лимон, миндальную сдобу и пачку «юбилейного» кофе. Выхожу сквозь поток горячего воздуха у стеклянных дверей и жду обратного трамвая в бесконечном тумане. Прохожие снова без резиновых сапог (что приведет к волне гриппа – семнадцать стариков умрут, один случай менингита и, по меньшей мере, два внутриутробных отклонения, пусть и говорят, что холод не влияет на болезни, а грипп не имеет отношения к отклонениям в развитии плода). Ноги, упакованные в резину с шерстяной подкладкой, потеют. За все приходится платить. Рыба, хрен, лимон, миндальная сдоба и кофе лежат, плотно упакованные, в сумке на колесиках из водонепроницаемого материала.
А трамваи едут.
Барабанная дробь капель. Дождь.
И еще что-то.
Что-то другое.
Впереди, за оранжевым.
Музыка.
Плотная пелена цветных капель отделяется от прочих дождевых слоев.
Музыка затихла.
Кто-то приближается.
Я смотрю в другую сторону, прячусь от дождя под козырьком.
Вижу, как мой трамвай поворачивает на улицу Александерсгатан.
Он далеко, между нами ливень.
У него нет дождевика, и вообще верхней одежды на нем нет, только шапка, а с носа капает вода, и голос громкий, иностранный, и если бы рядом был кто-то еще, кроме него и меня, то этот кто-то, несомненно, уставился бы на него.
– Постойте! – говорит он по-русски. – Wait.
Вскоре снег и вправду совсем растает.
Он стоит, запыхавшись.
На плече аккордеон.
Без футляра.
Как будто он вдруг сорвался с места, чтобы кого-то догнать. Кого-то. Кто не должен исчезнуть.
Среди дождя.
Он смотрит прямо в мои очки, сквозь капли дождя. Он открывает рот, и я вижу, что один передний зуб темнее другого. Горловина глубокая, блуза пропиталась холодной влагой извне, но мурашек не видно.
Такой теплой зимы еще не было.
Подъезжает трамвай. Останавливается возле меня, двери открываются.
Я снимаю очки, утираю их рукавом и наклоняюсь за сумкой.
Рыба, хрен, лимон.
Миндальная сдоба и «юбилейный» кофе.
Все это у меня в руках, и я собираюсь забраться в трамвай.
– Wait,[17]17
Подождите (англ.).
[Закрыть] – говорит он по-английски.
Смеется.
– You liked the show?[18]18
Вам понравилось представление? (искаж. англ.)
[Закрыть]
Трамвай трогается со скрипом, с пустыми руками.
Ремень аккордеона намок и потемнел. Дождь льет на инструмент – может быть, и внутрь.
Слышно лишь рокот капель, повсюду капает.
Он приподнимает мокрую шапку, как шляпу. Будто представляясь мне. Вода капает ему в глаза. Он моргает и смеется.
Я снова протираю очки, рукавицей.
С каждым вдохом я вдыхаю водяной пар.
Воздух большой.
Машин много.
– Sleep well,[19]19
Спокойной ночи (англ.).
[Закрыть] – говорит он. Кивает, берет аккордеон и уходит.
7
Если бы ко мне кто-нибудь пришел, если бы кто-нибудь уселся на мой диван, пришел бы в гости, с визитом, то я накрыла бы на стол, но не стала бы доставать поднос. Просто принесла бы чашки – не лучшие с брусничками, но и не те, горчичного цвета, – пачку печенья из ближайшего магазина, недорогого, овсяного. И еще я включила бы радио, и из него полились бы звуки – не космические сигналы, а музыка, которая остается не более чем фоном, но все же как-то окрашивает мгновение. И для нас так и осталось бы загадкой, в музыке ли было дело тем чудесным вечером, музыке ли благодаря диван был таким теплым. И пеларгонии на моем окне – не какая-то там пеларгония печальная – Pelargonium triste, – а красная – Pelargonium inquinans, славно ухоженная. И занавески. И плетеные половики.
Иногда к Софии приходят гости, много человек сразу, молодые, они звонят в мою дверь, ошибаясь, у них красные щеки и полиэтиленовые пакеты. Они многократно извиняются, краснеют еще больше, быстро бегут вверх по лестнице к нужной квартире. У Софии они едят, сквозь дверные щели проникает аромат пряного супа и вина, звяканье посуды, и музыка гремит всю ночь, но мне все равно. Я лежу на своем чистом постельном белье и пожимаю плечами, чувствуя запахи, проникающие в щели на полу, запах вина все сильнее с приближением утра. К концу визита оставшиеся гости оккупируют лестничную площадку, иногда двор, раскачиваются на перекладине для ковров и целуются взасос, порой по полчаса кряду. Они шлепаются на края песочницы, ложатся в песок. Песок забивается под майки. Кто-то в подъезде, недалеко от моей двери, рыдает над ужасными, огромными вопросами. Утро затихает не сразу. Я уже пью первый кофейник, а оттуда еще доносятся всхлипывания, запахи, в конце концов они проникли и в мою квартиру, через дверь, и я не гоню их, не проветриваю.
За всю свою жизнь Элвису не довелось остаться наедине с собой дольше, чем на сутки. Однажды, ближе к концу, он полетел к президенту Никсону, чтобы говорить с ним о проблеме наркотиков в стране. Элвис хотел получить специальный значок Наркоконтроля, чтобы активно бороться с употреблением наркотиков среди молодежи. Глаза Элвиса на снимке блестят от мощной дозы зелья, Никсон положил руку ему на плечо. Все друзья Элвиса беспокоятся о нем, звонят друг другу, говорят только об Элвисе. Он никогда не был одинок. Мы не знаем, было ли это ему под силу. Он жил во дворце со своими придворными: друзьями, кузенами и кузинами, подчиненными. А когда Элвис отправился в Германию, чтобы пройти военную службу, его мама умерла от горя. Правда.
– Два года, – подумала она, и тяжкие веки опустились навсегда.
Я не вынесу.
В день похорон маменькин сынок, спотыкающийся, шатающийся, жизнь прошла, прошла: «После смерти Глэйдис Элвис стал отдавать отцу всю ласку, которая прежде доставалась матери. О папа… седой папочка… такой уж он у меня…»
В армии Элвис служил прилежно, справлялся с самыми дальними походами и нес самый тяжелый рюкзак, был одним из многих, был как все, он так хотел. Вечером он не шел спать, а играл на пианино и пел, и никому не дозволялось покидать комнату раньше времени. В Грэйсленде и в голливудской вилле он каждую ночь устраивал веселье: сто девушек (самые юные, стройные, послушные) и восемь юношей. Все они ночь напролет смотрели на Элвиса, который смотрел телевизор. Иногда он комментировал то, что видел. Все смеялись.
Позже, когда смерть была уже близко, он тихо лежал в своей широкой постели, во мраке склепа, накачанный веществами, делающими жизнь сносной, а время шло. По вечерам все сидели на диванах, застыв в ожидании: в каком настроении проснется Элвис, как себя вести?
И все же – письмо.
И все же письмо, в номере отеля, в каком-то большом городе, бесконечное турне, три месяца до смерти, в предрассветный час, идет дождь, барабанит по оконным гостиничным стеклам, а буквы детские, нетвердые.
Иногда мне так одиноко. Ночь моя безмолвна. Если бы я только мог спать. Я рад, что все ушли. Помоги мне, Господи.
Если бы кто-нибудь ко мне пришел, если бы кто-нибудь сел на мой диван. Я достала бы печенье, повернула ручку радио. Но как описать музыку? Кто понимает в музыке, тот может сказать «до», потом «ля» и все это в «анданте». Если понимаешь в нотах еще больше, можно написать целую симфонию, чтобы объяснить все звуки, какие хочешь, другим посвященным, а можно просто сидеть и слышать ноту за нотой в каждой капле, упавшей на землю.
Я могу сказать, что музыка громкая. Или быстрая, или медленная и тихая. Но это описание не точно: тот, кто слушает, тот, кто слушал бы, понял бы мое описание по-своему. Настоящее общение так и не состоялось бы.
8
Непогода не утихает, а наоборот. Сначала три ветреных дня. Младенческие одежки мечутся на ветру, прищепки не выдерживают, пластмасса трескается, спирали ломаются, кое-какая одежда падает на землю, в черные лужи. Потом возвращаются холода, и все замерзает. Одежда в лужах. Иней на окнах.
Но холода здесь ненадолго. Всего на несколько дней, чтобы можно было сказать, что все как обычно, все как раньше. Просто надо забыть, что это не закономерный, правильный мороз, а результат явления под названием global dimming – «глобальное потемнение»: выбросы в атмосферу, например, от реактивных самолетов, которые мешают проникновению солнечных лучей в атмосферу и временно смягчают парниковый эффект.
До речного порога шесть километров, до кафе, расположенного в красном домике с щелястыми окнами, инеем, розами, пончиками с яблочным джемом и горьким кофе, меж больших дорог, ведущих в прочь отсюда, в разные города, в Санкт-Петербург. Бурый порог реки шкворчит, переходите по мосту на свой страх и риск. Мостик висячий, остался после завода или электростанции, лед блестит, перила – тонкие, блестящие нити. Я стою у моста и смотрю на желтую, с напором падающую воду, уносящую льдины, которые разбиваются о камни, затем тают, постепенно. Несколько лет назад из-за обильных осадков талые воды были так объемны, что канализационные стоки переполнились, и отходы потекли в эту речку. Ничего нельзя было сделать, пришлось ждать, когда нечистоты протекут дальше и постепенно смешаются с водами мирового океана. Не стоит беспокоиться, ничего страшного. На других, больших мостах стоят рыбаки в оранжевой одежде. Я ни разу не видела их улов, целыми днями они неподвижно стоят и в воду не падают, в ледяную.
Если перейти дорогу, уже виден домик. Сворачиваешь налево. Маленькая дорожка. Как ни крути головой, многоэтажек не видно, хоть здесь и перспективный пригород. В этом ракурсе строительная техника и подъемные краны спрятаны за высокими деревьями. Дорожка не расчищена. Редкие следы в снегу, от ног и собачьих лап.
На пригорке, в тупике, самый высокий дом, старинная вилла, украшенная орнаментом, во дворе большие машины, черные «мерседесы», сада нет. Кто-то в окне, мельком, чей-то зоркий взгляд.
Исчезает за черными шторами.
Каменный дом с трещинами, пятна облупившейся краски, сетка поверх изоляционного материала – отсюда ее хорошо видно. Желтая стекловата, намокшая, осевшая. Вдоль стены – рваные провода, ведущие к встрепанной антенне. Во дворе свалены и позабыты лодки, прицепы, доски. Старый холодильник. Велосипед.
На окне занавески, желтые в цветочек.
Дальше другие дома.
Красные домики с белым кантом вдоль ручья, вечно дымящие трубы. Во дворах дрова горкой, тщательно укрытые от непогоды.
Яблони с торчащими серыми ветками.
В домиках старички и старушки, сутулые, с вязанием.
Невидимые.
На тесных чердаках пыльные люльки, на стенах и комодах фотографии, шапочки выпускников.
Дети.
Я сажусь на обратный автобус. Он полон, как и полагается автобусу в этом городе, в это время суток. Я думаю о яблочных пончиках, о детских велосипедах. Есть свободное сидение, на двоих. Через несколько остановок кто-то садится рядом со мной. Это дама в шубе. Такая большая, что шуба меня задевает. Дама не думает потесниться. Смотрит перед собой. Не пересаживается. Сидит на месте. Я выхожу первой.
9
Во сне ко мне приходит свет, он приближается, двигаясь от песочницы, подходит так близко, что я вижу лицо. Двигается, как шаровая молния, прямо на меня, и раз за разом что-то спрашивает, но я не слышу. Я хочу понять и переспрашиваю, но в ответ раздается только шум, и свет теряет терпение, исчезает, я не знаю куда, и по пробуждении вопросов больше нет, хватает дыхания.
Сверху доносится звук шажков, лапок. Цокот коготков.
За окном черно.
Двор пуст.
Лужайка голая, снежного покрова нет. Качели болтаются, задевая землю. На клумбе пожухлый горошек и чертополох, коричневые. Мертвые.
Мужчина в майке на верхнем этаже в подъезде «Д» подходит к холодильнику и пьет молоко прямо из пакета. На третьем этаже в подъезде «Б» длинноногие мальчики прыгают на кровати, я вижу тени на занавесках с Человеком-Пауком.
Остальные спят или бодрствуют во тьме. Все окна затемнены, задрапированы. Сверху не доносятся звуки. София теперь спит одна, собирается с силами. Тяжкий сон, редкое дыхание, еле слышное.
Во вчерашнем выпуске газеты полиция собирает сведения о десятилетней девочке, которая ходила по улицам городка Тавастехус с годовалым ребенком в коляске в ночь на воскресенье и искала родителей. Девочка спрашивала, не видел ли их кто-нибудь в барах и ресторанах, и в полицию позвонил охранник одного из заведений. Однако после девочку с коляской не видели. С ними также был светлошерстный лабрадор.
Я забираюсь на лесенку у стеллажа, касаюсь ее.
Крышка на месте.
Сидит плотно.
Как надо.
Ничего не выпускает, только не она.
«Принимать ванну с 22 до 6 часов запрещено» – завет жилищного кооператива в рамке на стене подъезда.
Но я действую беззвучно.
Не плещусь.
Не читаю.
Ночь туманна. Мыло скоро закончится. Остался тощий обмылок. Я смотрю, как он растворяется. От горячей воды заледеневшие на сквозняке ступни, которые я окунаю в первую очередь, немеют.
Я купаюсь, пока вода не становится мутной и холодной, а кончики пальцев сморщиваются до неузнаваемости.
За окном ванной что-то движется в ночи. Это София. Она склонилась над велосипедом, возится с замком. У нее что-то с руками. Этой ночью у нее бледная кожа и спутавшиеся волосы. Пальцы скользят по обледеневшему металлу. Она не улыбается, бескровные губы плотно сжаты. Только плащ пылает красным на фоне грязи, на фоне бледности. София тем временем поднимается, потом снова сгибается вдвое, держится за живот. Перезрелый апельсин с тугой, готовой лопнуть коркой.
Мой живот под водой плоский и мягкий. Кое-где: морщинистый.
Я решаю надеть свитер, выйти и предложить помощь. Вызвать такси (из телефонной будки на Чинаборгсгатан). Или присмотреть за Свинкой, кто же будет смотреть за Свинкой. Я встаю, вытаскиваю пробку. Вода воронкой утекает в сточное отверстие, оставляя после себя липкую серую полоску отмерших клеток кожи. Я вытираюсь, одеваюсь, выхожу в прихожую, надеваю свитер и штаны. Но в такую погоду нужны и рейтузы, и шапка, и рукавицы, и резиновые сапоги. И еще что-нибудь непродуваемое. Приходится снять штаны и натянуть рейтузы, а затем снова надеть штаны. Под свитер – еще одну майку. Наконец, я выбираюсь во двор, но София уже отперла замок, она радостно восклицает, обнажив крупные зубы, и вскакивает на седло. Большие, белые зубы. София дышит так, что грудная клетка хрустит, раздаваясь в ширину, она крутит педали и несется по заледенелому двору, уносится силой дыхания, в тумане, без шлема, волосы развеваются по сторонам, сильные ноги.
В зеркале я похожа на английскую лошадницу, щеки, обветренные годами лисьей охоты. Только губы бесцветны на лице. Я закрываю металлические створки лифта, сажусь на деревянную скамейку. Лифт старый, запинающийся. Я еду вверх, как можно выше.
На перилах балкончика, где проветривают ковры, висит один забытый.
Если вытянуться вперед, можно дотронуться до ветвей рябины.
Я тянусь через перила до тех пор, пока не становится видно небо, и мне кажется, что каждая звезда – отдельно, и голова кружится у самого края, и ночь проходит.
В том саду, который я однажды видела, лужайка была неровная и мягкая. Нигде не было табличек, запрещающих ходить по траве. Под яблонями, везде, были большие, несимметричные клумбы разной высоты, а с другой стороны цвели почти уже вымершие многолетники: золотые шары, телекия.
Однако сорняки были тщательно выполоты – а оставленные были бесконечно красивы.
Однажды я нашла фотографию сада, похожего на тот. Это был не он, но сходство было сильным. Фотографию опубликовали в глянцевом журнале, который я обнаружила в зале ожидания, этот английский сад окружал английский замок, давным-давно. Черно-белый снимок немного пожелтел. На столе, на переднем плане, под старинным дубом стояла сине-белая чашка, пар поднимался к небу, превращаясь в облака. Рядом с дубом виднелись таблички, указывающие дорогу к другим частям сада: Хлопковый сад, Лаймовый променад, Орешница. Башня, the Tower, кирпичная, на одного человека. И запах, окутывающий сад, окутывающий все, буйный и тонкий. Индийский. Это был не тот сад, не тот, что я однажды видела, а снимок другого, похожего. Фотографии, все без исключения, изображают действительность более плоской. Трехмерность, делающая цвета глубокими, составляющая эти цвета, пропадает. В настоящем саду цвета шокировали своей совместимостью, они подходили друг другу именно потому, что не подходили, усиливали друг друга: синий, лиловый и кричаще-розовый, и еще цвета, которым не найдешь названий.
На веревке все еще висят ползунки, чепчики. Одеяльце с кроликами. В застывших лужах под веревкой – то, что сдуло ветром, вмерзшее. Я снимаю вещи с веревки, одну за другой. Выковыриваю изо льда примерзшие. Приношу домой и развешиваю. Высушиваю на батареях, спинках стульев. Они висят. Ползунки, блузы. И самое крошечное: носочки. В шкатулке с прошлым, в самом низу. Я не смотрю, я даже не тянусь за ней.
А в середине сада, в ржаво-коричневой башне с видом на окрестности тепло, потрескивает огонь. Осень, листья красные, и кто-то сидит в том кресле-качалке – мужчина или женщина, немолодая, уже немолодая, хорошо видно только черный плащ и чайную чашку.
10
Они скрываются где-то среди скромной растительности, большие, уникальные, первые в нашей стране – во многих отношениях – три новые рыбы, цихлиды (Astronotus), призванные плавать в круглом бассейне с фонтаном у кафе на четвертом этаже, по кругу, по кругу, развлекая экзотикой спешащих за покупками посетителей, – так написано в газете. Сегодня цихлидам дали имена, их назвали в честь трех героев комиксов – как остроумно, говорят вокруг бассейна, невероятно остроумно, а я не знаю, о каких комиксах идет речь. Девочка, придумавшая имена, получила поездку в Бразилию, в родные края этих рыб, – ее поставили на скамеечку и вручили медаль в форме рыбы. Еще ей досталось мороженое, или два, и поцелуй мамочки, которая за весь день выпила всего три коктейля – один с утра, чтобы проснуться, и два в самолете из Улеоборга. Четырнадцать часов до Рио-де-Жанейро, над морем, под сиденьем спасательные жилеты. А океан под самолетом совсем глубокий и бирюзовый, шесть тысяч метров.
Возле круглого розового бассейна с ионической колонной в центре стою я. Вокруг меня восемьдесят два ребенка, их законные взрослые представители сидят рядом в кафе и читают газеты, убивают время – жаль, курить запрещено. Дети должны насмотреться на цихлид, потом можно будет говорить о рыбах в машине. Впрочем, в такой обстановке увидеть их хотя бы одним глазком среди растительности – уже достаточно. Мама девочки-победительницы тоже сидит за столиком, пьет кофе, выпила уже три чашки, чувствует выступающий пот, пытается не думать о том, что они будут делать потом. Ночь в отеле, а потом? Снова аэропорт, бары, четырнадцать часов. Дети лижут мороженое, большое и мягкое, дети склоняются над бассейном, но видят только скудную растительность и собственные подрагивающие отражения, мороженое капает в бассейн, перепачканные пальцы тычут в воду. Растительность бедна, но трех цихлид скрывает без труда, трех павлиньих цихлид – это самый крупный или, по крайней мере, самый первый вид – трех до смерти перепуганных цихлид, день напролет.
Сегодня оба каштанщика в красных шапках, над палаткой струятся дымовые сигналы. У входа выстроилась очередь, такого еще не было, а рядом с палаткой что-то блестит. Это скульптура, золотая. В золоте отражаются лучи солнца. Золотая скульптура стоит на ящике – это футляр, с розами. И перед ней – шляпа. Я пытаюсь разглядеть, не он ли стоит там, замаскированный. Скрытый золотом.
Может быть, он.
Но эта фигура меньше, изящнее. Может быть, это она. Женщина в платье с блестками. Кто-то подходит и кладет в шляпу купюру. Фигура совершает прерывистое движение, ловко. Единственное движение всем телом, как от электрического разряда, и снова замирает. Совсем застывает. Даже грудная клетка не расширяется дыханием.
Только блеск золота.
Отражается в окнах, во льду.
Снега больше нет.
Я могла бы положить денег в шляпу. Но я стою слишком далеко. Да и деньги могли закончиться, кошелек на самом дне сумки. Вместо этого я занимаю место в очереди. Она длинная. Проходит не одна минута, прежде чем палатка снова становится видна мне. И те, кто внутри. Трое мужчин. Те же, что и прежде: здоровяк и маленький в изъеденных молью рубашках, а за ними третий. С другой стороны палатки кто-то кладет деньги в шляпу золотой женщины. Она исполняет целый танец: отрывисто тянется вверх, как кукла с пружинами вместо суставов, – может быть, к небу, словно молясь, затем склоняется, замирает, у самой земли. Смахивает нарисованную слезу рукой – кукольной, фарфорово-белой.
Он перемешивает каштаны. Протягивает мне кулек, держа его рукавицей-прихваткой. Аккордеон лежит в углу палатки, без футляра. «Пожалуйста», – говорит он, быстро, не глядя на меня. Я пытаюсь нащупать кошелек. Найти монету нужного достоинства не так-то просто. Проходит не одна секунда, прежде чем он поднимает на меня глаза.
– Привет, – говорит он по-русски и смотрит. И улыбается. – Hello.
Я киваю.
– We are busy today. Special Russian day.[20]20
Сегодня у нас много работы. Особый русский день (англ.).
[Закрыть]
Он кивает в сторону гирлянд, которыми украшен вход в палатку. Они тоже красные. Он закатывает глаза.
– Today I play no Elvis, only traditional Russian songs. Or bake the chestnuts.[21]21
Сегодня я не играю Элвиса. Только русские народные песни. Или жарю каштаны (англ.).
[Закрыть]
Он вздыхает или пожимает плечами. И все-таки улыбается.
За моей спиной нетерпеливо топчется какая-то женщина.
Я беру кулек, аккуратно заворачиваю верх. Кладу в сумку.
Поднимаю голову и вижу, что его взгляд снова обращен к каштанам на печке.
Я иду к остановке трамвая.
Смотрю на толпу, как будто снова Рождество. Но это Русский день. День Цихлид. Красные гирлянды развеваются на ветру.
Трамвай останавливается прямо передо мной, я оборачиваюсь, чтобы увидеть палатку, мельком. Он стоит у входа, курит, держа сигарету большим и средним пальцами, на второй руке все еще рукавица-прихватка. Увидев меня, он поднимает руку в рукавице, машет, крупные движения, он улыбается.








