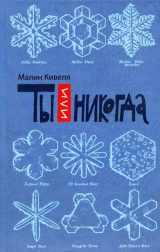
Текст книги "Ты или никогда"
Автор книги: Малин Кивеля
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
7
Так когда же все изменится и что должно измениться?
Единственное, что изменилось в облике города, это написанное от руки на листке имя в витрине «Грешной Сибиллы». Пухлая Улла уехала в Пукет по горящей путевке, в частных сеансах ее заменила Пия-Пирожок. И цены поднялись: сцена с «госпожой», всего неделю назад стоившая пятнадцать евро, вследствие ежегодной инфляции теперь обойдется в двадцать. Сама же Сибилла по-прежнему держит в руках эрегированный хлыст, и шортики из черной кожи все такие же мягкие, благодаря чудесному крему для обуви «Крими».
В двух километрах к юго-западу, каждый день с восьми до пяти, он сидит на своем расписном футляре. Иногда поет, иногда просто играет. Время от времени заходит в палатку съесть больших коричневых орехов и бутерброд из свертка. Смеется и греет руки над огнем. Снова играет, закрывая глаза, когда звучит нота выше или ниже обычного. Однажды, когда температура воздуха опускается до минус двадцати семи, надевает коричневое пальто. А так – без верхней одежды. Не мерзнет. Без двух минут пять он позвякивает шляпой, ссыпает заработок в стеклянную банку, не пересчитывая, встает, наклоняется и убирает аккордеон в расписной футляр, вскидывает его на плечо и направляется к автовокзалу, может быть, напевая.
Я расставляю стремянку у стеллажа.
Трогаю пальцами.
Шелестит папиросная бумага.
О прошлом нам ничего не известно, лишь немного о будущем. Можно попытаться объяснить, что думаешь и почему. Еще можно читать. Делать уборку. Мыть посуду. Ловить каналы радио и слушать. Мой радиоприемник не проигрывает музыку, он издает звуки космических сигналов.
8
Вода из душа бьет мощными, горячими струями, кафель потеет. На улице минус тридцать один градус, а высокие, во всю стену, окна кристально ясны, без изморози. Первые шаги по холодному полу, первый километр в воде. Двадцать заплывов в очках над водной поверхностью. Пожилые дамы в купальных шапочках, их медленные движения вверх и вниз. Девочка без инвалидного кресла, лежащая на спине в горячей воде массажного бассейна, волосы колышутся вокруг, руки и ноги тихо покачиваются, водоросли. Рядом ассистент, медленно ведущий ее, на предплечьях. Белое лицо, взгляд широко раскрытых глаз прямо вверх, испуганный, лучащийся. В сауне маленький писающий мальчик, мама отвешивает шлепок.
Бассейн по утрам: место есть даже под массажными кранами. В углу на нескольких квадратных метрах целый класс, слишком длинные руки, слишком много ног. Дяди в слишком тесных трусах у каждой подводной струи. В лягушатнике глазеющий папа, посиневший от холода ребенок. Бассейн по утрам – a place for the odd and the lonely.[10]10
Место для чудаков и одиночек (англ.).
[Закрыть] Еще один километр, ради преодоления. За душевыми, на кафельном поле, есть омут. В толщу воды ледяного цвета спускаются серебряные лестницы. Они блестят, ослепляют, если долго смотреть. Температура воды не выше восьми градусов, днем и ночью. Это омут, ненастоящий омут под постоянным наблюдением камер, здесь есть серьезный риск разного рода происшествий. Никто не опускается в омут, я прохожу рядом. Ступни леденеют, принимают цвет льда.
В паровой бане напротив парятся мужчины и женщины, сидеть в купальнике запрещено. Мой купальник большой и черный. Выцветший на солнце, на неведомых веревках для белья. Под дверью клубится эвкалиптовый пар, белый, сквозь стекло двери ничего не видно, кроме белого. Во все щели проникает смех и болтовня, мужские, женские голоса, смешливые. Говорят о собаках, о летних праздниках на острове. Шнапс и селедка, лодка. Плывущая собака, лопнувшая бельевая веревка. Они смеются, светлые, шумливые. Я подхожу ближе, прислушиваюсь. Вдруг дверь распахивается, из парной выходит кто-то молодой, красный и голый, дверь распахивается прямо мне в лицо, женщина говорит – извините, и уходит.
Можно пойти дальше, пройти мимо, можно идти быстро, можно подойти к крану у самого пола и дезинфицировать ступни, избавляясь от возможного ногтевого грибка, долго. Можно сушить волосы, можно бросить евро в автоматический фен, потрясти его, убедиться, что он не работает.
В кафетерии на верхнем этаже можно есть пончики с малиновым вареньем, а на 437-й странице Уилсон Бентли организует публичную лекцию в родном городке. Для этого вечера он отобрал самые большие снимки самых красивых снежинок, чтобы проецировать изображения на стену. Он хочет показать соседям и друзьям, чем занимается. И почему. Ведь он всегда чувствовал, что производит на них впечатление odd или crazy или both.[11]11
Странного… сумасшедшего… и того, и другого (англ.).
[Закрыть] Вход на лекцию свободный. Погода ясная. Он сварил кофе на дровяной плите. Еще раз протер аппарат. Вымыл шею и надушился несколькими каплями одеколона своей матери.
Приходят два человека.
Остальные отправились на службу в церковь.
Рассказывая об этом спустя много лет в интервью, он улыбается терпеливой улыбкой with a trace of bitterness.[12]12
С примесью горечи (англ.).
[Закрыть]
– It was free, mind you! – говорит он. – And it was a fine, pleasant evening, too. But they just weren’t interested.[13]13
Обратите внимание, это было бесплатно! И получился приятный, хороший вечер. Но им просто не было интересно (англ.).
[Закрыть]
По дороге домой я вижу детей в колясках, устланных овечьими шкурами. Прохожие укутали щеки шарфами, защищаясь от холода. Это недальновидная мера, так как выдыхаемый воздух быстро пропитывает шарф влагой, а при такой температуре влага незамедлительно и неизбежно превращается в лед. Пряди моих волос, выбившиеся из-под шапки, застывают множеством сосулек, тонких. Дома я тру их кухонным полотенцем, и они торчат в разные стороны, спутанные, хрупкие.
9
О прошлом нам ничего не известно, лишь немного о будущем. О прошлом нам ничего не известно, лишь то, что просвечивает сквозь поры. Потому мы и держимся за настоящее.
За данные обстоятельства.
Наше фактическое положение на земном шаре и действительный для нас климат как естественное и вполне объяснимое следствие. Текущий момент как единственно действительный, в отличие от нематериальных воспоминаний или надежд, наименее подверженный влиянию защитной дымки наших иллюзий.
Всегда в это время года: недостаток света. Данного числа данного месяца, в этих широтах. Рассвет розовым намеком на горизонте. Рассвет, продолжающийся до трех пополудни. Вот и все. Невнятное движение неуверенного розового рассвета, с каждым часом все более серого, пока черное вновь не поглотит все вокруг. Намек на солнце за слоями облаков, вечно низкими, ползущими вперед по тому же маршруту, что и год назад. Все больше и больше серого, все это могло быть год назад. Или сорок тысяч лет назад.
Я не фанатик. Пусть мои клумбы линейны, а книги на стеллажах расставлены в алфавитном порядке, даже симметрия не религия для меня. Я лишь заметила, что жизнь протекает более ловко, если установить некоторые правила и следовать им. Некоторые правила, на которые можно опираться. Которые не призваны побороть необоримое: солнце и потребность человеческого организма в кислороде и воде, пище и сне. Потребность растений в солнечном свете, углекислом газе и воде. Одни и те же потребности объединяют все общества, невзирая на широко распространенные мечты о революции. Время бесконечно, неизмеримо и безмерно, как и пространство, но каждый отдельный индивид чем-то ограничен. Если достаточное множество людей утверждает, что сегодня понедельник, то сегодня понедельник. Если не придавать значения тому, что сегодня понедельник, то ты выпадаешь из множества тех, кому есть дело до понедельника. У нормального человека есть воля и способность к самовоспроизведению. Причина, если не считать тепла, излучаемого кожей, сокрыта во мраке. Заканчивается все так называемой смертью, для всех, может быть, даже для всего, рано или поздно, это и есть главная демократия.
В том саду, который я однажды видела, были скамейки, зеленые и облезшие, и мостики, на которые можно выкатывать кровати стариков и умирающих, чтобы они видели молодые растения. Над мостиками были арки из вербы и вьющейся розы, арки, которые вырастил садовник (древний, с ветвистыми руками). Растил годами, ради умирающих; вокруг ствола одной из старых бесплодных яблонь вьется синий клематис. Растения тоже умирают. Умирают, обращаясь в прах, как и люди, но это вплетается в жизнь иначе – мало кто оплакивает их, это просто доказательство того, что круг снова замкнулся, что начнется новый виток, и это полностью и неизбежно естественно.
Говорят, что и людям нужен солнечный свет. Если бы это утверждение было истинным, то смертность в этом месте в это время года была бы стопроцентной. Деревья прячут свою жизнь в стволах и хранят хлорофилл на протяжении всей зимы. Люди укутывают тела шерстью и мехом, пряча под ними все, что только можно, и выживают, как могут.
Воздух в трамвае горячий. Под каждой второй скамейкой есть батарея, исторгающая жар прямо в зимние сапоги, в шерстяные носки, под полы одежды и шарфы. Наконец мне удается разглядеть в запотевшем окне что-то желтое, и я протискиваюсь к сигнальной кнопке сквозь плоть и меха, держа перед собой сумку. Двери со скрипом раздвигаются, и я приземляюсь в сугроб. Когда вид проясняется, я уже отчетливо вижу желтое и буквы: СУМАСШЕДШИЕ ДНИ! ОНИ УЖЕ ЗДЕСЬ! Не глядя ни вперед, ни назад, ни направо, ни налево, я быстро иду к вращающимся часам, где целый город ждет назначенной встречи именно в эту минуту – 11: 18.
Я покупаю сига по обычной цене и пару синтетических гетр за два евро. Не дойдя метра до выхода, я приобретаю также сковородку за три евро.
Я иду к остановке на противоположной стороне, чтобы сесть в трамвай и уехать домой. За моей спиной три кузнеца, воздевшие свои молоты. И вот идет снег, «иглы», от минус трех до минус пяти, как белые волоски на воротниках. Трамвай приходит и уходит.
«Три кузнеца» – скульптура немаленькая, а снегопад можно назвать сильным. Но я все-таки вижу.
Такая оранжевая.
На фоне всего остального.
Оттуда – голоса, кожаные шапки.
Отверстие входа широко распахнуто, трепещет.
У самого входа в палатке стоит столик, служащий прилавком, за ним пара скамеек, несколько крючков для одежды и фартуков и круглая печка с противнем для жарки, похоже, Castanea sativa. Серебристая лента теперь приклеена по сторонам, чтобы удержать трепещущую ткань. Вблизи этот запах, тот самый запах, состоит из жирного и горелого. За прилавком стоят двое мужчин. Дуют на руки. Прилавок высокий. Как будто мне по брови.
– Да? – произносит тот, что крупнее, стоя спиной ко мне.
Худой не двигается, пожевывает спичку. Зубы у него длинные и черные.
Сняв перчатку, я указываю на прейскурант – листок в клетку, исписанный от руки и приклеенный к прилавку.
– Обычное? – спрашивает большой по-русски, повернувшись ко мне. Под шапкой лысина. Живот выглядывает из-под майки. Фартука нет.
Я киваю.
– Yes?
Он насыпает пятнадцать Castanea sativa с горячего жестяного противня в кулек из вощеной бумаги и протягивает мне. Кулек падает к моим ногам. Я наклоняюсь, чтобы поднять, а потом отдаю ему деньги. На рукаве, обтягивающем стертые костяшки пальцев, дырка как от моли. Каштаны горелые, блестящие. Внутри белая мучнистая мякоть. Я закрываю кулек, кладу в сумку. Снаружи у палатки на расписном футляре сидит третий.
Черноволосый, лохматый.
Он.
Рядом с ним женщина в блестках. Худенькая, с выбеленными волосами. Она машет руками и говорит. Что-то рассказывает. Черноволосый перебирает стопку бумаг – может быть, нот. Не отвечает, не слушает. Она дрожит от холода и, раз пять похлопав себя по бокам, чтобы согреться, исчезает в шатре. Он остается сидеть, притоптывая ногой. В снегу, в такт. Кладет бумаги на землю рядом. Выпрямляется. Откашливается.
Если бы я разбиралась в музыке, то могла бы сказать, что он начал играть – что-то известное, часто звучит в автобусах. Он прикрывает глаза, запрокинув голову. Пальцы у него красные от мороза, почти лиловые. С широкими ногтями. С одной стороны они нажимают на клавиши, с другой – на кнопки. Мимо проходят люди, бросают деньги в его шляпу. Один молодой человек наклоняется и протягивает руку, чтобы взять один из тех листков – это не ноты, что-то меньше размером. И ярче. Он кладет листок в нагрудный карман.
В глубине моей рукавицы осталась еще одна купюра. Я подхожу и кладу ее в шляпу. И снова подходит трамвай. Но он – вдруг – прерывает игру. Что-то происходит.
Что-то касается моей руки.
Это его рука. И в другой что-то есть, а выше – губы, а вокруг глаз продольные морщинки. Он дает мне листок из пачки, и я иду к трамваю, и он играет дальше, и люди идут дальше, словно ничего не произошло.
Во дворе никого не видно. Никого нет. Но кто-то все-таки есть, конечно. Какая-то тень позади ржавых качелей. Луч света рядом с песочницей. Тень. Не большая и не маленькая. Все-таки есть.
Дитя.
Я пытаюсь увидеть его хотя бы на секунду, проявить контуры. Посмотреть прямо на него, на этот свет. Ничего не происходит. Чем пристальнее я вглядываюсь, тем больше расплываются очертания.
Оно.
Он, она.
Тень.
Я ищу ключ. Медленно, чтобы оставить время для развития событий. Нахожу. Открываю. Вхожу. Закрываю дверь, осторожно.
Вариант завтрака: кулек остывших каштанов на диване. Осталось еще два, но я уже сыта. Скорлупа идеальной формы, игольчатые оболочки, наилучшее вместилище для вызревающей мякоти. Почти симметричные. Кроме одной скорлупки, где небольшая выпуклость всосала в себя изнутри почти всю мякоть, ставшую недоступной. Даже симметрии требуются исключения, наверное, так должно быть. Осталось два каштана. Я встаю, подхожу к окну. Раздвигаю занавески, выглядываю. Двор пуст. Надеваю тапки, выхожу и кладу каштаны на край песочницы.
10
Шкатулка с прошлым:
На самом верху, укрытая клетчатой бумагой, липкой от старости. Пожелтевшие листы, запах песка. Над нижним слоем, неприкосновенным:
Гербарий.
Атлас луны.
Mare Nectaris.
Mare Tranquillitatis.
Пыль, пыль.
И вот.
Словарь.
«С-л-о-в-а-р-ь».
«П-е-ч-е-н-ы-е к-а-ш-т-а-н-ы».
Так и есть.
Я беру книгу, остальное укрываю бумагой и ватой, закрываю крышку. Думаю о могиле Тутанхамона. Могила Тутанхамона и неприкосновенное.
Некоторые снежинки легкие, как фата, они взлетают вверх, разлетаются в стороны и опускаются.
Другие тяжелые, влажные, стремятся поскорее упасть на землю. Они любят низкое давление, таяние.
Кроме того, в очень холодную погоду бывают снежинки, которых почти не видно, они как блеск в воздухе, на стенах домов, мерцание, миллиарды тонн сверкающей пыли, вспыхивающей лиловым и зеленым в солнечных лучах.
Это отдельные ледяные пластинки, не смерзшиеся с другими в слоях атмосферы. Я знаю, так как видела сама, сорок две зимы подряд, это результат длительного эмпирического наблюдения.
Если мелкие блестящие снежинки – и вправду отдельные пластинки (ледяные), то это редкость, так как они крайне редко встречаются в наших широтах. Возможно, такие выпали и сегодня, сверкая в воздухе, на стенах. Может быть, как раз когда я пила кофе, а может быть, снег перестал идти еще до того, как я проснулась. Пока я читала, пока ела, пока проходил день.
На перекладине для ковров за моим окном в сумраке сидят две кошки, черная и серая. На переднем плане – черный армейский велосипед Софии, так что все в поле моего зрения разделено колесом на доли, как ломтик лимона. В одном из секторов сама София развешивает белье – полотенца, простыни, детскую одежду. Чепчики, комбинезончики, все крошечное. Волосы убраны в узел, без шапки, круглый красный румянец на щеках.
И живот.
Скоро родится. Наконец-то, скоро родится.
Вокруг Софии скачет Свинка, хватает за подол. Веревки заледенели. Белье не высохнет, а застынет, и Софии придется снова вешать его, на этот раз в более теплом месте, выполнять двойную работу, но к следующей стирке она все забудет и совершит ту же ошибку. Да и ладно. София останавливается, смотрит на аккуратно развешанные вещи, подзывает Свинку и уходит домой, может быть, напевая.
В газете Массе и Мари Огрен отмечают пятидесятилетний юбилей совместной жизни (золотую свадьбу) в кругу семьи. На свадебной фотографии Мари в шифоновом платье и диадеме с фатой. Обеими руками держит красивый свадебный букет из гвоздик. Бледная, в больших очках, она смотрит в пол. Массе не больше девятнадцати, он курносый и очень серьезный. На левой руке крепко сидит кольцо, правой он обнимает Мари.
Под ними сидят Хелена и Сеппо Гелениус, которые женаты уже шестьдесят лет, сегодня они отмечают бриллиантовую свадьбу. У них много морщин, они сидят поодаль друг от друга на скамейке в зеленом саду, смотрят прямо в объектив и улыбаются, на снимке не видно, мостики у них или полностью вставные челюсти. Седые волосы Хелены украшены свежим венком из цветов, луговых.
На следующей странице в аварии с участием мотоцикла погибла женщина. Мотоцикл свернул со своей полосы в ночь с субботы на воскресенье, у двадцатипятилетнего водителя обнаружили 1,2 промилле алкоголя в крови. Он получил незначительные повреждения.
За окном уже началась борьба черного и серого. Снег кружится, бантики на ошейниках домашних кошек съезжают набок, кошки пытаются выцарапать друг другу глаза, но испытывают наслаждение, они беглецы, они опрокидывают друг друга навзничь, сцепляются колесом, скатываются с перекладины для ковров, никто не умирает, никто не замирает, абрикосово-желтый шелковый бантик падает в снег, исчезает, никто ничего не замечает, кроме движений другого, улавливаемых телом.
На исходе зимы, когда кошки спариваются во дворах, раздаются ужасные звуки. Вопли. Как будто они причиняют друг другу боль.
Есть кошки. Котята, меньше ладони, светло-розовые язычки и подушечки лап, ненужные, их топят в полиэтиленовых пакетах с камнем для тяжести. И они борются, но потом сдаются. Мгновение отчаяния. Мгновение осознания невозможности или просто мгновение, когда физические силы покидают тело, в пакете, от страха, от нехватки кислорода. Других убивают в лесу. За большими деревьями. Они идут за хозяином, не понимая.
Есть европейские короткошерстные.
Большие, рыжие, полосатые.
Норвежские лесные.
Спят, теплые и тяжелые, в ногах, на подушках.
Ступают по полу большими лапами.
Этажом выше звяканье кастрюль перетекло в скрип кровати.
На листе – точнее, на листке, – лежащем передо мной, мне улыбается мужчина. Улыбка-вспышка, черные волосы.
«В-е-ч-е-р-и-н-к-а Э-л-в-и-с-а»
Русские буквы.
«У Т-а-т-ь-я-н-ы (Русское кафе)»
«В-у-о-с-а-а-р-и»
«Д-о в-с-т-р-е-ч-и (С б-у-т-ы-л-к-о-й и х-о-р-о-ш-и-м н-а-с-т-р-о-е-н-и-е-м.)»
Я читаю, рядом словарь. «С-л-о-в-а-р-ь».
Я покупаю карту на заправке «Шелл» на улице Аспнэсгатан. Она большая, как парус. Я наливаю полный термос теплого морса и кладу его в сумку на колесах.
Приближается развилка.
Даже если ты стоишь на месте.
Даже если сидишь без движения, все происходит, движение не останавливается.
Во всяком случае, старение материи.
Сила притяжения Земли.
Эрозия.
(Если всю жизнь неподвижно просидеть на стуле, что будет? Будут ли люди приходить к тебе сами, что-то предлагать? Иссохнет ли тело, превратится ли в гору костей и кожи, погибнет ли к двум годам?)
Начинаем сначала.
Продолжаем.
Начинаем.
Снова.
Сейчас.
И скоро.
Скоро настанет пора снежинок.
Я говорю: снежинок.
II

1
Оно как будто стало настойчивее. Я не вижу выражения лица, никогда не видела, но что-то в теле, в позе, в его плавных движениях. В том, что оно возникает все чаще. Не знаю почему, я сижу у окна, все время туман, влажная земля, и неясно, как зима пойдет дальше. Если зима подразумевает снег и лед, минусовую температуру. Термическое определение зимы. Я сижу часами, и тень за окном. И не смотрю я на него, и не слежу за ним, не караулю, я сижу, и взгляд иногда скользит по нему. Я не знаю, что это за тень, не знаю я. Размытые очертания, туман вокруг нее не рассеивается, днем ее никогда не видно. Но вечера и ночи долгие, утра поздние и темные. Около полуночи я пью чай или кофе и ложусь спать, иногда задвигаю шторы, иногда забываю. Проснувшись ночью, я замечаю, что электрические подсвечники: Водопад и Вера, Надежда, Любовь – в других окнах погасли. Люди все же выдергивают штепсели из розеток. Экономят электричество, не могут спать при свете. Хотят темноты. В трещинах ванного кафеля живут три мокрицы, средняя жирная. Если бы я оставила свой дом, никому не сказав, если бы сюда никто не вселился, то его захватила бы живность, мокрицы. Размножались бы, ползали. Все заросло бы. Сначала пол. Одуванчики пробрались бы сквозь кафель. Одуванчики и мокрицы.
Крысы.
Днем серовато-светло. На листке бумаге передо мной – улыбка, черные волосы.
Я изучаю карту. Собираю сумку. Морс, от цинги. Смотрю на поезда метро. Оранжевые в сумерках. Мчащиеся на рассвете. В среду Сибилла переодевается во что-то зеленое в обтяжку с прорехой для треугольничка.
Потом начинается дождь. В наши парниковые времена погода ведет себя как хочет, дождь может взять и забарабанить по пластмассовым крышам оранжевых поездов метро январским вечером, а в вагоне больше никого, а ты едешь в метро впервые в жизни, и барабанит так громко, что приходится выйти на станции Игелькоттсвэген, перейти на противоположную сторону и отправиться домой.
А барабанит потом всю ночь – по жестяной крыше где-то высоко-высоко, но слышно хорошо, а во дворе оттаивает и намокает крошечная одежда, раз за разом.
Как будто дом опустел, двор опустел, словно все уже зарастает, будто все сбежали от надвигающейся катастрофы, ядерного взрыва, а может, просто все в отпуске, я в этом не разбираюсь. В подъезде ни звука, на дворе ни следа. В квартире надо мной не слышно шагов, ни ног, ни лап. В бомбоубежище за стеной тоже никого. Время от времени одно из окон механически озаряет свет, но человеческих очертаний мой глаз не улавливает. Я не караулю, я вообще смотрю в другую сторону, просто взгляд иногда скользит к окну. А так – я читаю, читаю я. Я ем и мою посуду. Не думаю о садах.
В серую среду я встречаю Эдит. Она осталась на месте. Она все та же, точно такая же. Что-то с осанкой, что-то она не договаривает, не смеется. И ее мама рядом, серьезная. Я пью кофе и ем венскую слойку, оставшуюся с прошлого раза, чтобы не переводить зря свежие. Эдит съедает четыре, старых и свежих, все равно. Она ест, склонившись над тарелкой, жадно откусывая, не поднимая глаз. Рядом ее мама с неустанно прямой спиной. Пол вокруг стула усеян крошками слоеного теста, Эдит даже не смотрит, не убирает за собой. В кафе тихо, тихо и в коридорах.
Не то чтоб я скучала по чужому смеху, но у Эдит такой особый смех, когда она пытается что-то сказать и не может, язык не ворочается, так у нее с рождения. Такой смех, в котором только за десять лет можно научиться распознавать смех, – может быть, он еще вернется.
Один из старинных каштанов у стен другой больницы на Нурденшёльдсгатан совсем сгнил. Я вижу главный признак: верхняя часть кроны мертва. Я не только садовник, но и арборист-любитель. Городской патруль по уходу за деревьями обратит внимание на каштан только через несколько недель, когда настанет пора готовить эту высадку к лету. Если до того каштан не упадет во время весенней бури, прямо на чью-нибудь голову – тяжелый, острый, такое бывает.
Можно попытаться еще раз, спустя некоторое время, выждав тринадцать дней, уже почти в феврале. Можно еще раз обратиться за толкованием к словарю, чтобы не допустить ни малейшей ошибки.
«В-е-ч-е-р-и-н-к-а Э-л-в-и-с-а»
Человеку, привыкшему к латинскому алфавиту, не так-то просто искать слова, написанные кириллицей.
«Вечеринка» – это я нашла, это понятно. «Элвиса» – такого слова в словаре нет. Элвис.
«К-а-ж-д-у-ю с-у-б-б-о-т-у в я-н-в-а-р-е в 6 ч-а-с-о-в». Это я понимаю. В шесть часов.
«У Т-а-т-ь-я-н-ы (Р-у-с-с-к-о-е к-а-ф-е)». В русском кафе Татьяны.
«Н-у-к-к-е-р-у-у-с-у-н-к-у-я 8».
В Нурдшё. Куда ходит метро.
Конечная станция.
«Д-о в-с-т-р-е-ч-и! С б-у-т-ы-л-к-о-й и х-о-р-о-ш-и-м н-а-с-т-р-о-е-н-и-е-м».
Бутылка. И хорошее настроение.
Сейчас еще январь.
О февральских субботах мы ничего не знаем.
А мужчина на снимке высокий, веселый, в белом костюме с блестящими лампасами, улыбка еще белее.
Можно перестать обращать внимание на этот пустяк и начать думать совсем о других вещах, можно снова собрать сумку на колесах. Можно попытаться еще раз, опять. Можно проверить, не остыл ли морс, плотно ли завинчена крышка термоса и не протекает ли, на месте ли карта, запасные свитера. Можно посмотреть и убедиться, что поезда метро в этом городе ярко-оранжевого цвета, каждый вечер поезда метро такие же оранжевые, как сегодня вечером, пылающие, можно попытаться найти у себя хорошее настроение.
Можно проходить по новым местам, по земле и под землей, станции Эстра-сентрум – Восточный центр и Брэнде – Сгоревший остров, можно вспомнить мужчину, который набросился на пассажира метро с топором по одной-единственной причине: он услышал внутренний голос, который велел ему сию минуту раскроить чей-нибудь череп, чей угодно, без разницы.








