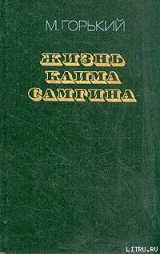
Текст книги "Жизнь Клима Самгина (Сорок лет). Повесть. Часть четвертая"
Автор книги: Максим Горький
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 34 страниц)
«Вы шаржируете» – он ответил небрежно: «Это история шаржирует». Стратонов сказал: «Ирония ваша – ирония нигилиста». Так же небрежно Тагильский ответил и ему:
«Ошибаетесь, я не иронизирую. Однако нахожу, что человек со вкусом к жизни не может прожевать действительность, не сдобрив ее солью и перцем иронии. Учит – скепсис, а оптимизм воспитывает дураков».
Тагильский в прошлом – человек самоуверенный, докторально действующий цифрами, фактами или же пьяный циник.
«Да, он сильно изменился. Конечно – он хитрит со мной. Должен хитрить. Но в нем явилось как будто новое нечто... Порядочное. Это не устраняет осторожности в отношении к нему. Толстый. Толстые говорят высокими голосами. Юлий Цезарь – у Шекспира – считает толстых неопасными...»
Тут Самгину неприятно вспомнился Бердников.
«Я – напрасно сказал о моих подозрениях Марины. У меня нередко срывается с языка... лишнее. Это – от моей чистоплотности. От нежелания носить в себе... темное, нечестное, дурное, внушаемое людями».
В зеркале скользила хорошо знакомая Самгину фигура, озабоченное интеллигентное лицо. Искоса следя за нею, Самгин решил:
«Нет, не стану торопиться с выводами».
«Марина?» – спросил он себя. И через несколько минут убедился, что теперь, когда ее – нет, необходимость думать о ней потеряла свою остроту.
«Приходится думать не о ней, а – по поводу ее. Марина... – Вспомнил ее необычное настроение в Париже. – В конце концов – ее смерть не так уж загадочна, что-нибудь... подобное должно было случиться. «По Сеньке – шапка», как говорят. Она жила близко к чему-то, что предусмотрено «Положением о наказаниях уголовных».
Дня три он провел усердно работая – приводил в порядок судебные дела Зотовой, свои счета с нею, и обнаружил, что имеет получить с нее двести тридцать рублей. Это было приятно. Работал и ожидал, что вот явится Тагильский, хотелось, чтоб он явился. Но Тагильский вызвал его в камеру прокурора и встретил там одетый в тужурку с позолоченными пуговицами. Он казался (выше) ростом, (тоньше), красное лицо его как будто выцвело, побурело, глаза открылись шире, говорил он сдерживая свой звонкий, едкий голос, ленивее, более тускло.
– Прокурор заболел. Болезнь – весьма полезна, когда она позволяет уклониться от некоторых неприятностей, – из них исключается смерть, освобождающая уже от всех неприятностей, минус – адовы мучения.
В середине этой речи он резко сказал в трубку телефона:
– Прошу пожаловать.
– Ну-с, вопросы к вам, – официально начал он, подвигая пальцем в сторону Самгина какое-то письмо. – Не знаете ли: кто автор сего послания?
Письмо было написано мелким, но четким почерком, слова составлены так плотно, как будто каждая строка – одно слово. Самгин читал:
«Сомнения и возражения твои наивны, а так как я знаю, что ты – человек умный, то чувствую, что наивность искусственна. Маркса искажают дворовые псы буржуазии, комнатные собачки ее, клички собак этих тебе известны, лай и вой, конечно, понятен. Брось фантазировать, читай Ленина. Тебя «отталкивает его грубая ирония», это потому, что ты не чувствуешь его пафоса. И многие неспособны чувствовать это, потому что такое сочетание иронии и пафоса – редчайшее сочетание, и до Ильича я чувствую его только у Марата, но не в такой силе».
«Кутузов, – сообразил Самгин. – Это его стиль. Назвать? Сказать – кто?»
Вошел местный товарищ прокурора Брюн-де-Сент-Ипполит, щеголь и красавец, – Тагильский протянул руку за письмом, спрашивая: – Не знаете? – Вопрос прозвучал утвердительно, и это очень обрадовало Самгина, он крепко пожал руку щеголя и на его вопрос: «Как – Париж, э?» – легко ответил:
– Изумителен!
Брюн самодовольно усмехнулся, погладил пальцами шелковые усики, подобранные волосок к волоску.
– Мой друг, князь Урусов, отлично сказал: «Париж – Силоамская купель, в нем излечиваются все душевные недуги и печали».
– Силоамская купель – это какая-то целебная грязь, вроде сакской, – заметил Тагильский и – строго спросил:
– А кто это Бердников?
О Бердникове Самгин говорил с удовольствием и вызвал со стороны туземного товарища прокурора лестное замечание:
– О, у вас дарование беллетриста!
– Так, – прервал Тагильский, зажигая папиросу. – Значит: делец с ориентацией на иностранный капитал? Французский, да?
– Не знаю.
– А Зотова – на английский, судя по документам?
– В эти ее дела она меня не посвящала. Дела, которые я вел, приготовлены мною к сдаче суду.
– Отлично, – сказал Тагильский, Сент-Ипполит скучно посмотрел на него, дважды громко чмокнул и ушел, а Тагильский, перелистывая бумаги, пробормотал:
– Вот этот парнишка легко карьерочку сделает! Для начала – женится на богатой, это ему легко, как муху убить. На склоне дней будет сенатором, товарищем министра, членом Государственного совета, вообще – шишкой! А по всем своим данным, он – болван и невежда. Ну – чорт с ним!
Похлопав ладонью по бумагам, он заговорил с оттенком удивления:
– Однако Зотова-то – дама широкого диапазона! А судя по отзвукам на ее дела – человек не малого ума и великой жадности. Я даже ошеломлен: марксисты, финансисты, сектанты. Оснований для догадки вашей о ее близости к департаменту полиции – не чувствую, не нахожу. Разве – по линии сектантства? Совершенно нельзя понять, на какую потребу она собирала все эти книжки, рукописи? Такая грубая, безграмотная ерунда, такое нищенское недомыслие... Рядом с этим хламом – библиотека русских и европейских классиков, книги Ле-Бона по эволюции материи, силы. Лесли Уорд, Оливер Лодж на английском языке, последнее немецкое издание «Космоса» Гумбольдта, Маркс, Энгельс... И все читано с карандашом, вложены записочки с указанием, что где искать. Вы, конечно, знаете все это?
– Нет, – сказал Самгин. – Дома у нее был я раза два, три... По делам встречались в магазине.
– Магазин – камуфляж? А?
Самгин молча пожал плечами и вдруг сказал:
– Она была кормчей корабля хлыстов. Местной богородицей.
– О-она? – заикаясь, повторил Тагильский и почти беззвучно, короткими вздохами засмеялся, подпрыгивая на стуле, сотрясаясь, открыв зубастый рот. Затем, стирая платком со щек слезы смеха, он продолжал:
– Ей-богу, таких путаников, как у нас, нигде в мире нет. Что это значит? Богородица, а? Ах, дьяволы... Однако – идем дальше.
Он стал быстро спрашивать по поводу деловых документов Марины, а через десяток минут резко спросил:
– Кому она могла мешать – как вы думаете?
– Безбедову. Бердникову, – ответил Самгин.
– Убил – Безбедов, – сердито сказал Тагильский, закуривая. – Встает вопрос инициативы: самосильно или по уговору? Ваша характеристика Бердникова...
Он замолчал, читая какую-то бумагу, а Самгин, несколько смущенный решительностью своего ответа, попробовал смягчить его:
– Очень трудно вообразить Безбедова убийцей...
– Почему? Убивают и дети. Быки убивают. Швырнув бумагу прочь, он заговорил очень быстро и сердито:
– На Волге, в Ставрополе, учителя гимназии баран убил. Сидел учитель, дачник, на земле, изучая быт каких-то травок, букашек, а баран разбежался – хлоп его рогами в затылок! И – осиротели букашки.
Он встал, живот его уперся в край стола, руки застегивали тужурку,
– Предварительное следствие закончено, обвинительный акт – готов, но еще не подписан прокурором. – Он остановился пред Самгиным и, почти касаясь его животом, спросил:
– Евреи были среди ее знакомых, деловых людей, а?
– Нет. Не знаю.
– Не было или не знаете?
– Не знаю.
– А я думаю: не было, – заключил Тагильский и чему-то обрадовался. – Вот что: давайте пойдем к Безбедову, попробуйте уговорить его сознаться – идет?
Предложение было неожиданно и очень не понравилось Самгину, но, вспомнив, как Тагильский удержал его от признания, знакомства с Кутузовым, – он молча наклонил голову.
– Так, – пробормотал Тагильский, замедленно протягивая ему руку.
На другой день, утром, он и Тагильский подъехали к воротам тюрьмы на окраине города. Сеялся холодный дождь, мелкий, точно пыль, истреблял выпавший ночью снег, обнажал земную грязь. Тюрьма – угрюмый квадрат высоких толстых стен из кирпича, внутри стен врос в землю давно не беленный корпус, весь в пятнах, точно пролежни, по углам корпуса – четыре башни, в средине его на крыше торчит крест тюремной церкви.
– Елизаветинских времен штучка, – сказал Тагильский. – Отлично, крепко у нас тюрьмы строили. Мы пойдем в камеру подследственного, не вызывая его в контору. Так – интимнее будет, – поспешно ворчал он.
Их встретил помощник начальника, маленькая, черная фигурка с бесцветным, стертым лицом заигранной тряпичной куклы, с револьвером у пояса и шашкой на боку.
– В камеру Безбедова, – сказал Тагильский. Человечек, испуганно мигнув мышиными глазами, скомандовал надзирателю:
– Приведи подследственного Безбедова из...
– Я сказал – в камеру! – строго напомнил Тагильский.
– Так точно. Но он – в карцере.
– За что?
– Буйствует несносно, дерется.
– Освободить, привести в камеру...
– Свободных камер нет, ваше высокородие. Господин Безбедов содержатся в общеуголовной. У нас все переполнено-с...
Держа руку у козырька фуражки, осторожно вмешался надзиратель:
– Левая, задняя башня свободна, как вчера вечером политического в карцер отвели.
Эта сцена настроила Самгина уныло. Неприятна была резкая команда Тагильского, его Лицо, надутое, выпуклое, как полушарие большого резинового мяча, как будто окаменело, свиные, красные глазки сердито выкатились. Коротенькие, толстые ножки, бесшумно, как лапы кота, пронесли его по мокрому булыжнику двора, по чугунным ступеням лестницы, истоптанным половицам коридора; войдя в круглую, как внутренность бочки, камеру башни, он быстро закрыл за собою дверь, точно спрятался.
– Стулья принеси, – сказал помощник смотрителя надзирателю. Тагильский остановил его.
– Не надо. Давайте подследственного. Вы подождете в коридоре.
Самгин сел на нары. Свет падал в камеру из квадратного окна под потолком, падал мутной полосой, оставляя стены в сумраке. Тагильский сел рядом и тихонько спросил Самгина:
– Вы сидели в тюрьме?
– Да. Недолго.
– А я – сажал, – так же тихо откликнулся Тагильский. – Интеллигенты сажают друг друга в тюрьмы. Это не похоже на... недоразумение? На анекдот?
Самгин не успел ответить, – вошел Безбедов. Он точно шагнул со ступени, высоту которой рассчитал неверно, – шагнул, и ноги его подкосились, он как бы перепрыгнул в полосу мутного света.
– Встаньте к стене, – слишком громко приказал Тагильский, и Безбедов послушно отшатнулся в сумрак, прижался к стене. Самгин не сразу рассмотрел его, сначала он видел только грузную и почти бесформенную фигуру, слышал ее тяжелое сопение, нечленораздельные восклицания, похожие на икоту.
– Слушайте, Безбедов, – начал Тагильский, ему ответил глухой, сипящий вой:
– Меня избили. Топтали ногами. Я хочу доктора, в больницу меня...
– Кто вас бил? – спросил Тагильский.
– Уголовные, надзиратели, все. Здесь все бьют. За что меня? Я подам жалобу... Вы – кто такой?
Напрягая зрение, Самгин смотрел на Безбедова с чувством острой брезгливости. Хорошо знакомое пухлое, широкое лицо неузнаваемо, оплыло, щеки, потеряв жир, обвисли, точно у бульдога, и сходство лица с мордой собаки увеличивалось шерстью на щеках, на шее, оскаленными зубами; растрепанные волосы торчали на голове клочьями, точно изорванная шапка. Один глаз был закрыт опухолью, другой, расширенный, непрерывно мигал. Безбедова сотрясала дрожь, ноги его подгибались, хватаясь одной рукой за стену, другой он натягивал на плечо почти совсем оторванный рукав измятого пиджака, рубаха тоже была разорвана, обнажая грудь, белая кожа ее вся в каких-то пятнах.
– Как я, избитый, буду на суде? Меня весь город знает. Мне трудно дышать, говорить. Меня лечить надо...
– Вам нужно сознаться, Безбедов, – снова и строго начал Тагильский. И снова раздался сиплый рев:
– Ага, эта – вы? Опять – вы? Нет, я не дурак. Бумаги дайте... я жаловаться буду. Губернатору.
– К вам пришел защитник, – громко сказал Тагильский. Самгин тотчас же тревожно, шопотом напомнил ему:
– Я отказываюсь, не могу...
А Безбедов, царапая стену, закричал:
– Не желаю! Я заявил: Самгин или не надо! Давите! Вашим адвокатам не верю.
– Он – здесь, Самгин, – сказал Тагильский.
– Да, я вот пришел, – подтвердил Клим, говоря негромко, чувствуя, что предпочел бы роль безмолвного зрителя.
Безбедов оторвался от стены, шагнул к нему, ударился коленом об угол нар, охнул, сел на пол и схватил Самгина за ногу.
– Клим Иванович, – жарко засопел он. – Господи... как я рад! Ну, теперь... Знаете, они меня хотят повесить. Теперь – всех вешают. Прячут меня. Бьют, бросают в карцер. Раскачали и – бросили. Дорогой человек, вы знаете... Разве я способен убить? Если б способен, я бы уже давно...
– Вы говорите... безумно, во вред себе, – предупредил его Самгин, осторожно дергая ногой, стараясь освободить ее из рук Безбедова, а тот судорожно продолжал выкрикивать икающие слова:
– Вы знаете, какой она дьявол... Ведьма, с медными глазами. Это – не я, это невеста сказала. Моя невеста.
– Успокойтесь, – предложил Самгин, совершенно подавленный, и ему показалось, что Безбедов в самом деле стал спокойнее. Тагильский молча отошел под окно и там распух, расплылся в сумраке. Безбедов сидел согнув одну ногу, гладя колено ладонью, другую ногу он сунул под нары, рука его все дергала рукав пиджака.
– Она испортила мне всю жизнь, вы знаете, – говорил он. – Она – все может. Помните – дурак этот, сторож, такой огромный? Он – беглый. Это он менялу убил. А она его – спрятала, убийцу.
– Вы отдаете себе отчет в том, что говорите? – спросил Тагильский. Безбедов, оторвав рукав, взмахнул им в сторону Тагильского и стал совать рукав под мышку себе.
– Отдаю, понимаю, не боюсь я вас... Эх вы, прокурор. Теперь – не боюсь. И ее – не боюсь. Умерла, могу все сказать про нее. Вы – что думаете, Клим Иванович, – думаете, она вас уважала? Она?
– Я – не верю вам, не могу верить, – почти закричал Самгин, с отвращением глядя в поднятое к нему мохнатое, дрожащее лицо. Мельком взглянул в сторону Тагильского, – тот стоял, наклонив голову, облако дыма стояло над нею, его лица не видно было.
«Он все-таки строит мне какую-то ловушку», – тревожно подумал Самгин, а Безбедов, хватая его колено и край нар, пытаясь встать, шипел, должно быть, изумленный, испуганный:
– Не верите? Как же – защищать? Вам надо защищать меня. Как же это вы?
– Я не намерен защищать вас, – твердо, как мог, сказал Самгин, отодвигаясь от его рук. – Если вы сделали это – убили... Вам легче будет – сознайтесь! – прибавил он.
Безбедов встал на ноги, пошатнулся, взмахнул руками, он как будто не слышал последних слов Самгина, он стал говорить тише, но от этого речь его казалась Климу еще более кипящей, обжигающей.
– Как это вы? Я – уважаю вас. Вы – страшно умный, мудрый человек, а она смеялась над вами. Мне рассказывал Миша, он – знает... Она Крэйтону, англичанину говорила...
– Перестаньте, – (крикнул) Самгин, отшвырнув рукав пиджака, упавший на ногу ему. – Все это выдумано вами. Вы – больной человек.
– Я? Нет! Меня избили, но я – здоровый.
– Не кричите, Безбедов, – сказал Тагильский, подходя к нему. Безбедов, прихрамывая, бросился к двери, толкнул ее плечом, дверь отворилась, на пороге встал помощник начальника, за плечом его возвышалось седоусое лицо надзирателя.
– Закрыть, – приказал Тагильский. Дверь, торопливо звякнув железом, затворили, Безбедов прислонился спиною к ней, прижал руки ко груди жестом женщины, дергая лохмотья рубашки.
– Вот что. Безбедов, – звонко заговорил товарищ прокурора. – Прекратите истерику, она не в вашу пользу, а – против вас. Клим Иванович и я – мы знаем, когда человек притворяется невинным, испуганным мальчиком, когда он лжет...
Безбедов стукнул затылком о дверь и закричал почти нормальным, знакомым Самгину голосом:
– Я – не лгу! Я жить хочу. Это – ложь? Дурак! Разве люди лгут, если хотят жить? Ну? Я – богатый теперь, когда ее убили. Наследник. У нее никого нет. Клим Иванович... – удушливо и рыдая закричал он. Голос Тагильского заглушил его:
– Говорите прямо: сами вы убили ее, или же кто-то другой, наведенный вами? Ну-с?
Безбедов зарычал, шагнул вперед, повалился набок и бесформенно расплылся по полу.
– А-а, чорт, – пробормотал Тагильский, отскочив к нарам, затем, перешагнув через ноги Безбедова, постучал в дверь носком ботинка.
– Фельдшера, доктора, – приказал он. – Этого оставить здесь, в башне. Спросит бумаги, чернил – дать. Идя коридором, он вполголоса спросил:
– Симулирует?
– Не уверен.
– Ф-фу, чорт, душно как! – вытирая лицо платком, сказал Тагильский, когда вышли во двор, затем снял шляпу и, потряхивая лысой головой, как бы отталкивая мелкие капельки дождя, проворчал:
– Дрянь человечишка. Пьяница?
– Нет. Дурак и мот. Тагильский проворчал:
– Вредный субъект. Способен заварить такую кашу... чорт его возьми!
«Он меня пугает», – сообразил Самгин. Тагильский вытер платком лысину и надел шляпу. Самгин, наоборот, чувствовал тягостный сырой холод в груди, липкую, почти ледяную мокрядь на лице. Тревожил вопрос: зачем этот толстяк устроил ему свидание с Безбедовым? И, когда Тагильский предложил обедать в ресторане, Самгин пригласил его к себе, пригласил любезно, однако стараясь скрыть, что очень хочет этого.
Затем некоторое время назойливо барабанил дождь по кожаному верху экипажа, журчала вода, стекая с крыш, хлюпали в лужах резиновые шины, экипаж встряхивало на выбоинах мостовой, сосед толкал Самгина плечом, извозчик покрикивал:
– Бер-регись, эй!
«Да, с ним нужно держаться очень осторожно», – думал Самгин о соседе, а тот бормотал почему-то о Сологубе:
– И талантлив и пессимист, но – не Бодлер. Тепленький и мягкий, как подушка.
Вздрагивая от холода, Самгин спрашивал себя:
«Мог Безбедов убить?»
Ответа он не искал, мешала растрепанная, жалкая фигура, разбитое, искаженное страхом и возмущением лицо, вспомнилась завистливая жалоба:
«Меня женщины не любят, я откровенен с ними, болтлив, сразу открываю себя, а бабы любят таинственное. Вас, конечно, любят, вы – загадочный, прячете что-то в себе, это интригует...»
У Самгина Тагильский закурил папиросу, прислонился к белым изразцам печки и несколько минут стоял молча, слушая, как хозяин заказывает горничной закуску к обеду, вино.
– Славная какая, – сказал он, когда девушка ушла, и вздохнул, а затем, держа папиросу вертикально, следя, как она дымит, точно труба фабрики, рассказал:
– У меня года два, до весны текущего, тоже была эдакая, кругленькая, веселая, мещаночка из Пскова. Жена установила с нею даже эдакие фамильярные отношения, давала ей книги читать и... вообще занималась «интеллектуальным развитием примитивной натуры», как она объяснила мне. Жена у меня была человечек наивный.
– Была? – спросил Самгин.
– Да. Разошлись. Так вот – Поля. Этой весною около нее явился приличный молодой человек. Явление – вполне естественное:
Это уж так водится:
Тогда весна была.
Сама богородица
Весною зачала.
Поехала жена с Потей устраиваться на даче, я от скуки ушел в цирк, на борьбу, но борьбы не дождался, прихожу домой – в кабинете, вижу, огонь, за столом моим сидит Полян кавалер и углубленно бумажки разбирает. У меня – револьверишко, маленький браунинг. Спрашиваю: «Нашли что-нибудь интересное?» Он хотел встать, ноги у него поехали под стол, шлепнулся в кресло и, подняв руки вверх, объявил: «Я – не вор!» – «Вы, говорю, дурак. Вам следовало именно вором притвориться, я позвонил бы в полицию, она бы вас увела и с миром отпустила к очередным вашим делам, тут и – конец истории. Ну-ко, расскажите, «как дошли вы до жизни такой?» Оказалось: сын чиновника почты, служил письмоводителем в женской гимназии, давал девицам нелегальную литературу, обнаружили, арестовали, пригрозили, предложили – согласился. Спрашиваю: «А как же – Поля?» – «А она, говорит, тоже со мной служит». Пришлось раскланяться с девушкой. Я потом в палате рассказываю: дело, очевидно, плохо, если начались тайные обыски у членов прокурорского надзора! Вызвало меня непосредственное мое начальство и внушает: «Вы, говорит, рассказываете анекдоты, компрометирующие власть. Вы, говорит, забыли, что Петр Великий называл прокурора «государевым оком».
Говорил Тагильский медленно, утомленно воркующим голосом. Самгин пытался понять: зачем он рассказывает это? И вдруг прервал рассказ, спросив:
– Не объясните ли вы: какой смысл имело для вас посещение мною... тюрьмы?
– А я – ждал, что вы спросите об этом, – откликнулся Тагильский, сунул руки в карманы брюк, поддернул их, шагнул к двери в столовую, прикрыл ее, сунул дымный окурок в землю кадки с фикусом. И, гуляя по комнате, выбрасывая коротенькие ноги смешно и важно, как петух, он заговорил, как бы читая документ:
– Подозреваемый в уголовном преступлении – в убийстве, – напомнил он, взмахнув правой рукой, – выразил настойчивое желание, чтоб его защищали на суде именно вы. Почему? Потому что вы – квартирант его? Маловато. Может быть, существует еще какая-то иная связь? От этого подозрения Безбедов реабилитировал вас. Вот – один смысл.
Он подошел к Самгину и, почти упираясь животом в его колени, продолжал:
– Есть – другой. Но он... не совсем ясен и мне самому.
Красное лицо его поблекло, прищуренные глаза нехорошо сверкнули.
– Я понимаю вас; вам кажется, что я хочу устроить вам некую судебную пакость.
– Вы ошибаетесь...
– Бросьте, Самгин.
Махнув рукой, Тагильский снова начал шагать, говоря в тоне иронии:
– Получается так, что я вам предлагаю товар моей откровенности, а вы... не нуждаетесь в нем и, видимо, убеждены: гнилой товар.
– Вы, конечно, знаете, что люди вообще не располагают к доверию, – произнес Самгин докторально, но тотчас же сообразил, что говорит снисходительно и этим может усилить иронию гостя. Гость, стоя спиной к нему, рассматривая корешки книг в шкафе, сказал:
– Даже сами себе плохо верят. Он повернулся, как мяч, и добавил:
– Русский интеллигент живет в непрерывном состоянии самозащиты и непрерывных упражнениях в эристике.
– Это – очень верно, – согласился Клим Самгин, опасаясь, что диалог превратится в спор. – Вы, Антон Никифорович, сильно изменились, – ласково, как только мог, заговорил он, намереваясь сказать гостю что-то лестное. Но в этом не оказалось надобности, – горничная позвала к столу.
– Есть я люблю, – сказал Тагильский. Самгин налил водки, чокнулись, выпили, гость тотчас же налил по второй, говоря:
– Я начинаю с трех, по завету отца. Это – лучший из его заветов. Кажется, я – заболеваю. Температура лезет вверх, какая-то дрожь внутри, а под кожей пузырьки вскакивают и лопаются. Это обязывает меня крепко выпить.
Стараясь держаться с ним любезнее, Самгин усердно угощал его, рассказывал о Париже, Тагильский старательно насыщался, молчал и вдруг сказал, тряхнув головой:
– В Москве, когда мы с вами встретились, я начинал пить. – Сделав паузу, он прибавил: – Чтоб не думать.
– Вы – москвич? – спросил Самгин.
– Туляк. Отец мой самовары делал у братьев Баташевых.
Он вытер губы салфеткой и, не доверяя ей, облизал языком.
– Я – интеллигент в первом поколении. А вы? – спросил он, раздув щеки усмешкой.
– В третьем, – сказал Самгин. Тагильский, готовясь закурить папиросу, пробормотал:
– Уже аристократ, в сравнении со мной. Самгин, тоже закурив, вопросительно посмотрел на него.
– Интересная тема, – сказал Тагильский, кивнув головой. – Когда отцу было лет под тридцать, он прочитал какую-то книжку о разгульной жизни золотоискателей, соблазнился и уехал на Урал. В пятьдесят лет он был хозяином трактира и публичного дома в Екатеринбурге.
Тагильский, прищурив красненькие глазки, несколько секунд молчал, внимательно глядя в лицо Самгина, Самгин, не мигнув, выдержал этот испытующий взгляд.
– Мать, лицо без речей, умерла, когда мне было одиннадцать лет. В тот же год явилась мачеха, вдова дьякона, могучая, циничная и отвратительно боголюбивая бабища. Я ее хотел стукнуть бутылкой – пустой – по голове, отец крепко высек меня, а она поставила на колени, сама встала сзади меня тоже на колени. «Проси у бога прощения за то, [что] поднял руку на меня, богоданную тебе мать!» Молиться я должен был вслух, но я начал читать непотребные стихи. Высекли еще раз, и отец до того разгорелся, что у него «сердце зашлось», и мачеха испугалась, когда он, тоже большой, толстый, упал, задыхаясь. Потом оба они плакали. Люди чувствительные...
Самгин слушал и, следя за лицом рассказчика, не верил ему. Рассказ напоминал что-то читанное, одну из историй, которые сочинялись мелкими писателями семидесятых годов. Почему-то было приятно узнать, что этот модно одетый человек – сын содержателя дома терпимости и что его секли.
– Жили тесно, – продолжал Тагильский не спеша и как бы равнодушно. – Я неоднократно видел... так сказать, взрывы страсти двух животных. На дворе, в большой пристройке к трактиру, помещались подлые девки. В двенадцать лет я начал онанировать, одна из девиц поймала меня на этом и обучила предпочитать нормальную половую жизнь...
Самгин спрятал лицо в дым папиросы, соображая:
«Зачем ему нужно рассказывать эти гадости? Если б я испытал подобное, я счел бы своим долгом забыть об этом... Мотивы таких грязных исповедей невозможно понять».
Тагильский говорил расширив глаза, глядя через голову Самгина, там, за окном, в саду, посвистывал ветер, скрипел какой-то сучок.
– Меня так били, что пришлось притвориться смирненьким, хотя я не один раз хотел зарезать отца или мачеху. Но все-таки я им мешал жить. Отец высоко ценил пользу образования, понимая его как независимость от полиции, надоедавшей ему. Он взял репетитора, я подготовился в гимназию и кончил ее с золотой медалью. Не буду говорить, чего стоило это мне. Жил я не в трактире, а у сестры мачехи, она сдавала комнаты со столом для гимназистов. От участия в кружках самообразования не только уклонялся, но всячески демонстрировал мое отрицательное, даже враждебное отношение к ним. Там были дети легкой жизни – сыновья торговцев из уездов, инженеров, докторов с заводов – аристократы. Отец не баловал меня деньгами, требовал только, чтоб я одевался чисто. Я обыгрывал сожителей в карты и копил деньги.
Настроение Самгина двоилось: было приятно, что человек, которого он считал опасным, обнажается, разоружается пред ним, и все более настойчиво хотелось понять: зачем этот кругленький, жирно откормленный человек откровенничает? А Тагильский ворковал, сдерживая звонкий голос свой, и все чаще сквозь скучноватую воркотню вырывались звонкие всхлипывания.
«Он чем-то напоминает Бердникова», – предостерег себя Самгин.
– Был в седьмом классе – сын штейгера, руководитель кружка марксистов, упрямый, носатый парень... В прошлом году я случайно узнал, что его третий раз отправили в ссылку... Кажется, даже – в каторгу. Он поучал меня, что интеллигенты – такая же прислуга буржуазии, как повара, кучера и прочие. Из чувства отвращения ко всему, что меня обижало, я решил доказать ему, что это – неверно. Отец приказал мне учиться в томском университете на врача или адвоката, но я уехал в Москву, решив, что пойду в прокуратуру. Отец отказал мне в помощи. Учиться я любил, профессора относились ко мне благосклонно, предлагали остаться при университете. Но на четвертом курсе я женился, жена из солидной судейской семьи, отец ее – прокурор в провинции, дядя – профессор. Имел сына, он помер на пятом году. Честный был, прямодушный человечек. Запрещал матери целовать его. «У тебя, говорит, губы в мыле». Мылом он называл помаду. «Ты, говорит, мама, кричишь на лапу, как на повара». Повара он терпеть не мог. После его смерти с женой разошелся.
Тагильский вдруг резко встряхнулся на стуле, замигал глазами и торопливо проговорил:
– Вы извините мне... этот монолог...
– Полноте, что вы! – воскликнул Самгин, уверенно чувствуя себя человеком более значительным и сильным, чем гость его. – Я слушал с глубоким интересом. И, говоря правду, мне очень приятно, лестно, что вы так...
– Ну, и прочее, – прервал его Тагильский, подняв бокал на уровень рта. – Ваше здоровье!
Выпил, чмокнул, погладил щеки ладонями и шумно вздохнул.
– Как видите, пред вами – типичный неудачник. Почему? Надо вам сказать, что мою способность развязывать процессуальные узлы, путаницу понятий начальство весьма ценит, и если б не это, так меня давно бы уже вышибли из седла за строптивость характера и любовь к обнажению противоречий. В практике юристов важны не люди, а нормы, догмы, понятия, – это вам должно быть известно. Люди, с их деяниями, потребны только для проверки стойкости понятий и для вящего укрепления оных.
Тагильский встал, подошел к окну, подышал на стекло, написал пальцем икс, игрек и невнятно произнес:
– А люди построены на двух противоречивых началах, биологическом и социальном. Первое повелительно диктует: стой на своем месте и всячески укрепляй оное, иначе – соседи свергнут во прах. А социальное начало требует тесного контакта с соседями по классу. Вот уже и – причина многих скандалов. Кроме того, существует насилие класса и месть его. Вы, интеллигент в третьем поколении, едва ли поймете, в чем тут заковыка. Я же вот отлично понимаю, что мой путь через двадцать лет должен кончиться в кассационном департаменте сената, это – самое меньшее, чего я в силах достичь. Но обстановочка министерства юстиции мне противна. Органически противна. Противно – все: люди, понятия, намерения, дела. – Бормотал он все более невнятно.
«Пьянеет, – решил Самгин, усмехаясь и чувствуя, что устал от этого человека. – Человек чужого стиля. По фигуре, по тому, как он ест, пьет, он должен быть весельчаком».
Опасаясь, что гость внезапно обернется и заметит усмешку на его лице, Самгин погасил ее.
«Сын содержателя дома терпимости – сенатор».
Снова вспомнилось, каким индюком держался Тагильский в компании Прейса. Вероятно, и тогда уже он наметил себе путь в сенат. Грубоватый Поярков сказал ему: «Считать – нужно, однако не забывая, что посредством бухгалтерии революцию не сделаешь». Затем он говорил, что особенное пристрастие к цифрам обнаруживают вульгаризаторы Маркса и что Маркс не просто экономист, а основоположник научно обоснованной философии экономики.
Товарищ прокурора откатился в угол, сел в кресло, продолжая говорить, почесывая пальцами лоб.
Самгин, отвлеченный воспоминаниями, слушал невнимательно, полудремотно и вдруг был разбужен странной фразой:
– Душа, маленькая, как драгоценный камень.
– Простите, это – у кого?
– У Сомовой. За год перед этим я ее встретил у одной теософки, есть такая глупенькая, тощая и тщеславная бабенка, очень богата и влиятельна в некоторых кругах. И вот пришлось встретиться в камере «Крестов», – она подала жалобу на грубое обращение и на отказ поместить ее в больницу.







