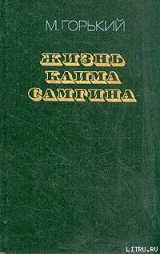
Текст книги "Жизнь Клима Самгина (Сорок лет). Повесть. Часть четвертая"
Автор книги: Максим Горький
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 34 страниц)
«Мужик-аристократ. Потомок старинных ушкуйников, землепроходцев. Садко. Василий Буслаев. Дежнев. Человек расы, которую тевтоны хотят поработить, уничтожить...»
– Я к тому, что крестьянство, от скудости своей, бунтует, за это его розгами порют, стреляют, в тюрьмы гонят. На это – смелость есть. А выселить лишок в Сибирь али в Азию – не хватает смелости! Вот это – нельзя понять! Как так? Бить не жалко, а переселить – не решаются? Тут, на мой мужицкий разум, политика шалит. Балует политика-то. Как скажете?
Глаза [Фроленкова] как будто сузились, потемнели.
– Мысль о принудительном переселении – весьма оригинальная мысль, – сказал Клим Иванович, торопясь слушать.
– Пятый год и мужика приучил думать, – с улыбочкой и поучительно заметил Фроленков. – Думать-то – научились, а поговорить – не с кем, и такой гость, как вы, конечно, для меня праздник. Городок у нас – издревле промысловой: суденышки строим, железо болотное добываем, гвоздь и всякую мелочь куем. плотниками славимся. – Он замолчал, вздохнул и, размахнув бороду обеими руками, точно желая снять ее с лица, добавил: – Вообще интерес для жизни – имеется. А – край глухой, болота, озера, речки, притоки Мологи – Чагодоща, Ковжа, Песь, леса кое-какие – все это, конечно, помаленьку кормит. Однако жить тесновато, а утеснение – оно и во храме и в бане одинаково. Душевно сказать – народ здесь дикой. Особо – молодежь. За границей, слыхать, молодых-то лишних отправляют к неграм, к индейцам, в Америку, а у нас – они дома толпятся... Теперь вот на войну отобрали их, ну, потише стало...
– А что – стачки были? – спросил Самгин.
– Нет, стачек у нас теперь не бывает, а – пьянство, драки, это вот путает дела!
Фроленков, расширив прозрачные глаза, взглянул на часы и встал, говоря:
– Прошу извинить! Вам требуется отдых с дороги, вот в соседней комнате все готово. Если что понадобится – вскричите Ольку.
И, усмехаясь широко, показав плотные желтые зубы, он сказал:
– Проповедник публичный прибыл к нам, братец Демид, – не слыхали о таком? Замечательный, говорят. Иду послушать.
Самгин, чувствуя себя отдохнувшим, спросил:
– А мне – можно?
– Да – сделайте милость! – ответил Фроленков с радостью. – Тут – близко, почти рядом!
Через несколько минут Самгин оказался в комнате, где собралось несколько десятков людей, человек тридцать сидели на стульях и скамьях, на подоконниках трех окон, остальные стояли плечо в плечо друг другу настолько тесно, что Фроленков с трудом протискался вперед, нашептывая строго, как человек власть имущий:
– Посторонись! Пропусти...
Комната служила, должно быть, какой-то канцелярией, две лампы висели под потолком, освещая головы людей, на стенах – <документы> в рамках, на задней стене [нрзб.], портрет царя.
Фроленков провел Самгина в первый ряд. Он пошептал в ухо лысому старичку, тот покорно освободил стул. Самгин сел, протер запотевшие очки, надел их и тотчас опустил голову. Прижатый к стене маленьким столом, опираясь на него руками и точно готовясь перепрыгнуть через стол, изогнулся седоволосый Диомидов в белой рубахе, с расстегнутым воротом, с черным крестом, вышитым на груди. Над столом покачивался, задевая узкую седую бороду, – она отросла еще длинней, – большой, вершков трех, золоченый или медный крест, висевший на серебряной шейной цепочке.
Глухим, бесцветным голосом он печально говорил:
– Люди Иисуса Христа, царя и бога нашего, миродавца, миролюбца, приявшего смерть за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна, и воскресшего...
Белизна рубахи резко оттеняла землистую кожу сухого, костлявого лица и круглую, черную дыру беззубого рта, подчеркнутого седыми волосами жиденьких усов. Голубые глаза проповедника потеряли былую ясность и казались маленькими, точно глаза подростка, но это, вероятно, потому, что они ушли глубоко в глазницы.
«Узнает?» – соображал Самгин, не желая, чтоб Диомидов узнал его, затем подумал, что этот человек, наверное, сознательно делает себя похожим на икону Василия Блаженного.
– И от Христа мы, рабы его, плутая в суете земной, оттолкнулись, отверглись. Что же понудило нас к этому?
Диомидов выпрямился и, потрясая руками, начал говорить о «жалких соблазнах мира сего», о «высокомерии разума», о «суемудрии науки», о позорном и смертельном торжестве плоти над духом. Речь его обильно украшалась словами молитв, стихами псалмов, цитатами из церковной литературы, но нередко и чуждо в ней звучали фразы светских проповедников церковной философии:
«Разум, убийца любви к ближнему»...
«Не считает ли слово за истину эхо свое?»
Самгин определил, что Диомидов говорит так же бесстрастно, ремесленно и привычно, как обвинители на суде произносят речи по мелким уголовным преступлениям.
«Все-таки он – верен сам себе. И богу своему», – подумал Самгин.
В комнате стоял тяжкий запах какой-то кислой сырости. Рядом с Самгиным сидел, полузакрыв глаза, большой толстый человек в поддевке, с красным лицом, почти после каждой фразы проповедника, сказанной повышенным тоном, он тихонько крякал и уже два раза пробормотал:
– А – скажи, пожалуйста...
Диомидов начал говорить, сердито взвизгивая:
– Немцы считаются самым ученым народом в мире. Изобретательные – ватерклозет выдумали. Христиане. И вот они объявили нам войну. За что? Никто этого не знает. Мы, русские, воюем только для защиты людей. У нас только Петр Первый воевал с христианами для расширения земли, но этот царь был врагом бога, и народ понимал его как антихриста. Наши цари всегда воевали с язычниками, с магометанами – татарами, турками...
Откуда-то из угла, из темноты, донесся веселый, звонкий голосок:
– Против народа – тоже...
Слушатели молча пошевелились, как бы ожидая еще чего-то, и – дождались: угрюмый голос сказал:
– Однако и турок хочет спокойно жить. Некий третий человек напомнил:
– Ас японцами из-за чего драку начали? Толстый сосед Самгина встал и, махая рукой, тяжелым голосом, хрипло произнес:
– Тише, публика!
Но в углу уже покрикивали:
– Ну, и – что? Ну, сказал! Правду сказал...
– Кузнецы шумят, гвоздари, – сообщил Фроленков, появляясь сзади Самгина. – Может, желаете уйти?
– Да, хотел бы...
– Скушно говорит старец, – не стесняясь, произнес толстый человек и обратился к Диомидову, который стоял, воткнув руки в стол, покачиваясь, пережидая шум: – Я тебя, почтенный; во Пскове слушал, в третьем году, ну, тогда ты – ядовито говорил!
Диомидов искоса взглянул на него и, тряхнув бородой, обратился к женщинам, окружавшим его, и одна из них, высокая, тощая, крикливо упрашивала:
– Скажи-ко ты нам, отец, кто это там явился около царя, мужичок какой-то расторопный? В углу сердито выкрикивали:
– Заместо того, чтоб нас, дураков, учить, – шел бы на войну, под пули, уговаривать, чтоб не дрались...
– Верно!
– Всех лошадей хороших обобрали...
Самгин торопился уйти, показалось, что Диомидов присматривается к нему, узнает его. Но уйти не удавалось. Фроленкова окружали крупные бородатые люди, а Диомидов, помахивая какими-то бумажками, зажатыми в левой руке, протягивал ему правую и бормотал:
– Здравствуй, Клим. Ты еси Клим, и ты – сам? Каждый есть – сам, каждая – сама. Не-ет, меня не соблазнишь... нет!
Кто-то прокричал:
– По бумажкам проповедует, глядите-ко! Бумажки... Э-эх ты, пустосвят!
Широко улыбаясь, Фроленков обратился к Самгину:
– Разрешите познакомить: это – градской голова наш, скотовод, гусевод, Денисов, Василий Петров.
Втроем вышли на крыльцо, в приятный лунный холод, луна богато освещала бархатный блеск жирной грязи, тусклое стекло многочисленных луж, линию кирпичных домов в два этажа, пестро раскрашенную церковь. Денисов сжал руку Самгина широкой, мягкой и горячей ладонью и спросил:
– Скажите, пожалуйста – поужинать ко мне не согласитесь ли?
– Побеседовать, – поддержал Фроленков. Самгин согласился, тогда Денисов взял его под руку, передвинул толстую руку свою под мышку ему и, сообщив:
– Подмораживает! – повел гостя через улицу, почти поднимая над землей.
На улице Денисов оказался еще крупнее и заставил Самгина подумать:
«Из него вышло бы двое таких, как я». Фроленков шлепал подошвами по грязи и ворчал:
– А гвоздари опять на стену полезли! Что ты будешь делать с ними?
– Сделаем, – уверенно обещал голова. Потом минут десять сидели в полутемной комнате, нагруженной сундуками, шкафами с посудой. Денисов, заглянув в эту комнату, – крякнул и скрылся, а Фроленков, ласково глядя на гостя из столицы, говорил:
– Вот чем люди кормятся, между прочим. Очень много проповедующих у нас: братец Иванушка Чуриков, отец Иоанн Кронштадтский был...
И, поискав третьего, он осторожно добавил:
– Тоже и Лев Толстой. Теперь вот все говорят, Распутин Григорий будто бы, мужик сибирский, большая сила, – не слыхали?
– Значение Распутина – преувеличивается, – сказал Самгин и этим очень обрадовал красавца.
– Вот и мы здесь тоже думаем – врут! Любят это у нас – преувеличить правду. К примеру – гвоздари: жалуются на скудость жизни, а между тем – зарабатывают больше плотников. А плотники – на них ссылаются, дескать – кузнецы лучше нас живут. Союзы тайные заводят... Трудно, знаете, с рабочим народом. Надо бы за всякую работу единство цены установить...
В двери, заполнив всю ее, встал Денисов, приглашая:
– Пожалуйте!
Перешли в большую комнату, ее освещали белым огнем две спиртовые лампы, поставленные на стол среди многочисленных тарелок, блюд, бутылок. Денисов взял Самгина за плечо и подвинул к небольшой, толстенькой женщине в красном платье с черными бантиками на нем.
– Супруга моя, Марья Никаноровна, а это – дочь, Софья.
Дочь оказалась на голову выше матери и крупнее ее в плечах, пышная, с толстейшей косой, румянощекая, ее большие ласковые глаза напомнили Самгину горничную Сашу.
– Крестница моя, – объявил Фроленков и обратился к жене Денисова: – Ну-ко, кума, командуй!
Самгина посадили рядом с нею, и она тотчас спросила его:
– Вам понравился старец?
– Я не поклонник людей этой профессии.
– Я – тоже. И говорит он плохо. «Миродавец» – как будто Христос давил мир. У нас глаголы очень коварные: давать, давить...
– Нет, погоди, – сказал ей отец. – Сначала мы выпьем...
Но она не ждала, продолжая звучным, сдобным голосом:
– Ах, как замечательно говорят в Петербурге! Даже когда не все понимаешь, и то приятно слушать.
Родители и крестный отец, держа рюмки в руках, посматривали на гостя с гордостью, но – недолго. Денисов решительно произнес:
– Нуте-ко, благословясь, положим основание травничком!
Травник оказался такой жгучей силы, что у Самгина перехватило дыхание и померкло в глазах. Оказалось, что травник этот необходимо закусывать маринованным стручковым перцем. Затем нужно было выпить «для осадки» рюмку простой водки с «рижским бальзамом» и закусить ее соловецкой селедкой.
– Нежнейшая сельдь, первая во всем мире по вкусу, – объяснил Денисов. – Есть у немцев селедка Бисмарк, – ну, она рядом с этой – лыко! А теперь обязательно отбить вкус английской горькой.
Выпили горькой. На столе явился суп с гусиными потрохами, Фроленков с наслаждением закачался, потирая колена ладонями, говоря:
– Любимое мое хлебово! А Денисов сказал:
– У нас, по стародавнему обычаю, ужин сытный, как обед. Кушаем не по нужде, а для удовольствия.
После трех, солидной вместимости, рюмок Самгин почувствовал некую благодушную печаль. Хотелось сказать что-то необычное, но память подсказывала странные, неопределенные слова.
«Да, вот оно...» И мешала девица Софья, спрашивая:
– Вы читали роман Мережковского об императоре Юлиане? А – «Ипатию» Кингслея? Я страшно люблю историческое: «Бен Гур», «Камо грядеши», «Последний день Помпеи»...
Это не мешало ей кушать, и Самгин подумал, что, если она так же легко и с таким вкусом читает, она действительно много читает. Ее мамаша кушала с таким увлечением, что было ясно: ее интересы, ее мысли на сей час не выходят за пределы тарелки. Фроленков и Денисов насыщались быстро, пили часто и перебрасывались фразами, и было ясно, что Денисов – жалуется, а Фроленков утешает:
– Солдат все съест.
– Гуся ему не дадут.
– И для гуся найдется брюхо.
Комнату наполняло ласковое, душистое тепло, медовый запах ласкал обоняние, и хотелось, чтоб вся кожа погрузилась в эту теплоту, подышала ею. Клим Иванович Самгин смотрел на крупных людей вокруг себя и вспоминал чьи-то славословия:
«Русь наша – страна силы неистощимой»... «Нет, не мы, книжники, мечтатели, пленники красивого слова, не мы вершим судьбы родины – есть иная, незримая сила, – сила простых сердцем и умом...»
Девица Денисова озабоченно спрашивала:
– Вы не знаете: есть в продаже копии с картины «Три богатыря»?
Самгин не успел ответить, – к нему обратился отец девицы:
– Мы вот на войну сетуем, жалобимся. Подрывает война делишки наши. У меня на декабрь поставка немцам, десять тысяч гусей...
– А у меня – забрали лошадей. Лес добыть нечем, а имею срочные заказы. Вот оно, дело-то какое, – сообщил Фроленков, радостно улыбаясь.
– Не угодные мы богу люди, – тяжко вздохнул Денисов. – Ты – на гору, а чорт – за ногу. Понять невозможно, к чему эта война затеяна?
– Понять – трудно, – согласился Фроленков. – Чего надобно немцам? Куда лезут? Ведь – вздуем. Торговали – хорошо. Свободы ему, немцу, у нас – сколько угодно! Он и генерал, и управляющий, и булочник, будь чем хошь, живи как любишь. Скажите нам: какая причина войны? Король царем недоволен, али что?
– Можно курить? – спросил Самгин хозяйку, за нее, и даже как будто с обидой, ответила дочь:
– Пожалуйста, мы не староверы.
– Просвещенные, – сказал Фроленков, улыбаясь. – Я, в молодости, тоже курил, да зубы начали гнить, – бросил.
На круглом, тоже красном, лице супруги Денисова стремительно мелькали острые, всевидящие глазки, синеватые, как лед. Коротенькие руки уверенно и быстро летали над столом, казалось, что они обладают вездесущностью, могут вытягиваться, как резиновые, на всю длину стола.
– Кушайте, пожалуйста, – убеждала она гостя вполголоса. – Кушайте, прошу вас!
Закурив, Самгин начал изъяснять причины войны. Он еще не успел серьезно подумать об этих причинах, но заговорил охотно.
– Немцы давно завидуют широте пространств нашей земли, обилию ее богатств...
– Да ведь какие же пространства-то? Болота да леса, – громко крякнув, вставил Денисов, кум весело поддержал его:
– А богатства нам самим нужны.
Пропустив эти фразы мимо ушей, Самгин заговорил об отношении германцев к славянам и, говоря, вдруг заметил, что в нем быстро разгорается враждебное чувство к немцам. Он никогда не испытывал такого чувства и был даже смущен тем, что оно пряталось, тлело где-то в нем и вот вдруг вспыхнуло.
– Их ученые, историки нередко заявляли, что славяне – это удобрение, грубо говоря – навоз для немцев, и что к нам можно относиться, как американцы относятся к неграм...
– Гляди-ко ты! – удивленно вскричал Фроленков, толкнув кума локтем. Денисов, крякнув, проворчал:
– Да ведь что же они, ученые-то...
– Нет! Мне это – обидно! Не согласен я.
Клим Иванович Самгин говорил и, слушая свою речь, убеждался, что он верует в то, что говорит, и, делая паузы, быстро соображал:
«Наступило время, когда необходимо верить, и я подчиняюсь необходимости? Нет, не так, не то, а – есть слова, которые не обладают тенью, не влекут за собою противоречий. Это – родина, отечество... Отечество в опасности».
Сквозь свои слова и мысли он слышал упрямое бормотанье Денисова:
– В торговле немец вражду не показывает, в торговле он – аккуратный.
– Экой ты, кум, несуразный! – возражал Фроленков, наполняя рюмки светложелтой настойкой медового запаха. – Тебе все бы торговать! Ты весь город продать готов...
– Города – не продаются, – угрюмо откликнулся Денисов, а дочь его доказывала Самгину, что Генрик Сенкевич историчен более, чем Дюма-отец.
После двух рюмок золотистой настойки Клим Иванович почувствовал, что у него отяжелел язык, ноги как будто отнялись, не двигаются.
«Как же я встану и пойду?» – соображал он, слушая настойчивый голосок:
– Дюма совершенно игнорирует пейзаж... Денисов глухо кричал:
– Сказано: «Не убей!»
– Кем сказано? – весело спрашивал Фроленков. – Ведь – вот он, вопрос-от, – кем сказано?
– Богом!
– Он – разнородно говорил. Он Исусу-то Навину иначе сказал: «Бей, я солнце в небе задержу».
– Ни-че-го подобного бог не говорил!
– Задержу солнце, чтоб тебе видно было – кого бить!
– Вы, крестный, путаете, – убеждала Софья. Затем все померкло, растаяло, исчезло. К сознательному бытию Клим Иванович Самгин возвратился разбуженный режущей болью в животе, можно было думать, что в кишках двигается и скрежещет битое стекло. Он лежал на мягчайшей, жаркой перине, утопая в ней, как в тесте, за окном сияло солнце, богато освещая деревья, украшенные инеем, а дом был наполнен непоколебимой тишиной, кроме боли – не слышно было ничего. Самгин застонал, – кроме боли, он испытывал еще и конфуз. Тотчас же в стене лопнули обои, отлетел в сторону квадратный их кусок, обнаружилась дверь, в комнату влез Денисов, сказал:
– Ага! – и этим положил начало нового трудного дня. Он проводил гостя в клозет, который имел право на чин ватерклозета, ибо унитаз промывался водой из бака. Рядом с этим учреждением оказалось не менее культурное – ванна, и вода в ней уже была заботливо согрета.
Большой, тяжелый человек оказался очень ловким, быстро наполнил ванну водою, принес простыни, полотенца, нижнее белье, попутно сообщил, что:
– Морозец ударил на одиннадцать градусов, слава богу!
И даже попытался успокоить сконфуженного гостя:
– Это – медовуха действует. Ешь – сколько хочешь, она как метлой чистит. Немцы больше четырех рюмок .не поднимают ее, балдеют. Вообще медовуха – укрощает. Секрет жены, он у нее в роду лет сотню держится, а то и больше. Даже и я не знаю, в чем тут дело, кроме крепости, а крепость – не так уж велика, 65—70 градусов.
Когда Самгин вышел к чаю – у самовара оказался только один городской голова в синей рубахе, в рыжем шерстяном жилете, в широчайших шароварах черного сукна и в меховых туфлях. Красное лицо его, налитое жиром, не очень украшала жидкая серая борода, на шишковатом черепе волосы, тоже серые, росли скупо. Маленькие опухшие желтые глазки сияли благодушно.
– Ваши еще спят? – спросил Самгин.
– Мои-то? Не-ет, теперь ведь время позднее, одиннадцать скоро. Дочь – на лепетицию ушла, тут любители театра имеются, жена исправника командует. А мать где-нибудь дома, на той половине.
– Не представляю, как я с расстроенным желудком поеду в это село, – прискорбно сказал Самгин.
– А – и не надо ехать! Кум правильно сообразил: устали вы, куда вам ехать? Он лошадь послал за уполномоченными, к вечеру явятся. А вам бы пришлось ехать часов в шесть утра. Вы – как желаете: у меня останетесь или к Фроленкову перейдете?
Состояние желудка не позволяло Самгину путешествовать, он сказал, что предпочел бы остаться.
– Сделайте одолжение! За честь сочту, – с радостью откликнулся Денисов и даже, привстав со стула, поклонился гостю. А после этого начал:
– Непонятна некоторым нам здесь причина войны. Конечно, это – как вы вчерась говорили – немцы, русских не любят, да – ведь какие немцы-то? Торговцу, особенно оптовому, крупному... ведь ему это не надобно – любить. Ведь – извините наше понимание – торговец любит торговлю, фабрикант – фабрикацию. Кум Фроленков суда строить любит. У него вот имеется мысль построить баржу для мелкой воды, такую, чтоб она скользила по воде, не оседая в нее, – понимаете? Каждый должен любить свое дело... Да. Вот я, например, торгую гусем. Гусь мой живет – кормится у минчуков, у литваков, это – к немцам близко.
Говорил он с паузами, в паузах надувал щеки и, оттопыривая губы, шипел, выпускал длинную струю воздуха.
– Изжога мучает, – объяснил он шипение. Тяжелый, бесцветный голос его звучал напряженно, и казалось, что глава города надеется не на смысл слов, а только на силу голоса. – У нас тут говорят, что намерение царя – возместить немцам за ихнюю помеху в турецкой войне. Будто в ту пору дедушка его протянул руку, чтобы Константинополь взять, а немцы – не дали. Англичане тогда заодно с немцами были, а теперь вот против и царю сказано: бери Константинополь, мы – не против этого, только – немцев побей. И французы – тоже, французы – они уж прямо: что хошь бери, да – избавь от немцев...
Слушать Денисова было скучно, и Клим Иванович Самгин, изнывая, нетерпеливо ждал чего-то, что остановило бы тугую, тяжелую речь. Дом наполнен был непоколебимой, теплой тишиной, лишь однажды где-то красноречиво прозвучал голос женщины:
– Иди, скажи ему, сукину сыну...
– Жена воюет, – объяснил Денисов. – Беда с работниками, совсем беда!
И, тяжко вздохнув, добавил:
– Покойник отец учил меня: «Работник должен ходить пред тобой, как монах пред игуменом». Н-да... А теперь он, работник, – разбойник, все чтобы бить да ломать, а кроме того – жрать да спать.
Тут Самгин вспомнил, что у него есть хороший предлог спрятаться от хозяина, и сказал ему, что до приезда уполномоченных он должен кое-что прочитать в деле.
– Пожалуйста, пожалуйста, – торопливо откликнулся Денисов. – Чемоданчик ваш кум прислал сюда...
«Предусмотрительно», – подумал Самгин, осматриваясь в светлой комнате, с двумя окнами на двор и на улицу, с огромным фикусом в углу, с картиной Якобия, премией «Нивы», изображавшей царицу Екатерину Вторую и шведского принца. Картина висела над широким зеленым диваном, на окнах – клетки с птицами, в одной хлопотал важный красногрудый снегирь, в другой грустно сидела на жердочке аккуратненькая серая птичка.
«Соловей, должно быть», – решил Самгин.
Сел на диван, закурил и, прищурясь, задумался. Но желудок беспокоил, мешал думать, и мысль лениво одевалась в неопределенные слова:
«Да, вот они...»
Память показывала десятка два уездных городов, в которых он бывал. Таких городов – сотни. Людей, подобных Денисову и Фроленкову, наверное, сотни тысяч. Они же – большинство населения городов губернских. Люди невежественные, но умные, рабочие люди... В их руках – ремесла, мелкая торговля. Да и деревня в их руках, они снабжают ее товарами.
«Их, разумеется, значительно больше, чем фабрично-заводских рабочих. Это надобно точно узнать», – решил Клим Иванович, тревожно прислушиваясь, как что-то бурчит в животе, передразнивая гром. Унизительно было каждые полчаса бегать в уборную, прерывая ход важных дум. Но, когда он возвращался на диван, возвращались и мысли.
Он подумал, что гимназия, а особенно – университет лишают этих людей своеобразия, а ведь, в сущности, именно в этом своеобразии языка, мысли, быта, во всем, что еще сохраняет в себе отзвуки исторического прошлого, именно в этом подлинное лицо нации.
«Изображая отрицательные характеры и явления, наша литература прошла мимо этих людей. Это – главный грех критического, морализирующего искусства. Наше искусство – насквозь морально».
Явилась кругленькая хозяйка с подносом в руках и сказала сухим, свистящим сквозь зубы голосом, совершенно не совпадающим с ее фигурой, пышной, как оладья:
– Вот, выпейте-ко бульончику – обязательно закрепит!
Выпил и уже через десяток минут почувствовал себя менее тревожно, точно смазанным изнутри.
Уже смеркалось, когда явился веселый, румяный Фроленков и с ним трое мужиков: один – тоже высокий, широколобый, рыжий, на деревянной ноге, с палочкой в мохнатой лапе, суровое, носатое лицо окружено аккуратно подстриженной бородой, глаза спрятаны под густыми бровями, на его могучей фигуре синий кафтан; другой – пониже ростом, лысый, седобородый, курносый, в полукафтанье на вате, в сапогах из какой-то негнущейся кожи, точно из кровельного железа.
«Таких много», – определил Самгин, внимательно присматриваясь к третьему.
Третий – в женской кацавейке, подпоясанной шалью, свернутой жгутом, в серых валяных сапогах. На первый взгляд он показался ниже товарищей, но это потому, что был очень широк в плечах. Голова его в шапке седых курчавых волос, такими же волосами густо заросло лицо, в бороде торчал нос, большой и прямой, точно у дятла, блестели черные глаза. Начиная с головы, человек этот удивлял своей лохматостью, из дырявой кацавейки торчали клочья ваты, на животе – бахрома шали, – как будто его пытались обтесать, обстрогать, сделать не таким широким и угловатым, но обтесать не удалось, он так и остался весь в затесах, в стружках.
– Вот, значит, мы и здесь, – сообщил Фроленков. – Вот это вот и есть самые они – уполномоченные...
Черные глаза лохматого мужика побегали по лицу Самгина и, найдя его глаза, неприятно остановились на них, точно приклеенные.
– Это – герой японский Дудоров, Степан, это – мудрец наш Егерев, Михаиле Степанов...
– А я – Ловцов, Максим, – звучно сказал лохматый. – Эти двое уполномочены были дело вести, а меня общество уполномочило на мировую.
На товарищей своих он пренебрежительно махнул рукой: они стояли по обе стороны двери, как стража.
– Садитесь, – неохотно сказал им Денисов, они покорно сели, а Ловцов выступил шага на два вперед, пошаркал ногами по полу, как бы испытывая его прочность, и продолжал:
– И чтобы не мямлить, не хитрить, так я сразу...
– Ты погоди, – куда ты? – вскричал Фроленков.
– Сразу и требую: объявите – какие ваши условия?
– Ах ты, господи! – вскричал Фроленков.
– Ты, Анисим, – не поймана щука, ты не трепещи! Бери кума за пример – сидит, как чугунный памятник на кладбище.
– А тебе бы не задираться, Ловцов! – угрюмо посоветовал голова.
– Как это я задираюсь? Я – просто объяснил господину адвокату, зачем я послан...
На высоких нотах голос Ловцова срывался, всхрапывал. Стоял этот мужик «фертом», сунув ладони рук за опояску, за шаль, отведя локти в сторону. Волосы на лице его неприглядно шевелились, точно росли, пристальный взгляд раздражал Самгина.
– Доверитель мой предлагает: отказаться от предъявленного им иска к обществу крестьян села Песочного, а общество должно отказаться от встречного иска к нему, Ногайцеву.
– Тут и все? – спросил Ловцов.
– Да. Все.
– Дешево. А – как же убытки наши? Убытки-то кто возместит нам?
– Что вы называете убытками? – осведомился Самгин и немедленно получил подробное объяснение:
– Убытками называются цифры денег. Адвокат, который раньше вас тянул это дело три года с лишком и тоже прятал под очками бесстыжие глаза...
– Ведь вон как говорит, смутьян! – весело подчеркнул Фроленков.
– Он перебрал у нас цифру денег в 1160 рублей – раз! На 950 рублей у нас расписки его имеются.
– Он – помер, – напомнил Самгин.
– Наследников потревожим, – сообщил лохматый мужик. – Желаем получить сумму за четырехлетнее пользование лугами – два. Рендатель лугов – вот он!
Ловцов указал кивком головы в сторону Фроленкова, – веселый красавец вытянул в его сторону руку, сложив пальцы кукишем, но Ловцов только головой тряхнул, продолжая быстро и спокойно:
– У нас – все сосчитано.
– У меня – тоже, – сказал Фроленков.
– С господина Ногайцева желаем получить пятьсот целковых за расходы, за беззаконное его дело, за стачку с монахами, за фальшивые планы.
– Все это, все ваши требования... наивны, не имеют под собой оснований, – прервал его Самгин, чувствуя, что не может сдержать раздражения, которое вызывал у него упорный, непоколебимый взгляд черных глаз. – Ногайцев – гасит иск и готов уплатить вам двести рублей. Имейте в виду: он может и не платить...
– За-аплотит! – спокойно возразил Ловцов. –И Фроленков заплотит.
– Да – ну? – игриво спросил Фроленков.
– Обязательно заплотишь, Анисим! 1930 целковых. Хошь ты и с полицией сено отбирал у нас, а все-таки оно краденое...
– Вот – извольте видеть, как он говорит, – пожаловался Фроленков. – Эх ты, Максим, когда ты угомонишься, сумасшедший таракан?..
Самгин встал, сердито сказав, что дело сводится исключительно к прекращению иска Ногайцева, к уплате им двухсот рублей.
– Больше ни о чем я не могу и не буду говорить, – решительно заявил он.
– А вы – чего молчите? – строго крикнул Фроленков на хромого и Егерева.
– Да ведь мы – что же? Мы вроде как свидетели, – тихо ответил Егерев, а Дудоров – добавил:
– Нам – не верят, вот – Максима послали.
– Меня послали того ради, что вы – трусы, а мне бояться некого, уж достаточно пуган, – сказал Ловцов.
Денисов тоже попробовал встать, но только махнул рукой:
– Идите в кухню, Егерев, пейте чай. А Ловцов повернулся спиной к солидным людям и сказал:
– Вы – не можете? Понимаю: вы противоположная сторона. Мы против вас своего адвоката поставим.
Ушли. Фроленков плотно притворил за ними дверь и обратился к Самгину:
– Вот, не угодно ли? Но его речь угрюмо прервал Денисов.
– Напрасно ты, кум, ко мне привел их. У меня в этом деле интересу нет. Теперь станут говорить, что и я тоже в чепуху эту впутался...
– А ты будто не впутан? – спросил Фроленков, усмехаясь. – Вот, Клим Иваныч, видели, какой характерный мужичонка? Нет у него ни кола, ни двора, ничего ему не жалко, только бы смутьянить! И ведь почти в каждом селе имеется один-два подобных, бездушных. Этот даже и в тюрьмах сиживал, и по этапам гоняли его, теперь обязан полицией безвыездно жить на родине. А он жить вовсе не умеет, только вредит. Беда деревне от эдаких.
– Все пятый год нагрешил... Москва насорила, – хмуро вставил Денисов.
– Верно! – согласился Фроленков. – Много виновата Москва пред нами, пред Россией... ей-богу, право!
– Послушать бы, чего он там говорит, – предложил Денисов, грузно вставая на ноги, и осторожно вышел из комнаты, оставив за собой ворчливую жалобу:
– Ты все-таки, Анисим, напрасно привел их ко мне...
– Ну, ничего, потерпишь, – пробормотал красавец вслед ему и присел на диван рядом с Самгиным. – Н-да, Москва... В шестом году прибыл сюда слободской здешний мужик Постников, Сергей, три года жил в Москве в дворниках, а до того – тихой был работник, мягкой... И такие начал он тут дела развертывать, что схватили его, увезли в Новгород да там и повесили. Поспешно было сделано: в час дня осудили, а наутро – казнь. Я свидетелем в деле его был: сильно удивлялся! Стоит он, эдакой, непричесанный, а говорит судьям, как власть имущий.
Рассказывал Фроленков мягко, спокойно поглаживал бороду обеими руками, раскладывал ее по жилету, румяное лицо его благосклонно улыбалось.
«Поучает меня, как юношу», – отметил Самгин, тоже благосклонно.
– Конечно – Москва. Думу выспорила. Дума, конечно... может пользу принести. Все зависимо от людей. От нас в Думу Ногайцев попал. Его, в пятом году, потрепали мужики, испугался он, продал землишку Денисову, рощицу я купил. А теперь Ногайцева-то снова в помещики потянуло... И – напутал. Смиренномудрый, в графа Толстого верует, а – жаден. Так жаден, что нам даже и смешно, – жаден, а – неумелый.
Дверь тихонько приоткрылась, заглянул городской голова, поманил пальцами – Фроленков встал, улыбаясь, подмигнул Самгину.







