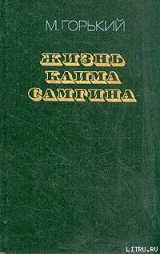
Текст книги "Жизнь Клима Самгина (Сорок лет). Повесть. Часть четвертая"
Автор книги: Максим Горький
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 34 страниц)
Самгин, слушая такие рассказы и рассуждения, задумчиво и молча курил и думал, что все это не к лицу маленькой женщине, бывшей кокотке, не к лицу ей и чем-то немножко мешает ему. Но он все более убеждался, что из всех женщин, с которыми он жил, эта – самая легкая и удобная для него. И едва ли он много проиграл, потеряв Таисью.
Свою биографию Елена рассказала очень кратко и прерывая рассказ длинными паузами: бабушка ее Ивонна Данжеро была акробаткой в цирке, сломала ногу, а потом сошлась с тамбовским помещиком, родила дочь, помещик помер, бабушка открыла магазин мод в Тамбове. Мать училась в гимназии, кончила, в это время бабушка умерла, задавленная пожарной командой. Мать преподавала в гимназии французский и немецкий языки, а ее отдала в балетную школу, откуда она попала в руки старичка, директора какого-то департамента министерства финансов Василия Ивановича Ланена.
– А после него – дальше! – просто закончила она.
– А – мать? – спросил Самгин.
– Умерла в Крыму от чахотки. Отец, учитель физики, бросил ее, когда мне было пять или шесть лет.
Самгину казалось, что теперь Елена живет чистоплотно и хотя сохранила старые знакомства, но уже не принимает участия в кутежах и даже, как он заметил по отношению Лаптева к ней, пользуется дружелюбием кутил.
Он был с нею в Государственной думе в тот день, когда там слушали запрос об убийствах рабочих на Ленских промыслах.
– В ложе министров налево, крайний – премьер – Макаров, – знаешь? – шептала Елена. – Нет, подумай, – продолжала она шептать, – я этого гуся без штанов видела у одной подруги-француженки, а ему поручили Россией командовать... Вот это – анекдот!
Ее шопот досадно мешал Самгину сравнивать картину заседания парижского парламента с картиной, развернутой пред ним в этот час. Там, в Париже, сидели фигуры в большинстве однообразно тяжеловатые, коренастые, – сидели спокойно и свободно, как у себя дома, уверенные, что они воплощают в себе волю народа Франции. Среди них немало юристов, знатоков права, и юристы стоят во главе их, руководят ими. Эти люди живут на земле, которая не качается под ними. Они представляют давно организованные партии, каждая партия имеет свою историю, свои традиции.
Тут Самгину вспомнилось произнесенное на собрании слово – отечество.
«У этих людей с 789 года есть отечество. Они его завоевали».
– Вот уж кто умеет рассказывать анекдоты – это он, Макаров, – шептала Елена. – А посмотри, какая противная морда у Маркова. И этот бездарный паяц Пуришкевич. Вертится, точно его поджаривают. Не очень солидное сборище, а?
– Да, – согласился Самгин, напряженно рассматривая людей, которые хотят быть законодателями, и думая:
«Что может дать мне Ногайцев?»
Ногайцев извивался в кресле рядом с толстым, рыжебородым, лысоватым человеком в поддевке. Самгину казалось, что шея этого человека гораздо шире головы и голова не покоится на шее, а воткнута в нее и качается на ней, точно арбуз на блюде, которое толкает кто-то. Отечество этого человека, вероятно, ограничено пределами его уезда или губернии. Марков похож на провинциального дьякона, у него скулы инородца, мордовские скулы. Родзянко – на метр-д-отеля. Преобладают какие-то люди без лиц и, вероятно, без речей. Эти люди, заполняющие амфитеатр, слишком разнообразно одетые, ведут себя нервозно, точно школьники в классе, из которого ушел учитель. Перешептываются, наклоняясь друг к другу, подскакивая в креслах. Вот обернулся к депутату, сидящему сзади его, профессор Милюков, человек с круглой серебряной головкой, красным личиком новорожденного и плотным рядом острых блестящих зубов. Он улыбается, как бы готовясь укусить. Этот имеет представление об отечестве. Это – величина. А – кто еще равен ему в разноплеменном сборище людей, которые перешептываются, оглядываются, слушая, как один из них, размахивая рукою, читает какую-то бумагу, прикрыв ею свое лицо? Впереди их, в большом ящике, блестят золоченые мундиры министров, и над одним мундиром трясется, должно быть, от смеха, седенькая бородка министра юстиции.
Клим Иванович Самгин был не настолько честолюбив, чтоб представить себя одним из депутатов или даже лидером партии, но он вспомнил мнение Лютова о нем и, нимало не напрягая воображение, вполне ясно увидел себя в ложе членов правительства.
Вот, наконец, произнесена фраза: «Так было, так будет». Она вызвала шум, сердитый, угрюмый, на левых скамьях, громкие рукоплескания монархистов. Особенно громко хлопая, стоя, широко размахивая руками, чело-вис в поддевке, встряхивая маленькой головкой, точно пытаясь сбросить ее с шеи, неестественно толстой. Ногайцев сидел, спрятав голову в плечи, согнув спину, положив руки на пюпитр и как будто собираясь прыгнуть. Все люди в зале шевелились, точно весь зал встряхнул чей-то толчок. Фразу сказал министр с лицом солидного лакея первоклассной гостиницы, он сказал ее нахмурив лицо и тоном пророка.
– Ах, болтун! Это он у Леонида Андреева взял, – прошептала Елена, чему-то радуясь, и даже толкнула Самгина локтем в бок.
Самгин вспомнил наслаждение смелостью, испытанное им на встрече Нового года, и подумал, что, наверное, этот министр сейчас испытал такое же наслаждение. Затем вспомнил, как укротитель Парижской коммуны, генерал Галифе, встреченный в парламенте криками:
«Убийца!» – сказал, топнув ногой: «Убийца? Здесь!» Ой, как закричали!
– Знал бы ты, какой он дурак, этот Макаров, – точно оса, жужжала Елена в ухо ему. – А вон этот, который наклонился к Набокову, Шура Протопопов, забавный человечек. Набоков очень элегантный мужчина. А вообще какие все неуклюжие, серые...
Клим Иванович согласно кивнул головой. Да, пожалуй, и не нужно обладать особенной смелостью для того, чтоб говорить с этими людями решительно, тоном горбатой девочки. Пред ним, одна за другой, мелькали, точно падая куда-то, полузабытые картины: полиция загоняет московских студентов в манеж, мужики и бабы срывают замок с двери хлебного «магазина», вот поднимают колокол на колокольню; криками ура встречают голубовато-серого царя тысячи обывателей Москвы, так же встречают его в Нижнем-Новгороде, тысяча людей всех сословий стоит на коленях пред Зимним дворцом, поет «Боже, царя храни», кричит ура. А этот царь, по общему мнению, – явное ничтожество, бездарный, безвольный человек, которым будто бы руководит немка-жена и какой-то проходимец, мужик из Сибири, может быть, потомок уголовного преступника. Вот, наконец, десятки тысяч москвичей идут под красными флагами за красным, в цветах, гробом революционера Николая Баумана, после чего их расстреливают.
«Здесь собрались представители тех, которые стояли на коленях, тех, кого расстреливали, и те, кто приказывает расстреливать. Люди, в массе, так же бездарны и безвольны, как этот их царь. Люди только тогда становятся силой, творящей историю, когда во главе их становится какой-нибудь смельчак, бывший поручик Наполеон Бонапарте. Да, – «так было, так будет».
Елена все шептала, называя имена депутатов, характеризуя их, Клим Иванович Самгин наклонил к лицу ее голову свою, подставил ухо, делая вид, что слушает, а сам быстро соображал:
«...Нужна смелость и – простой, ясный лозунг: Франция, отечество, страна отцов. Этот лозунг понятен только буржуазии, которая непрерывно, из рода в род, развивает промысла и торговлю своего отечества, командует его хозяйством, заставляет работать на свое отечество африканцев, индусов, китайцев. На каждого англичанина работает пятеро индусов. Возможен ли лозунг – Россия, отечество в стране, где непрерывно развертывается драма раскола отцов и детей, где почти каждое десятилетие разрывает интеллигентов на шестидесятников, семидесятников, народников, народовольцев, марксистов, толстовцев, мистиков?..»
Клим Иванович чувствовал себя так, точно где-то внутри его прорвался нарыв, который мешал ему дышать легко. С этим настроением легкости, смелости он вышел из Государственной думы, и через несколько дней, в этом же настроении, он говорил в гостиной известного адвоката:
– Через несколько месяцев Романовы намерены устроить празднование трехсотлетия своей власти над Россией. Государственная дума ассигновала на этот праздник пятьсот тысяч рублей. Как отнесемся мы, интеллигенция, к этому праздничку? Не следует ли нам вспомнить, чем были наполнены эти три сотни лет?
Он старался говорить не очень громко, памятуя, что с годами суховатый голос его звучит на высоких нотах все более резко и неприятно. Он избегал пафоса, не позволял себе горячиться, а когда говорил то, что казалось ему особенно значительным, – понижал голос, заметив, что этим приемом усиливает напряжение внимания слушателей. Говорил он сняв очки, полагая, что блеск и выражение близоруких глаз весьма выгодно подчеркивает силу слов.
Он сделал краткий очерк генеалогии Романовых, указал, что последним членом этой русской фамилии была дочь Петра Первого Елизавета, а после ее престол империи российской занял немец, герцог Гольштейн-Готторпский. Он был уверен, что для некоторых слушателей этот исторический факт будет новостью, и ему показалось, что он не ошибся, некоторые из слушателей были явно удивлены. Оценив их невежество презрительной усмешкой, господин Самгин стал говорить смелее. Перечислил все народные восстания от Разина до Пугачева, не забыв и о бунте Кондрата Булавина, о котором он знал только то, что был донской казак Булавин и был бунт, а чего хотел донской казак и в каких формах выразилось организованное им движение, – об этом он знал столько же, как и все.
– Юноша Михаил Романов был выбран боярами в цари за глупость, – докторально сообщал Самгин слушателям. – Единственный умный царь из этой семьи – Петр Первый, и это было так неестественно, что черный народ признал помазанника божия антихристом, слугой Сатаны, а некоторые из бояр подозревали в нем сына патриарха Никона, согрешившего с царицей. – Кратко изобразив царствование цариц, Александра, Николая Первого и еще двух Александров, он сказал: – Весьма похоже, что ныне царствующий Николай Второй – родня Михаилу Романову только по глупости.
Тут он сделал перерыв, отхлебнул глоток чая, почесал правый висок ногтем мизинца и, глубоко вздохнув, продолжал:
– Итак, Россия, отечество наше, будет праздновать триста лет власти людей, о которых в высшей степени трудно сказать что-либо похвальное. Наш конституционный царь начал свое царствование Ходынкой, продолжил Кровавым воскресеньем 9 Января пятого года и недавними убийствами рабочих Ленских приисков.
– Вы забыли о войне с Москвой, – крикнул кто-то, не видимый из темного угла.
– Нет, не забыл, – откликнулся Самгин. – Я все помню, но останавливаюсь на деяниях самодержавия наиболее эффектных.
– Уж чего эффектнее!
– Московские события пятого года я хорошо знаю, но у меня по этому поводу есть свое мнение, и – будучи высказано мною сейчас, – оно отвело бы нас далеко в сторону от избранной мною темы.
– Просим не прерывать, – мрачно и угрожающе произнес высокий человек с длинной, узкой бородой и закрученными в кольца усами. Он сидел против Самгина и безуспешно пытался поймать ложкой чаинку в стакане чая, давно остывшего.
Клим Иванович Самгин продолжал говорить. Он выразил – в форме вопроса – опасение: не пойдет [ли] верноподданный народ, как в 904 году, на Дворцовую площадь и не встанет ли на колени пред дворцом царя по случаю трехсотлетия.
– Мы, русские, слишком охотно становимся на колени не только пред царями и пред губернаторами, но и пред учителями. Помните:
Учитель! Перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колена.
– Неверно цитируете, – с удовольствием отметил человек из угла.
– Заметив, как легко мы преклоняем колена, – этой нашей склонностью воспользовалась Япония, а вслед за нею – немцы, заставив нас заключить с ними торговый договор, выгодный только для них. Срок действия этого договора истекает в четырнадцатом году. Правительство увеличивает армию, усиливает флот, поощряет промышленность, работающую на войну. Это – предусмотрительно. Балканские войны никогда еще не обходились без нашего участия...
– Мне кажется возможным, что самодержавие в год своего трехвекового юбилея предложит нам – в качестве подарка – войну.
– А даже маленькая победа может принести нам большой вред, – крикнул человек дз угла, бесцеремонно перебив речь Самгина, и заставил его сказать:
– Я – кончил.
Гости молчали, ожидая, что скажет хозяин. Величественный, точно индюк, хозяин встал, встряхнул полуседой курчавой головой артиста, погладил ладонью левой руки бритую щеку, голубоватого цвета, и, сбивая пальцем пепел папиросы в пепельницу, заговорил сдобным баритоном:
– Очень интересная речь. Разрешу себе подчеркнуть только один ее недостаток: чуть-чуть много истории. Ах, господа, история! – вполголоса н устало воскликнул он. – Кто знает ее? Она еще не написана, нет! Ее писали, как роман, для утешения людей, которые ищут и не находят смысла бытия, – я говорю не о временном смысле жизни, не о том, что диктует нам властное завтра, а о смысле бытия человечества, засеявшего плотью своей нашу планету так тесно. Историю пишут для оправдания и прославления деяний нации, расы, империи. В конце концов история – это памятная книга несчастий, страданий и вынужденных преступлений наших предков. И внимательное чтение истории внушает нам более убедительно, чем евангелие: будьте милостивы друг к другу.
Он устало прикрыл глаза, покачал головою, красивым движением кисти швырнул папиросу в пепельницу, – швырнул ее, как отыгранную карту, и, вздохнув глубоко, вскинув энергично красивую голову, продолжал:
– История жизни великих людей мира сего – вот подлинная история, которую необходимо знать всем, кто не хочет обольщаться иллюзиями, мечтами о возможности счастья всего человечества. Знаем ли мы среди величайших людей земли хоть одного, который был бы счастлив? Нет, не знаем... ^ утверждаю: не знаем и не можем знать, потому что даже при наших очень скромных представлениях о счастье – оно не было испытано никем из великих.
Лицо его приняло горестное выражение, и в сочном голосе тоже звучала горечь. Он играл голосом и словами с тонким, отлично разработанным искусством талантливого лицедея, удивляя обилием неожиданных интонаций, певучестью слов, которыми он красиво облекал иронию и печаль, тихий гнев и лирическое сознание безнадежности бытия. С чувством благоговения и обожания он произносил имена – Леонардо Винчи, Джонатан Свифт, Верлен, Флобер, Шекспир, Байрон, Пушкин, Лермонтов, – бесконечное количество имен, – и называл всех носителей их великомучениками:
– Вот они, великомученики нашей церкви, церкви интеллектуалистов, великомученики духа, каких не знает и не имеет церковь Христа...
– Господа! – возгласил он с восторгом, искусно соединенным с печалью. – Чего можем требовать мы, люди, от жизни, если даже боги наши глубоко несчастны? Если даже религии в их большинстве – есть религии страдающих богов – Диониса, Будды, Христа?
Он замолчал, покачивая головой, поглаживая широкий лоб, правая рука его медленно опускалась, опустился на стул и весь он, точно растаяв. Ему все согласно аплодировали, а человек из угла сказал:
– Аминь! Но – чорт с ней, с истиной, я все-таки буду жить. Буду, наперекор всем истинам...
– Вы, по обыкновению, глумитесь, Харламов, – печально, однако как будто и сердито сказал хозяин. – Вы – запоздалый нигилист, вот кто вы, – добавил он н пригласил ужинать, но Елена отказалась. Самгин пошел провожать ее. Было уже поздно и пустынно, город глухо ворчал, засыпая. Нагретые за день дома, остывая, дышали тяжелыми запахами из каждых ворот. На одной улице луна освещала только верхние этажи домов на левой стороне, а в следующей улице только мостовую, и это раздражало Самгина.
– Ты послушал бы, как он читает монолог Гамлета или Антония. Первоклассный артист. Говорят, Суворин звал его в свой театр на любых условиях.
Самгин был недоволен собой, чувствуя, что этот красавец стер его речь, как стирают тряпкой надпись мелом на школьной доске. Казалось, что это понято и Еленой, отчего она и говорит так, как будто хочет утешить его, обиженного.
«Дура», – мысленно сказал он ей и спросил: – Это он часто играет в пессимизм?
Она охотно ответила:
– Нет, он вообще веселый, но дома выдерживает стиль. У него нелады с женой, он женат. Она очень богатая, дочь фабриканта. Говорят – она ему денег не дает, а он – ленив, делами занимается мало, стишки пишет, статейки в «Новом времени».
Самгин уже не слушал ее, думая, что во Франции такой тип, вероятно, не писал бы стихов, которых никто не знает, а сидел в парламенте...
«Мы ленивы, не любопытны», – вспомнил он и тотчас подумал: «Он – никого не цитировал. Это – признак самоуверенности. Игра в пессимизм – простенькая игра. Но красиво сказать – он умеет. Мне нужно взять себя в руки», – решил Клим Иванович Самгин, чувствуя, что время скользит мимо его с такой быстротой, как будто все, наполняющее его, катилось под гору. Но быстрая смена событий не совпадала с медленностью, которая делала Клима Ивановича заметной фигурой. С ним любезно здоровались крупные представители адвокатуры, его приглашали на различные собрания, когда он говорил, его слушали внимательно, все это – было, но не удовлетворяло. Он очень хорошо мог развивать чужие мысли, подкрепляя их множеством цитат, нередко оригинальных, запас его памяти был неисчерпаем. Но он чувствовал, что его знания не сгруппированы в стройную систему, не стиснуты какой-то единой идеей. Он издавна привык думать, что идея – это форма организации фактов, результат механической деятельности разума, и уверен был, что основное человеческое коренится в таинственном качестве, которое создает исключительно одаренных людей, каноника Джонатана Свифта, лорда Байрона, князя Кропоткина и других этого рода. Это качество скрыто глубоко в области эмоции, и оно обеспечивает человеку полную свободу, полную независимость мысли от насилия истории, эпохи, класса. Клим Иванович Самгин понимал, что это уже – идея, хотя и не новая, но – его, продуманная, выношенная лично им. Но он был все-таки настолько умен, что видел: в его обладании эта идея бесплодна. Она тоже является как будто результатом поверхностной, механической деятельности разума и даже не способна к работе организации фактов в стройную систему фраз – фокусу, который легко доступен даже бездарным людям. Как все талантливые люди, биографии которых он знал, он был недоволен жизнью, недоволен людями, и он чувствовал, что в нем, как нарыв, образуется острое недовольство самим собою. Оно поставило пред ним тревожный вопрос:
«Неужели я эмоционально так беден, что останусь на всю жизнь таким, каков есть?»
Он вспоминал, как оценивали его в детстве, как заметен был он в юности, в первые годы жизни с Варварой. Это несколько утешало его.
Елена уехала с какой-то компанией на пароходе по Волге, затем она проедет в Кисловодск и там будет ждать его. Да, ему тоже нужно полечиться нарзаном, нужно отдохнуть, он устал. Но он не хотел особенно подчеркивать характер своих отношений с этой слишком популярной и богатой дамой, это может повредить ему. Ее прошлое не забыто, и она нимало не заботится о том, чтоб его забыли. И, телеграммами откладывая свой приезд, Самгин дождался, что Елена отправилась через Одессу в Александрию, а оттуда – через Марсель в Париж на осенний сезон. Тогда он поехал в Кисловодск, прожил там пять недель и, не торопясь, через Тифлис, Баку, по Каспию в Астрахань и [по] Волге поднялся до Нижнего, побывал на ярмарке, посмотрел, как город чистится, готовясь праздновать трехсотлетие самодержавия, с той же целью побывал в Костроме. Все это очень развлекло его. Он много работал, часто выезжал в провинцию, все еще не мог кончить дела, принятые от Прозорова, а у него уже явилась своя клиентура, он даже взял помощника Ивана Харламова, человека со странностями: он почти непрерывно посвистывал сквозь зубы и нередко начинал вполголоса разговаривать сам с собой очень ласковым тоном:
– Не чуешь, Ваня, где тут кассационный повод?
Он был широкоплечий, большеголовый, черные волосы зачесаны на затылок и лежат плотно, как склеенные, обнажая высокий лоб, густые брови и круглые, точно виши», темные глаза в глубоких глазницах. Кожа на костлявом лице его серовата», на девой щеке–бархатная родника, величиной с двадцатикопеечную монету, хрящеватый нос загнут вниз крючком, а губы толстые и яркие.
В числе его странностей был интерес к литературе контрреволюционной, он знал множество различных брошюр, романов и почему-то настойчиво просвещал патрона:
– Вот, Клим Иванович, примечательная штучка наших дней – «Чума», роман Лопатина. Весь читать – не надо, я отметил несколько страничек, – усмехнетесь!
Желая понять человека, Самгин читал:
«Старики фабричные, помнившие дни восстания на Пресне, устраивали пародии военно-волевого суда и расстреливали всякого человека, одетого в казенную форму».
– Послушайте, Харламов, это же ложь? – кричал Самгин в комнату, где, посвистывая, работал помощник.
– Так у него, у Лопатина, все – ложь.
– Почему вас интересуют такие книги?
– Учусь, – отвечал Харламов. – А вы читали «Наше преступление» Родионова, «Больную Россию» Мережковского, «Оправдание национализма» Локотя, «Речи» Столыпина?..
Харламов, как будто хвастаясь, называл десятки книг. Самгин лежал, курил, слушал и думал, что странностями обзаводятся люди пустые, ничтожные, для того, чтоб их заметили, подали им милостину внимания.
«Это Михайловский, Николай Константинович, сказал – милостина внимания».
Над повестью Самгин не работал, исписал семнадцать страниц почтовой бумаги большого формата заметками, характеристиками Марины, Безбедова, решил сделать Бердникова организатором убийства, Безбедова – фактическим исполнителем и поставить за ними таинственной фигурой Крэйтона, затем начал изображать город, но получилась сухая статейка, вроде таких, какие обычны в словаре Брокгауза.
Изредка являлся Дронов, почти всегда нетрезвый, возбужденный, неряшливо одетый, глаза – красные, веки опухли.
– Тоську в Буй выслали. Костромской губернии, – рассказывал он. – Туда как будто раньше и не ссылали, чорт его знает что за город, жителя в нем две тысячи триста человек. Одна там, только какой-то поляк угряз, опростился, пчеловодством занимается. Она – ничего, не скучает, книг просит. Послал все новинки – не угодил! Пишет: «Что ты смеешься надо мной?» Вот как... Должно быть, она серьезно втяпалась в политику...
Об издании газеты он уже ж говорил, а на вопрос Самгина пробормотал:
– Какая теперь газета, к чорту! Я, брат, махнул деньгами и промахнулся.
«Кажется – лжет», – подумал Самгин и осведомился:
– Проиграл в карты?
– Цемент купил, кирпич... Большой спрос на строительные материалы... Надеялся продать с барышом. Надули на цементе...
Когда он рассказывал о Таисье, Самгин заметил, что Агафья в столовой перестала шуметь чайной посудой, а когда Дронов ушел, Самгин спросил рябую женщину:
– Слышали о судьбе Тоси?
– Слышала.
Хозяин смотрел на нее, ожидая, что она еще скажет. А она, поняв его, бойко сказала:
– Что ж —везде жить можно, была бы душа жива... У меня землячок один в ссылку-то дошел еле грамотным, а вернулся – статейки печатает...
«Это – не Анфимьевна», – подумал Самгин.
В должности «одной прислуги» она работала безукоризненно: вкусно готовила, держала квартиру в чистоте и порядке и сама держалась умело, не мозоля глаз хозяина. Вообще она не давала повода заменить ее другой женщиной, а Самгин хотел бы сделать это – он чувствовал в жилище своем присутствие чужого человека, – очень чужого, неглупого и способного самостоятельно оценивать факты, слова.
Как-то вечером Дронов явился с Тагильским, оба выпивши. Тагильского Самгин не видел с полгода и был неприятно удивлен его визитом, но, когда присмотрелся к его фигуре, – почувствовал злорадное любопытство: Тагильский нехорошо, почти неузнаваемо изменился. Его округлая, плотная фигура потеряла свою упругость, легкость, серый, затейливого покроя костюм был слишком широк, обнаруживал незаметную раньше угловатость движений, круглое лицо похудело, оплыло, и широко открылись незнакомые Самгину жалкие, собачьи глаза. Он и раньше был внешне несколько похож на Дронова, такой же кругленький, крепкий, звонкий, но раньше это сходство только подчеркивало неуклюжесть Ивана, а теперь Дронов казался пригляднее.
Чмокая губами, Тагильский нетрезво, с нелепыми паузами между слов рассказывал:
– В Киеве серьезно ставят дело об употреблении евреями христианской крови. – Тагильский захохотал, хлопая себя ладонями по коленам. – Это очень уместно накануне юбилея Романовых. Вы, Самгин, антисемит? Так нужно, чтоб вы заявили себя филосемитом, – понимаете? Дронов – анти, а вы – фило. А я – ни в тех, ни в сех или – глядя по обстоятельствам и – что выгоднее.
– Он думает, что это затеяно с целью создать в обществе еще одну трещину, – объяснил Дронов, раскачиваясь на стуле.
– Именно! – вскричал Тагильский. – Разобщить, разъединить. Глупо, общества – нет. Кого разъединять?
– Выпить – нечего? – спросил Дронов, а когда хозяин ответил утвердительно и строго: «Нечего!» – «Сейчас будет!..» – сказал Дронов. И ушел в кухню.
Самгин не успел протестовать против его самовольства, к тому же оно не явилось новостью. Иван не впервые посылал Агафью за своим любимым вином.
Чмокая, щурясь, раздувая дряблое лицо гримасами, Тагильский бормотал:
– Общество, народ – фикции! У нас – фикции. Вы знаете другую страну, где министры могли бы саботировать парламент – то есть народное представительство, а? У нас – саботируют. Уже несколько месяцев министры не посещают Думу. Эта наглость чиновников никого не возмущает. Никого. И вас не возмущает, а ведь вы...
Тагильский визгливо засмеялся, грозя пальцем Самгину; затем, отдуваясь, продолжал:
– А, знаете, я думал, что вы умный и потому прячете себя. Но вы прячетесь в сдержанном молчании, потому что не умный вы и боитесь обнаружить это. А я вот понял, какой вы...
– Поздравляю вас с этим, – сказал Самгин, не очень задетый пьяными словами.
– Вы – не обижайтесь, я тоже дурак. На деле Зотовой я мог бы одним ударом сделать карьеру.
– Каким образом? – спросил Самгин, невольно подвигаясь к нему и даже понизив голос.
– Мог бы. И цапнуть деньги, – говорил Тагильский, как в бреду.
– Вы узнали, кто убил?
Тагильский сидел опираясь руками о ручки кресла, наклонясь вперед, точно готовясь встать; облизав губы, он смотрел в лицо Самгина помутневшими глазами и бормотал.
– Я – знал, – сказал он, тряхнув головой. – Это – просто. Грабеж, как цель, исключен. Что остается? Ревность? Исключена. Еще что? Конкуренция. Надо было искать конкурента. Ясно?
– Да, но – кто же?
Самгин торопился услышать имя, соображая, что при Дронове Тагильский не станет говорить на эту тему.
– Фактический убийца, наверное, – Безбедов, которому обещана безнаказанность, вдохновитель – шайка мерзавцев, впрочем, людей вполне почтенных.
– Ты – про это дело? – (сказал) Дронов, входя, и вздохнул, садясь рядом с хозяином, потирая лоб. – Дельце это – заноза его, – сказал он, тыкая пальцем в плечо Тагильского, а тот говорил:
– Дом Безбедова купил судебный следователь. Подозрительно дешево купил. Рудоносная земля где-то за Уралом сдана в аренду или продана инженеру Попову, но это лицо подставное.
В памяти Клима Ивановича встала мягкая фигура Бердникова, прозвучал его жирный брызгающий смешок:
«П-фу-бу-бу-бу».
Вспомнить об этом человеке было естественно, но Самгин удивился: как далеко в прошлое отодвинулся Бердников, и как спокойно пренебрежительно, вспомнилось о нем. Самгин усмехнулся в отступил еще дальше от прошлого, подумав:
«И вся эта история с Мариной вовсе не так значительна, как я приучил себя думать о ней».
– Брось, – небрежно махнув, рукой, сказал Дронов. – Кому все это интересно? Жила одинокая, богатая вдова, ее за это укокали, выморочное имущество поступило в казну, казна его продает, вот и все, и – к чорту!
– Ты – глуп, Дронов, – возразил Тагильский, как будто трезвея, и, ударяя ладонью по ручке кресла, продолжал: – Если рядом со средневековым процессом об убийстве евреями воришки Ющннского, убитого наверняка воровкой Чеберяк, поставить на суде дело по убийству Зотовой и привлечь к нему сначала в. качестве свидетеля прокурора, зятя губернатора, – р-ручаюсь, что означенный свидетель превратился бы в обвиняемого...
– Сказка, – сквозь зубы выговорил Дронов, ожидающе поглядывая на дверь в столовую. – Фантазия, – добавил он.
– ...в незаконном прекращении следствия, которое не могло быть прекращено за смертью подозреваемого, ибо в делопроизводстве имелись документы, определенно говорившие о лицах, заинтересованных в убийстве более глубоко, чем Безбедов...
– Да поди ты к чертям! – крикнул Дронов, вскочив на ноги. – Надоел... как гусь! Го-го-го... Воевать хотим – вот это преступление, да-а! Еще Извольский говорил Суворину в восьмом году, что нам необходима удачная война все равно с кем, а теперь это убеждение большинства министров, монархистов и прочих... нигилистов.
Коротенькими шагами быстро измеряя комнату, заглядывая в столовую, он говорил, сердито фыркая, потирая бедра руками:
– Тыл готовим, чорт... Трехсотлетие-то для чего празднуется? Напомнить верноподданным, сукиным детям, о великих заслугах царей. Всероссийская торгово-промышленная выставка в Киеве будет.
– Война? – И – прекрасно, – вяло сказал Тагильский. – Нужно нечто катастрофическое. Война или революция...
– Нет, революцию-то ты не предвещай! Это ведь неверно, что «от слова – не станется». Когда за словами – факты, так неизбежно «станется». Да... Ну-ка, приглашай, хозяин, вино пить...
– Я – чаю, – сказал Тагильский.
– Есть и чай, идем!
Тагильский пошевелился в кресле, но не встал, а Дронов, взяв хозяина под руку, отвел его в столовую, где лампа над столом освещала сердито кипевший, ярко начищенный самовар, золотистое вино в двух бутылках, стекло и фарфор посуды.
– Ты – извини, что я привел его и вообще распоряжаюсь, – тихонько говорил Дронов, разливая вино.
– Можешь не извиняться, – разрешил Клим Иванович.
– Важный ты стал, значительная персона, – вздохнул Дронов. – Нашел свою тропу... очевидно. А я вот все болтаюсь в своей петле. Покамест – широка, еще не давит. Однако беспокойно. «Ты на гору, а чорт – за ногу». Тоська не отвечает на письма – в чем дело? Ведь – не бежала же? Не умерла?
Самгин слушал его невнимательно, думая: конечно, хорошо бы увидеть Бердникова на скамье подсудимых в качестве подстрекателя к убийству! Думал о гостях, как легко подчиняются они толчкам жизни, влиянию фактов, идей. Насколько он выше и независимее, чем они и вообще – люди, воспринимающие идеи, факты ненормально, болезненно.







