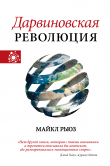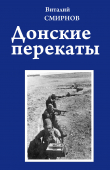Текст книги "Дарвин"
Автор книги: Максим Чертанов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 34 страниц)
Разъясняя ошибку людей, прочитавших у Дарвина противоположное сказанному, мы часто впадаем в ту же ошибку. «Защитники» Дарвина говорят, что не только нельзя применять его открытия к обществу, но и сам он этого не делал. Это не так, делал, и не только в «негритянском вопросе». Он говорил, что «цивилизованные» народы в войне побеждают «нецивилизованные», так Россия, защитившая Болгарию, победит Турцию, и это хорошо (за это он был обруган пангерманистом Марксом). Он также говорил, что цивилизованные и без войн вытесняют нецивилизованных, и это печально, но факт: так погибли многие народности, описанные в «Путешествии натуралиста», чуть не погибли индейцы США. Если мы думаем, что у нас малые народы не теснили, то это заблуждение. Они вымирали и вымирают, и для этого не обязательно идти на них военной силой, как было в XVIII веке с чукчами. П. Суляндзига, первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, о народе удэге: «Раньше было восемь этнических групп, четыре исчезли—у них вырубили тайгу». То же в благополучной Канаде. Можно сколько угодно говорить, что так нехорошо, но если ничего с этим не делать, то народы будут исчезать.
Еще Дарвин говорил, что хорошо бы здоровые телом и духом люди рожали больше, а больные и пьющие меньше, но принимать для этого меры нереально и морально неприемлемо. Иного мнения придерживались «социал-дарвинисты» (термин ввел историк Дж. Фишер в 1877 году): У. Рэтбоун, У. Бейджот, У Грег. (Дарвин о нем Гальтону: «…что-то лирическое, непонятное».) Сам Гальюн предлагал, чтобы государство решало, кому размножаться, Дарвин сказал, что это несерьезно. Тем не менее мы продолжаем слышать старый вздор о том, что «Дарвин придумал евгенику», и тому подобное.
Дарвин, оказывается, также придумал войны. Нет, отрицать факт, что войны бывали до него, конечно, трудновато. В. Эфроимсон: «Уничтожение Карфагена, Иерусалима, войны Рима с италиками… ослепление 30 000 болгар императором Василием Болгаробойцем… уничтожение коренного населения обеих Америк и Австралии, Тридцатилетняя война в Германии, в ходе которой население с 16 миллионов сократилось до 4». Но идея, пошедшая от американского публициста Р. Хофстадтера, что «Адольф Гитлер, впитавший в себя идеи Дарвина и пропагандировавший их, привел человечество к трагедии», популярна среди любителей «теории заговоров».
Споря с ними (бессмысленное занятие), обычно указывают, что Гитлер Дарвина не читал, а ссылался на X. Чемберлена (ссылавшегося на Ж. Гобино, автора концепции о том, что разные расы произошли от разных предков, разрушенной Дарвином) и Библию. Но дело-то не в том, что читал Гитлер, а в том, что он хотел прочесть. Его соратник фон Зеботтендорф заявлял, что нашел подтверждение расовых теорий в… опытах по расщеплению атома; авторы понятия «расовая гигиена» утверждали, что опираются на генетику. А Джон Рокфеллер умудрился, оправдывая монополизм, сослаться на Библию и Дарвина одновременно: «Рост крупного бизнеса – это выживание наиболее приспособленных… Это всего лишь работа закона природы и закона Божьего».
* * *
Многие русские ученые, не прибегавшие к риторике о проклятом Западе, тоже толковали борьбу за существование как прямой бой и отрицали, что она ведется между особями одного вида. Этнограф М. М. Ковалевский писал, что животные одного вида любезно уступают друг другу добычу. Зоолог К. Ф. Кесслер в 1880 году выступил с лекцией «О законе взаимопомощи»: помощь и дружба движут эволюцию. Развил его идеи П. П. Кропоткин, естествоиспытатель и социолог, в работе «Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса» в 1902 году. (К противникам Дарвина его причисляют ошибочно: он атаковал Хаксли, в 1888-м выдвинувшего концепцию о «космическом и этическом» началах: без сознательного вмешательства со стороны культуры человечество не перейдет от животных инстинктов к более высоким. У Дарвина, наоборот, развитие морали – процесс естественный.)
О дарвиновских открытиях Кропоткин отзывался с восторгом и, один из немногих, понял принцип дивергенции и занятия ниш: «В великой борьбе за существование – за наиболее возможную полноту и интенсивность жизни при наименьшей ненужной растрате энергии – естественный подбор выискивает пути именно с целью избежать, насколько возможно, состязания». Он оспаривал лишь то, что «состязание» идет внутри вида, ссылаясь на наблюдения А. Н. Северцова, зоолога и теоретика-эволюциониста: хищные птицы едят добычу, не отталкивая друг друга. Борьбу оба все-таки понимали как драку, а не как соревнование (бессознательное) за то, кто больше оставит потомства. Для Кропоткина это имело и политический смысл: люди должны бороться с государством (другим видом), а друг другу помогать, и будет всем счастье. В 1932 году английский генетик Дж. Холдейн (коммунист) писал: «Если я использовал бы зоологию для преподнесения уроков морали, я должен был бы… объявить себя защитником точки зрения Кропоткина, что внутривидовая конкуренция всегда является злом, а взаимопомощь значительным фактором эволюции».
После смерти Дарвина биолог М. А. Мензбир сказал, что биология потеряла своего Ньютона, народник Михайловский – что дарвиновское открытие «оптимистично». Но Данилевский продолжил борьбу с покойным, издав в 1885—1889 годах книгу «Дарвинизм. Критическое исследование», где работы Дарвина назывались «кучей мусора» и «растлевающая западная наука» противопоставлялась «созидательной» русской; труды Менделеева, Мечникова, Лобачевского автор относил к «растлевающей» и сетовал, что науки у нас нет. Его поддержали Н. Страхов и В. Розанов, спорили с ними Тимирязев, Мечников, Фаминцын и философ Владимир Соловьев, восхищавшийся (в отличие от ученых) концепцией полового отбора: «Дарвин показал независимость эстетического мотива от утилитарных целей даже в животном царстве и чрез это впервые обосновал идеальную эстетику».
В 1880-х годах началось царствование Александра III, запуганное общество обрадовалось «сильной руке», вместо конституции страна получила «Положение о мерах к охранению государственной безопасности», в университетах запрещали многие предметы, включая антропологию. Журнал «Научное обозрение» в 1895 году хотел издать «Происхождение человека» – запретили. Потом маятник начал обратный ход: в 1896-м в издательстве Филиппова вышел перевод второго издания «Происхождения человека» и издания пошли ежегодно, в 1896-м в типографии Пороховщикова вышла дарвиновская «Автобиография», из которой, правда, были исключены фрагменты о религии. Собрание сочинений Дарвина выходило до революции четырежды.
Вектор научной критики Дарвина в 1890-х годах сменился, «борьбу» перестали оспаривать, зато взялись за отбор. А. Н. Бекетов и П. Ф. Лесгафт считали, что новые виды появляются под прямым влиянием среды, без отбора, как у Ламарка, к тому же клонился Тимирязев. Зоопсихолог В. А. Вагнер изложил занятную теорию, что из материнского инстинкта морали произойти не могло, ибо дети – враги матери и она ведет против них борьбу. А. С. Фаминцын предложил теорию симбиогенезиса: сложные организмы появились в результате соединения простых, его поддержал ботаник К. С. Мережковский. И тут грянула мутационная теория; ее русский родитель С. И. Коржинский, в отличие от де Фриза, противопоставил ее «дарвинизму»: мутациями движет непознаваемая «жизненная энергия». В ответ Тимирязев развернул борьбу с «мутационистами», а тем временем Мечников стал «дарвинистом» и свое главное открытие, фагоцитоз, назвал проявлением естественного отбора; он «мутационистов» приветствовал. М. А. Мензбир, Н. А. Северцов, В. И. Талиев, А. С. Серебровский, В. М. Шимкевич тоже считали, что Дарвин и генетика дополняют друг друга: наша ранняя генетика смотрела на вещи шире, чем европейская. Ботаник Р. Р. Регель в общих чертах изложил то, что потом назвали СТЭ; ботаник О. В. Баранцкий сказал, что открытые Дарвином законы занимают то же место в биологии, что аксиомы в математике: «Современная критика направлена не на эволюцию, а на различные неверные истолкования ее механизмов».
В начале XX века зашаталась империя, маятник вновь качнулся в сторону страха и «закручивания гаек», хлынула новая волна идеологической критики Дарвина. Богослов С. С. Глаголев заявил, что де Фриз и Мендель «опровергли дарвинизм», Тихомиров писал: «После временного ослепления биология возвращается к представлению о человеческой природе как стремлению достичь идеала». Биологи в тот период о Дарвине особо не спорили, им было некогда. И после революции мощная, блистательная русская наука не погибла; по большому счету, для биологов ничего не изменилось. Ю. А. Филипченко, с 1913 года читавший генетику в Санкт-Петербургском университете, в 1919-м основал кафедру генетики, в 1921-м – Бюро по евгенике, в 1930-м реорганизованное в Лабораторию генетики АН СССР, потом в Институт генетики. Вавилов продолжал начатые до революции эксперименты. Директор Института экспериментальной биологии Н. К. Кольцов, в 1920-м приговоренный к расстрелу по делу «Тактического центра», был освобожден и в 1927-м выдвинул гипотезу, что хромосома с генами – это самокопирующаяся молекула; С. С. Четвериков в 1926-м основал популяционную генетику, И. А. Рапопорт начал исследования химического мутагенеза, А. С. Серебровский и Н. П. Дубинин открыли, что гены мутируют независимо друг от друга, Дубинин предложил гипотезу генного дрейфа.
Никто не требовал, чтобы советские ученые соглашались или не соглашались с Дарвином. Северцов и Шмальгаузен пытались его разграфить и упорядочить: отбор бывает стабилизирующий и творческий, борьба активная и пассивная и так далее. Филипченко отрицал естественный отбор. Против «отжившего дарвинизма» выступал энтомолог А. А. Любищев: «…построение системы из философии Дарвина оказалось иллюзией, надо строить систему, отрешившись от эволюционного подхода» (он повторил мысль раннего Хаксли: вид – это развитие «идеи вида»). Классик русского антидарвинизма Берг отрицал отбор и борьбу: «Присутствие и развитие на Земле организмов связано с идеей Добра. Все живое представляет собой ценность; заключается она в идее Добра, которую призвано осуществлять все живое». Из воспоминаний его дочери Р. Л. Берг: «…[отец] говорил, что теория Дарвина вредна для человечества, так как в применении к человеку санкционирует борьбу как фактор прогресса… Я говорила, что… борьбу за существование Дарвин понимал не в буквальном смысле, а как соревнование. Соревноваться можно и по взаимопомощи, что виды и делают. Выживают те, где взаимопомощь, включая заботу о потомстве, наиболее совершенна. Взаимопомощь – это средство победить в борьбе. Такого Лев Семенович и слышать не хотел и сердился».
В конце 1920-х и начале 1930-х годов наша наука славилась по всему миру, русские ученые участвовали в международных программах, Тимофеев-Ресовский в 1925-м был командирован в Берлин, Добржанский в 1927-м в США, американец Г. Мёллер работал в СССР, издавались переводы иностранных генетиков, в том числе Моргана, бывшего членом-корреспондентом РАН и почетным членом АН СССР. Потом пришел тотальный страх, а с ним – долгая ночь русской науки. (Почему страх убивает разум, объяснил Дарвин: «Боль или любое другое страдание, если они длятся долго, вызывают подавленность и понижают способность к деятельности».) Дарвина ликвидировали. Как?! Его же всем вбивали в головы! Вбивать-то вбивали. Но не его.
Пшеница, рожь, ячмень бывают яровые и озимые. Это не способы сева, а разновидности, отличающиеся генетически. Яровые сеют весной, жнут осенью. Озимые сеют осенью, до зимы они прорастают, весной созревают раньше яровых. Они дают лучший урожай, но в холода гибнут. В 1925 году на Ганджинской опытной станции Т. Д. Лысенко начал опыты, предположив, что если сеять озимые ранней весной, то они созреют к осени, как яровые. Для этого нужно закалять семена, выдерживая их в холоде. Он назвал манипуляции с семенами «яровизацией» и в 1928 году попытался вывести формулу, по которой можно определить количество дней, необходимых для обработки. А. Л. Шатский подверг формулу Лысенко насмешкам. Возможно, с этого момента тот и озлобился.
Лысенко продолжал опыты в 1929 году на Украине: весной крестьяне закапывали мешки с проросшими зернами пшеницы в сугробы, через несколько дней сеяли. Летом в прессе писали, что вся озимая пшеница, посеянная весной, заколосилась. Лысенко отчитался на Всесоюзном съезде по генетике, селекции, семеноводству и животноводству; Наркомзем УССР внедрил «яровизацию», Лысенко предложили возглавить отдел физиологии в Одесском селекционно-генетическом институте, Вавилов его поддержал. С 1930 по 1936 год Лысенко публиковал множество статей о «яровизации» всего.
То, что семена перед посевом можно обрабатывать, было известно еще в XIX веке в США; в начале XX века подобные опыты проводил немец Г. Гасснер, на которого Лысенко ссылался, а Н. А. Максимов из Всесоюзного института растениеводства в 1930-м получил за них Ленинскую премию. При обработке в семенах происходят сложные, до сих пор толком не изученные процессы, связанные с действием гормонов. Некоторые способы обработки, замачивание, например, – помогают. Так что гипотеза о «закаливании» семян холодом имела право на существование. Но она не подтвердилась. Одни семена у Лысенко прорастали быстро, другие медленно, третьи никак. Проверить, лучше ли они в целом растут, чем нормальные озимые, было невозможно: Лысенко не делал контрольных делянок. (Иностранные ученые, повторившие его опыты, нашли, что стало хуже: простуженные семена болели.) Массовые мероприятия по «яровизации» закончились провалом. Лысенко объяснил это неточностями выполнения его инструкций. Ему поверили. Его деятельность была объявлена «переворотом в зерновом хозяйстве». Не защитив диссертации, он в 1934-м стал академиком Украинской академии наук. В 1935-м он и И. И. Презент (завкафедрой диалектики природы и эволюционного учения ЛГУ) в журнале «Яровизация» провозгласили «новую концепцию наследственности».
Лысенко выступил против генетики («менделизма-морганизма»): бред, коему должно противопоставить «мичуринскую генетику». И. В. Мичурин к этому отношения не имел. Он принял генетику и писал, что опыты, поставленные им для опровержения законов Менделя, подтвердили их. Но это никого не интересовало: Мичурин умер. Дарвин тоже умер (а хоть бы и не умер, Англия далеко), и с ним можно было делать что угодно. Лысенко и Презент окончательно оформили свою теорию к 1943 году, выпустив книгу «О наследственности и ее изменчивости».
Говорят, что Лысенко исказил открытия Дарвина. Это не так. Он их не «исказил», а последовательно, по всем пунктам, отрицал. Г. Грузман: «Лысенко, возгласив в качестве лозунга "наука – враг случайностей", должен непременно ликвидировать дарвинизм в целом, какой в объеме лысенковского мнения имеет себя неклассическим научным воззрением, утверждавшим значение случайных зависимостей для природных процессов; если мнение Лысенко и имеет какое-либо отношение к дарвинизму, то только как его антипод, своего рода антидарвинизм. Тем не менее все выпады против своих оппонентов Лысенко и его сподвижники ведут от имени Дарвина, все аргументы мнения Лысенко освящены дарвинизмом и даются со ссылками на великого ученого, и даже более того: все, сотворенное во мнении Лысенко, названо "советским творческим дарвинизмом"».
По Дарвину, новые виды получаются потому, что происходят случайные мутации, которые потом регулирует отбор. Лысенко, как и Берг, писал, что организмы меняются «целесообразно». Дарвин все строил на наследственности – Лысенко ее отрицал. «В какой степени в новом поколении строится сызнова тело организма, в такой же степени, естественно, сызнова получаются все свойства, в том числе и наследственность, то есть в такой же степени в новом поколении сызнова получается и природа организма». (Стиль Лысенко – Презента весьма своеобразен: «Живые тела обладают жизненностью», оплодотворение «создает противоречивость», которая «создает жизненность».) Разумеется, отрицал он и существование частиц – носителей наследственности. (Из комментария к переписке Дарвина издания 1950 года о пангенезисе: «…гипотеза Дарвина носит выраженный механистический характер, который сказывается в придумывании каких-то специальных частиц, геммул».) Изменения, которые происходят в живых организмах, Лысенко объяснял «свойством живого тела требовать определенных условий… и определенно реагировать на условия». «Внешние условия, будучи включены, ассимилированы живым телом, становятся уже не внешними условиями, а внутренними, то есть они становятся частицами живого тела и для своего роста и развития уже требуют той пищи, тех условий среды, какими в прошлом сами были». Изменили условия, организм «расшатался», «потребовал условий», ему их дали, он их «ассимилировал», после чего превратился в «новую природу», как озимая пшеница в яровую.
От борьбы за существование Лысенко отмахнулся: «Внутривидовой конкуренции нет в природе. Существует лишь конкуренция между видами: зайца ест волк, но заяц зайца не ест, он ест траву». То, что всходят не все посаженные семена, Лысенко объяснял не конкуренцией, а «самоизреживанием»: «…густые всходы данного вида своей массой противостоят в борьбе с другими видами и в то же время так регулируют свою численность, что не мешают друг другу». Но и не помогают. Г. В. Платонов, «Мировоззрение К. А. Тимирязева», 1952 год: «Т. Д. Лысенко… нашел, что особи одного вида представляют не атомизированные части его, а составляют как бы органы единого целого, между которыми не может быть ни борьбы, ни взаимопомощи, как не может быть борьбы и взаимопомощи между органами здорового организма… Эти огромной теоретической и практической важности выводы были сделаны Т. Д. Лысенко в ходе решительной и непримиримой борьбы против проводников буржуазного влияния – академика Шмальгаузена и его школки, пытавшихся догматизировать и усилить ошибки Дарвина утверждением, что внутривидовая борьба составляет краеугольный камень дарвинизма». (Дарвин – Дж. Роменсу, 16 апреля 1881 года: «…происходит борьба внутри организма между органическими молекулами, клетками и органами». Примечание к этому письму в издании 1950 года: «…идеи Дарвина ошибочны… организм это тело, снабженное органами; исторический процесс пригнал друг к другу эти органы».)
Главный труд Дарвина называется «Происхождение видов путем естественного отбора». Лысенко отрицал и происхождение видов, и естественный отбор. Виды неизменны, это «качественно особые органические формы… к образованию новой формы не приводит накопление количественных отличий, коими различаются разновидности». Откуда же берутся новые виды? Возникают «под воздействием изменившихся условий и выживания целесообразно изменившихся в новых условиях». Нет никакой дивергенции, общего предка у всего живого никогда не было, виды не расходятся как ветки от ствола, а просто превращаются один в другой: свинья в корову, пшеница в рожь («Отрицать, что пшеница в соответствующих условиях порождает отдельные зерна ржи, которые потом вырастают и вытесняют пшеницу, это значит отворачиваться от жизни, от практики»); для этого их надо «расшатать» и «воспитать», как делал профессор Выбегалло[32]32
Персонаж повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу» (1965), его главным прототипом являлся Т. Лысенко.
[Закрыть], выводивший путем «воспитания» червяка, самонадевающегося на крючок.
Итак, Лысенко отклонил естественный отбор, дивергенцию, общего предка, наследственность и борьбу за существование, оставив у Дарвина… а ничего не оставив, кроме наивной ошибки – веры в телегонию, каковая «не укладывалась в рамки вейсманистско-морганистских представлений, поэтому вейсманисты опорочивали факты телегонии, бесспорность которой установлена». В чем тогда заслуга Дарвина, если он, кроме телегонии, все писал неправильно? А черт его знает: «поставил биологию на научную основу» да и все. А мы спустим ее обратно в Средневековье. Долой материю, какие-то там частицы, всем правят «требования» и «внутренние силы»; круг замкнулся, советская критика Дарвина совпала с религиозной, как всегда смыкаются крайне левое и крайне правое; при этом материальные частицы назывались «идеалистическими», а «внутренние силы» – «материалистическими».
Зачем Лысенко назвал свои идеи «дарвинизмом»? Удобно прикрыться чьим-то именем. Писателей-новаторов били Пушкиным, композиторов – Чайковским, художников – Репиным. Почему его фантазии пришлись ко двору? Во-первых, он обещал быстро вырастить громадные урожаи. Во-вторых, подтверждал «принципы диалектического и исторического материализма». В едином «организме, снабженном органами», то бишь СССР, борьбы нет (если кого-то съели, то это он осуществил «самоизреживание»), борьба ведется с другими видами, то есть с капиталистическими странами…
Вопреки собственной теории Лысенко повел борьбу именно с представителями своего вида, а поскольку он по русской традиции понимал борьбу как бой на уничтожение, то и методы выбрал соответствующие. В феврале 1935 года на II съезде колхозников-ударников он заговорил о «вредителях» в науке и получил поддержку Сталина. Вавилов, критиковавший своего протеже в 1931-м за стремление внедрять предложения без проверки, теперь был смещен с поста президента ВАСХНИЛ. В 1936-м на IV сессии ВАСХНИЛ растениеводы раскритиковали Лысенко; после этого дискуссии в биологии стали вестись исключительно на идеологическом языке. В 1938-м Лысенко стал президентом ВАСХНИЛ, в 1940-м – директором Института общей генетики АН.
В 1937-м был закрыт Медико-генетический институт, его директор Левит расстрелян. Вавилов арестован в 1940-м, умер в 1943-м. Расстреляны президенты ВАСХНИЛ Г. К. Мейстер и А. И. Муралов, директор Института микробиологии Г. А. Надсон. Кольцов уволен в 1937-м (его Институт экспериментальной биологии закрыт), умер в 1940 году. Репрессированы А. В. Чаянов, Н. Д. Кондратьев, Н. М. Тулайков, Л. И. Говоров, И. И. Агол, Г. А. Левитский, Г. Д. Карпеченко, М. Л. Левин, В. В. Таланов и десятки других. Уничтожив тяжеловесов, в 1940-х годах Лысенко остался один. Когда-то его обидели математики, теперь сторонников математических методов в биологии разогнали, методы запретили. Он потребовал изъять из биологии «менделизм-морганизм» – уничтожались целые кафедры. Спасся ли хоть кто-то? Серебровский, завкафедрой генетики биофака МГУ, держался, но его учеников отстреливали по одному. Четверикова травили еще с 1929-го (был сослан в Свердловск и работал консультантом при зоопарке – повезло). Его ученик Добржанский отказался вернуться из США, Тимофеев-Ресовский – из Германии; первый преуспел, второго посадили за «измену родине». Страшнее всего то, что ученые, нарушив законы природы, вместо состязания занялись «самоизреживанием»: в 1939-м академики А. Н. Бах и Б. А. Келлер и шесть молодых сотрудников Вавилова заявили, что «лжеученые» Кольцов и Берг не могут быть избраны в АН. (Однако Берг и другие советские антидарвинисты репрессиям не подверглись; они были достойнейшими людьми, но показательно, что их Лысенко врагами не считал.)
Англичанин Генри Дейл, президент Королевского общества, говорил Джулиану Хаксли, что известие о гибели Вавилова дошло до общества только в 1945 году. Все мольбы сообщить о месте его захоронения остались без ответа; в знак протеста Дейл сложил с себя звание почетного академика АН СССР. Из его письма С. И. Вавилову, физику: «Н. И. Вавилов был заменен Т. Д. Лысенко, проповедником доктрины эволюции, которая по сути дела отрицает все успехи, достигнутые в этой области… Хотя труды Дарвина все еще формально признаются в Советском Союзе, его открытие будет теперь отвергаться».
Русская наука захлебывалась кровью, но генетика не умерла. Оставалась кафедра А. С. Серебровского в МГУ. Был еще Н. П. Дубинин, серьезный ученый, не самый порядочный человек, в демагогии не уступавший Лысенко: в 1932-м он занял пост уволенного Четверикова (завотделом генетики Института экспериментальной биологии); пылко говорил о диалектическом материализме, на IV сессии ВАСХНИЛ выступил на стороне генетиков, но и с Лысенко старался не ссориться; в 1937-м принял участие в травле Кольцова, в 1939-м вновь защищал генетиков в журнале «Под знаменем марксизма».
С 1943 года генетика начала оживать: стало ясно, что ее можно использовать, выводя урожайные сорта растений. После войны осмелевшие генетики попытались биться за себя и за Дарвина. В 1946-м в журнале «Селекция и семеноводство» лауреат Сталинской премии селекционер П. М. Жуковский опубликовал статью «Дарвинизм в кривом зеркале», не оставив камня на камне от «самоизреживания» и «расшатывания». В 1947-м в МГУ прошли дискуссии по «основам дарвинизма», 40 докладчиков выступили против Лысенко. В феврале 1948-го на конференции по «проблемам дарвинизма» Шмальгаузен и еще несколько академиков назвали «творческий дарвинизм» Лысенко «фантазиями». С биологами встретился завсектором науки ЦК ВКП(б) Ю. А. Жданов, сказал, что люди жалуются на Лысенко в ЦК, и в апреле сам выступил против него. В ответ тот написал жалобу Сталину и старшему Жданову, после чего в июле отменили выборы академиков ВАСХНИЛ и вакантные места заполнили путем назначения по списку Лысенко.
В августе на сессии ВАСХНИЛ Лысенко пошел в наступление на Шмальгаузена, Дубинина, И. А. Рапопорта, А. Р. Жебраку. Никчемные людишки: изучают каких-то паршивых дрозофил, вместо того чтобы увеличивать яйценоскость кур. Генетика была объявлена лженаукой. Сам же Лысенко пообещал вывести «ветвистую пшеницу». (Свою теорию он несколько изменил, признав, что материальные частицы существуют: пшеница в рожь превращается путем «появления в теле пшеничного организма крупинок ржаного».) Биология подверглась полному разгрому, не уберегся даже Дубинин, пришлось прятаться в Институте леса Академии наук. Закрыли несколько сот кафедр генетики, включая кафедру Серебровского (и тот умер). Четвериков скрывался в Горьковском университете на кафедре экологии – уволили. Эфроимсон, благородный, отчаянный, уже отсидевший в 1930-х по делу Вольного философского общества, отправил в ЦК исследование преступной деятельности Лысенко. В мае 1949 года его взяли. Никто не вступился, а Дубинин заявил, что Эфроимсон «выступил с ошибочными взглядами о якобы генетической обусловленности духовных и социальных черт личности».
Все учебники уничтожили, издали новые, лысенковские. Уничтожалась не только генетика. О. Б. Лепешинская, придумавшая учение о «живом веществе» в духе XVIII века, уничтожила основы биологии, К. М. Быков, назвавший себя последователем Павлова, – физиологию, Г. М. Бошьян – микробиологию. Кибернетика стала «буржуазной лженаукой». Почитайте мемуары химиков, психологов, математиков – везде находился свой Лысенко, и везде наука объявлялась «идеализмом», а средневековые фантазии – «материализмом». А Лысенко, не сумев вывести «ветвистую пшеницу», занялся новым проектом: предложил сажать в степи лес, чтобы почва не выветривалась. Деревья там не росли, но если их воспитать, вырастут как миленькие. Посадили их тесно: если что, займутся самоизреживанием. Деревья самоизредились так, что на площади в 117 900 гектаров ни одно не выросло. Лысенко не пострадал, но Презента в 1951-м выгнали со всех постов и исключили из партии.
В 1952 году «Ботанический журнал» напечатал статью Н. В. Турбина, бывшего сторонника Лысенко, направленную против учителя, а после смерти Сталина продолжил сеансы разоблачения черной магии. А. А. Рухкьян доказал, что превращение граба в лещину, о котором писал Лысенко, было фокусом: ветка лещины, якобы выросшая на грабе, была туда привита; нашли и человека, который подлог осуществил. Комиссия Латвийской АН изучила якобы выросшую из сосны ель и нашла, что это тоже подлог. В 1955 году 297 ученых, включая Дубинина, подписали письмо в ЦК с призывом «покончить с лысенковщиной»: «Лысенко фактически отбросил ее [дарвиновскую концепцию], не дав ничего взамен». Но Хрущев поддержал Лысенко (если кукуруза может превратиться в картошку, то, может, и однокомнатная квартира превратится в трехкомнатную?). Он спас нескольких ученых, в том числе Эфроимсона и Тимофеева-Ресовского, но и Презента в науку вернул. Эфроимсон тут же написал генпрокурору, предлагая судить Лысенко за вредительство. Ему не вняли, но и самого не посадили. И ничего не изменилось: в 1950-е годы на страну была одна кафедра генетики – М. Е. Лобашева в ЛГУ. Остальные вузы готовили лысенковцев.
В середине 1950-х годов биология получила помощь от могущественной сестры: физики были недовольны тем, что в СССР не изучают действие радиации на наследственность. Америка нас обгонит, говорили они, и Хрущев внял: в 1957-м Дубинин на базе Сибирского отделения АН открыл Институт цитологии и генетики и организовал генетическую лабораторию в Москве. Любищев в письме Хрущеву подытожил ущерб, нанесенный Лысенко сельскому хозяйству, тот не отреагировал. Сам Лысенко кляузничал на Дубинина, и его сняли (но он продолжил исследования в Москве).
Про деревья в степи благополучно забыли, а Лысенко взялся за коров. Если купить на «проклятом» Западе несколько быков джерсийской (лучшей для молока) породы, покрыть наших коров и усиленно кормить их, то родившиеся полукровки превратятся в джерсийцев, их уже можно кормить плохо, обратно не превратятся (что вообще-то противоречило постулатам самого же Лысенко). Быков купили, через десять лет в ЦК доложили, что эксперимент удался. Противники Лысенко выразили сомнение, а комиссия обнаружила, что Лысенко, отменивший открытые Дарвином законы, именно по ним работал: коров, дававших мало молока (то есть не унаследовавших нужные гены), резали на мясо, а лучших скрещивали с лучшими бычками, и постепенно генофонд сдвинулся в «джерсийскую» сторону. Парадокс: когда у Лысенко ничего не получалось, его хвалили, а когда он достиг результата, хотя и не своим, а человеческим способом, ему пришел конец.
После октябрьского Пленума ЦК в 1964 году его сняли с поста директора Института общей генетики, его место занял Дубинин. Лобашев выпустил учебник генетики, и она стала возвращаться в вузовские программы, а в некоторых школах начали вместо Лысенко преподавать Дарвина. Но ущерб был невосполним. Н. Н. Воронцов: «Средневековье господствовало в Московском университете и в провинциальных вузах слишком много лет. Мракобесие надолго стало символом нашей науки». У Лысенко и ныне есть заступники. Иногда масла в огонь нечаянно подливают ученые, говоря, что если горизонтальный перенос генов существует и привой может хотя бы теоретически влиять на подвой, то этим частично подтвердилась правота Лысенко. Если и есть намек на подтверждение чего-то, то – наблюдений Мичурина и английских садоводов XIX века, а отнюдь не того бреда, которым Лысенко пытался их обосновать.