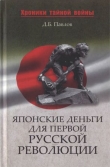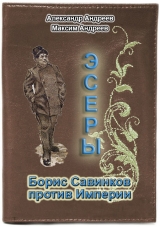
Текст книги "Эсеры. Борис Савинков против Империи (СИ)"
Автор книги: Максим Андреев
Соавторы: Александр Андреев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Николай II почти никогда не менял свою точку зрения и его характер и личность сильно сказались на трагической судьбе империи. Знаменитый генерал-теоретик А. Драгомиров говорил, что царь «сидеть на троне может, но стоять во главе России неспособен». Министр внутренних дел Н. Маклаков утверждал, что «погибнуть с этим человеком можно, а спасти его нельзя». Дважды председатель Совета Министров И. Горемыкин ничтоже сумняшеся заявлял: «Никогда ему не верьте, это самый фальшивый человек на свете». Николай II никогда не собирал Совет Министров, а принимал их по одному, опасаясь министерского объединения и совместного обсуждения. Во время Первой мировой войны, казалось, царь только и делал, что назначал и снимал министров, и общество открыто назвала это «министерской чехардой», в Совет Министров объявляло «Кувырк-коллегией». Николай II называл конституционную монархию в Европе «парламентриляндией адвокатов» и самодержавная идея в империи окончательно лишилась народной поддержки. Часто встречавшийся с Николаем II А.Ф.Кони о нем писал: «Я хотел двинуть его мысли к безобразиям внутренней жизни. Глаза газели смотрели ласково, рука, от одного росчерка которой зависело счастье и горе миллионов, автоматически поглаживала и пощипывала бородку, и наступало неловкое молчание, кончаемое каким-нибудь новым вопросом. Взгляд на себя, как на провиденциально помазанника божия, вызывал в нем подчас приливы такой самоуверенности, что им в ничто ставились все советы и предостережения тех немногих честных людей, которые еще обнаруживались в его окружении. Мои личные беседы с царем убеждают меня в том, что это человек, несомненно, умный. Я говорил ему, что империя успокоится, если будут выполнены обещания свобод, данные в манифесте 17 октября. Он мне ответил, что да, это было уже везде, все государства через это прошли, и Англия, и Франция. Я едва удержался, чтобы не сказать: но ведь там Вашему Величеству отрубили бы голову».
Все современники говорили, что у Николая II отсутствовало стратегическое мышление, дальновидность, отсутствие глубины, видения перспективы, поверхностность, шахматная неспособность видеть вперед дальше одного хода, бесцеремонность владения империей. Царь говорил министру иностранных дел: «Я стараюсь ни над чем не задумываться и считаю, что только так можно править Россией, иначе я бы давно был в гробу».
Коронацией Николай II в Москве в мае 1896 года руководили его дядя и московский генерал-губернатор Сергей Александрович, министр двора Воронцов-Дашков и обер-церемониймейстер Пален. Почти на сотне страниц программы коронации было перечислено множество мероприятий, одно из которых должно было состояться 18 мая в виде народного гулянья на Ходынском поле, куда в павильон в два часа дня должны были собраться все высокие гости и дипломатический корпус во главе с царем. На поле площадью около одного квадратного километра войска московского гарнизона много лет проводили учебные занятия, и везде были траншеи, рвы, рытвины, ямы, колодцы. Для раздачи народу было приготовлено почти полмиллиона эмалированных коронационных кружек и царскими инициалами с платками и бумажными кульками с копченой колбасой, пряниками, булкой и конфетами. Для них на краю поля были построены небольшие буфетные палатки.
В ночь на 18 мая на Ходынское поле со всей империи собирались веселые и нарядные люди, десятки тысяч человек ночевали прямо там и к раннему утру на Ходынке собралось от пятисот тысяч до миллиона подданных. Никакого оцепления или регулирования на поле не было и этого даже не предусматривалось в коронационном расписании, только к шести часам утра на Ходынку должны были прибыть пятьсот городовых. Днем Николая II должны были охранять более трех тысяч полицейских.
К рассвету поле было так забито людьми, что им не хватало воздуха, и над Ходынкой стоял густой пар испарений. Приставленные к буфетным палаткам артельщики стали раздавать коронационные подарки заранее приглашенным родственникам и знакомым, с других требовали дать за кружку копеечку. Колоссальная толпа поняла, что без нее все разворуют и многим ничего не достанется, задние наперли на передних, началась давка и артельщики от большого и наглого ума стали бросать кружки прямо в толпу. Их стали хватать, ронять, нагибаться, люди падали, по кошмарной толпе пошли волны, никто не догадался поднять упавших. Люди падали и в канавы, даже в колодцы, в ямы, и их умирающие крики подняли в толпе панику, тут же перешедшую в адское столпотворение. По раненым и уже потоптанным людям проходили ряды за рядами, над грудами живых и неживых тел стоял яростный стон, богатые предлагали тысячи рублей за свое спасение и ужас охватил сотни тысяч людей. Из адского столпотворения вылетали оборванные и полуголые люди с дикими, ошалевшими глазами, падали, вскакивали, опять падали и оставались лежать на трупах раздавленных подданных, пришедших посмотреть на имперский праздник. За двадцать минут все было кончено, погибли около четырех тысяч человек, тяжелораненых и ушибленных было намного больше. Впоследствии количество погибших и потоптанных людей официально сократили втрое. К семи утра на опустелом поле прибывшие полицейские начали уборку тысяч трупов, безуспешно пытаясь убрать Ходынку, на которой оставались горы разодранной одежды, оторванные с кожей женские косы, гнилая колбаса и труха вместо конфет. Чины министерства двора поделили выданные на закупки продуктов коронационные деньги с московскими купцами и вместо высококачественной твердокопченой колбасы и хороших конфет подсунули подданным гниль, которая не по их вине до людей не дошла.
Слух о трагедии на Ходынском поле вихрем пролетел по Москве и многие сановники предложили царю сократить и отменить празднества коронации, которая должна была после такого горя стать очень скромной. В программу коронационных торжеств изменений внесено не было и вечером 18 мая на балу у французского посла в аромате десятков тысяч благоухающих роз, выписанных из Парижа, императорский двор в ходынском скорбном отчаянии танцевал разухабистую кадриль. Многие иностранцы поспешили уклониться от бала на крови, но среди царских подданных таких совестливых людей не нашлось.
Правительственная комиссия виновных не нашла и объявила ходынскую трагедию стихийным несчастьем, вроде землетрясения. Разбирательство возглавили его виновники Сергей Александрович и Пален. Они допросили сами себя и никакой вины в своих действиях не нашли. Для того чтобы все свалить на глупый народ, были распущены слухи, что на раздаваемых коронационных палатках были изображения лошадей, коров и изб, и очумелые мужики почему-то решили, что тот, кто поймает платок, получит деньги на покупку изображения. На сенатский запрос «были ли приняты своевременные должные меры для направления массы народа», министерство двора ответило, что оно было обязано только обеспечить на Ходынском поле концерт симфонического оркестра и «раздачу подарков». Московская полиция заявила, что за поле отвечало министерство двора, а полицейские занимались обеспечением порядка только «до поля и около поля, а там было все в порядке». Трупов подданных все же очень много, и за «ходынские беспорядки» московского обер-полицмейстера отправили в отставку с очень большой пенсией. По указу царя семьям погибших из казны было выделено около тысячи рублей на труп, полуторогодовая зарплата рабочего, но деньги, конечно, распределители украли, и осиротевшие дети и вдовы получили от пятидесяти до ста рублей за труп. Недостачу списали на якобы очень пышные похороны задавленных. Революционеры писали в листовках об издевательствах над народом, который пригласили на праздничное торжество, вместо угощения убили и покалечили, а топом взяли с него деньги за лечение, и им никто не возражал. По московским больницам разослали оставшийся от коронации портвейн. Царь с царицей посетили раненных и Александра Федоровна спросила у перекалеченных, не нужно ли им чаю.
Виновник ходынской трагедии дядя царя московский генерал-губернатор Сергей Александрович получил императорскую благодарность за образцовую подготовку и проведение коронации. Вся империя знала правду о 18 мая 1896 года, и великого князя Сергея Александровича в Москве называли князь Ходынский. Когда через десять лет он был разорван в Кремле, в Зимнем дворце даже не был отменен торжественный обед, и присутствовавший на нем принц Л. Прусский в полном ступоре писал германским родственникам, как почти сорокалетний Николай II и его кузен великий князь Александр Михайлович в столовой «играли, сталкивая друг друга с узкого дивана». За три недели до этого у Зимнего дворца расстреляли мирную демонстрацию рабочих, но кровь народа была плохо видна с третьего этажа главной царской резиденции. Подводя итоги 1896 года, Николай II особо пожелал, чтобы 1897 год прошел также благополучно, как и предыдущий.
В разговоре министра внутренних дел И. Дурново и министра финансов С. Витте последний сказал, что прекрасное воспитание Николая II скрывает все его недостатки, но Дурново ответил, что новый царь – это современная копия императора Павла I. Он человек колеблющийся и с ним весьма важно ловить момент, а если его упустишь, то и само дело упустишь. В отставку, впрочем, сановники царя сами почти не подавали. Витте говорил, что царские министры были по большей части прекрасные люди, но по своим талантам ниже посредственности. Придворные боялись говорить Николаю II правду, потому что «он от таких тотчас отворачивается». Только Победоносцев при консультациях царя с ним о том, кого назначить министром внутренних дел – Сипягина или Плеве, мог сказать, что первый дурак, а второй подлец, но только для того, чтобы назначили его кандидата Горемыкина. Многие члены Кабинета министров империи знали, что ни по своим способностям, ни по своему уму не могут быть советниками царя ни по каким делам, ни по государственным, ни по министерским, но при этом также знали, что по характеру императора именно такие министры для него больше всего подходят. Чиновники легко могли подготовить документы о том, что главной базой военно-морского флота империи в Прибалтике должны стать неудобная Лиепая, а не очень выгодный Мурманск. За Лиепаю их большими взятками убеждали купцы и промышленники, которым было там намного удобнее получать прибыль от государственных подрядов и заказов. То, что при развитом порту на Мурмане империи был совершенно не нужен Порт-Артур, из-за которого началась русско-турецкая война, Зимний дворец не волновало.
Еще большее влияние на царя оказывали великие князья, которых в высшем свете называли «жуирами», любившими пользоваться жизнью». Самым влиятельным был его дядя Сергей Александрович, женатый на сестре императрицы Александры Федоровны. Это он посоветовал не проводить на Ходынском поле поминальное богослужение, а вести себя так, как будто бы ни какой катастрофы не было, а потому ее надо игнорировать. Сергей Александрович победил в своем влиянии на «различные несчастья». Даже его мать Марию Федоровну, и от него не отставали бесчисленные Алексеи Александровичи, Александры Михайловичи и Владимиры Александровичи. Сергей Витте писал, что «великие князья часто играют такую роль только потому, талантам, ни образованию. Когда же они начинают влиять на государя, то из этого большей частью всегда выходят одни только различные несчастья». Граф Пален сказал царю, что «вся беда заключается в том, что великим князьям поручается ответственные должности, и что там, где великие князья занимают высокие посты, всегда происходит или беда или крайний беспорядок», и был тут же задвинут в самый дальний придворный угол. Сам Николай II легко мог приказать министру финансов при перепечатке Свода имперских законов незаметно внести изменения в статьи, ограничивающие расходы двора, и не переживал, что занимается фальсификацией законодательства. Витте, конечно, исполнил высочайшее повеление, но тихо заметил, что «у нас в России в высших сферах существует страсть к захватам того, что, по мнению правительства, плохо лежит». За царем в очередь на разворовывание казны выстроились сановники, их родственники и друзья и все, кто мог и хотел в эту несусветную толпу пристроиться, все «люди не дурные, но очень пронырливые», хорошо знавшие, что самодержавие основано на произволе, а не на законах. Николай II в 1897 году сказал: «Я готов поделиться властью с народом, но сделать этого не могу, так как не сомневаюсь, что ограничение царской власти было бы понято народом как насилие интеллигенции над царем, и тогда бы народ стер бы с лица земли верхние слои общества».
В 1897 и 1898 годах неурожай опять и опять вызвал голод в десятках губерний империи, вызвавший эпидемию тифа. Благотворительные акции шли по всей стране, со всех концов которой в Петербург передавали просьбы о государственных субсидиях голодающим. В казне, как обычно, была проблема с деньгами, и придворные заговорили, что «громадное число крестьян и рабочих должны работать и заслужить раздаваемые пособия, потому что благотворительность такого рода может привести к большим последствиям, чем последствия неурожая». О том, что в большинстве губерний эти пособия активно разворовывались чиновниками, в Зимнем дворце тоже хорошо знали. Собранные урожаи тупо гноили под дождем в открытых вагонах на железнодорожных станциях и число вагонов измерялось тысячами, а количество зерна – миллионами пудов. Николаю II доложили о душераздирающей картине голодного хаоса, но он ответил, что таких верных монархии людей, которые распределили хлеб, очень мало, а всяких побирающихся всегда будет много. На бюджетные деньги у опытных торговцев чиновники сознательно закупили непригодное зерно с примесью ядовитой травы куколь и наполовину сгнившее, а разницу в цене забрали в свой карман. Когда голодающие начали умирать от яда, разразился скандал и дело дошло до суда, который оправдал чиновников, в очередной раз, списав крестьянские трупы на их неопытность в закупках. Когда заместитель министра внутренних дел украл деньги, выделенные на создание государственного резерва зерна, его перевели на другую работу, а поднявших шум в обществе наказали. В голодающих Казанской, Уфимской, Саратовской, Симбирской губерниях успешно воровали, взяточничали, спекулировали государственным зерном, а революционеры подробно рассказывали подданным, о «неспособности администрации обеспечить снабжение, учет и размещение по стране имеющихся запасов хлеба».
С открытыми письмами «к царю и его помощникам» обращался Лев Толстой, и в обществе понимали, что это акт отчаяния великого писателя: «Любезный брат! Мне бы не хотелось умереть, не сказав Вам того, что я думаю в Вашей теперешней деятельности и о том, какое большое зло она может принести людям и Вам, если будет продолжаться в том же направлении, в котором идет теперь. Самодержавия есть форма отжившая. Сто миллионов, на которых держится могущество России, нищают с каждым годом, а голод стал нормальным явлением. Нельзя остановить идеей самодержавия вечное движение человечества».
Лев Толстой предупредил царя, что накатывающийся воз революции ударит по царю, которому надо бояться народного взрыва. Николай II, как обычно, не ответил, и великий писатель сказал обществу, что «он сделал все, чтобы узнать, что к ним обращаться бесполезно». Николай Бердяев позже напишет, что Россия – самая анархическая страна в мир, а русский народ – самый аполитичный народ в мире, никогда не умевший устраивать свою землю. Правда, он тут же себя опровергнет: «Россия – самая государственная и самая бюрократическая страна в мире. Всякой самодеятельности и активности русского человека ставились неодолимые препятствия. Огромная, превратившаяся в самодовлеющую силу русская государственность боялась самодеятельности и активности русского человека».
Спасти неспасаемое попытался Сергей Витте, министр финансов, статс-секретарь и председатель Совета Министров. С царем ему было работать чрезвычайно трудно. О резолюциях Николая II на его документах Витте говорил, что «для меня это заметки на полях вдумчивого читателя». Даже военный министр говорил на заседаниях Кабинета: «Против царской семьи собираются тучи. Государь, будучи слабого характера, вопреки своей мягкой, доброй и прекрасной натуре, увлекается на путь деспотических мероприятий, а это теперь путь опасный». Сергей Витте попытался превратить накатывавшуюся на империю революцию в эволюцию, хотя и знал, что с Николаем II это сделать невозможно. Министр финансов хорошо знал, что «в России надо проводить реформы быстро и спешно, иначе они не удаются и затормаживаются».
Россия на переломе столетий была уже совершенно другая, чем во времена Исполнительного Комитета «Народной воли». За два десятилетия в империи появились два новых класса – буржуазия и пролетариат. Значительно расширился класс интеллигенции, формировавшийся их детей низших чиновников, служащих, духовенства и буржуазии, работавших в земстве, агрономии, больницах, школах, редакциях, издательствах, высших учебных заведениях, фабриках, заводах. Благодаря разночинной интеллигенции, общественное мнение становилось все более и более демократичным и революционные настроения в империи росли, поддерживаемые многими выдающимися деятелями науки, литературы и искусства. На оживление общественной жизни оказывали влияние идеология и культура Европы, естественные и социальные науки, дарвинизм и марксизм.
Дворянский класс занимал господствующее положение в империи, большинство важных постов в государственной иерархии, большую часть земель, активно участвовал в создании капиталистического производства и не собирался менять консервативную идеологию. Его интересы в стране представляли обер-прокурор Синода Победоносцев, редактор и публицист «Русского вестника» и «Московских ведомостей» М. Катков и редактор газеты «Гражданин» В. Мещерский.
В начальных, церковно-приходских, земских и вольных школах к концу века учились четыре миллиона детей, каждая четвертая была девочка. Половина крестьян – солдат в армии была грамотной. По переписи 1897 года грамотны были 40 процентов мужчин и семнадцать процентов женщин. Среди ста сорока миллионов подданных грамотным был каждый пятый. В мужских гимназиях и реальных училищах обучались сто пятьдесят тысяч человек, в женских учебных заведениях – семьдесят пять тысяч. В девяти университетах Москвы, Петербурга, Киева, Казани, Депта, Варшавы, Харькова, Одессы и Томска учились около двадцати тысяч студентов. Империи образца 1899 года было нужно много грамотных инженеров и специалистов, которых готовили Высшее техническое училище в Москве, технические институты в Петербурге, Киеве, Харькове, Томске, Варшаве. В шестидесяти пяти высших учебных заведениях занимались тридцать тысяч студентов, на Бестужевских курсах, в двух медицинских институтах получали образование около двух тысяч женщин. Число общедоступных публичных библиотек в городах достигало почти тысячи, в деревнях работали три тысячи земских библиотек. В империи работали около сотни музеев, Вольное экономическое, Географическое, Историческое общества.
Комитеты грамотности открывали воскресные школы для рабочих, курсы, кружки. Тысяча типографий издавали около десяти тысяч книг в год, издательства Сытина, Павленкова, Суворина быстро печатали много книг для народа, выходили большими тиражами журналы «Современник», «Отечественные записки», «Русская старина», «Исторический вестник», «Дело», «Русское слово», «Русский архив», «Вокруг света», «Русский вестник», «Русская мысль», «Вестник Европы», более сотни массовых газет. Перепись 1897 года насчитала около двухсот тысяч учителей, три тысячи ученых, писателей и журналистов, двадцать тысяч артистов и художников, двадцать тысяч врачей, три тысячи книготорговцев.
Александр III радовался неграмотности населения, Победоносцев называл интеллигенцию «буйным сборищем». Николай II приветствовал и приказывал открывать вместо гимназий технические училища, а об открытии народных школ писал, что «излишняя торопливость в этом направлении совсем не желательна», расширяя права губернаторов по наблюдению за учебными заведениями всех ведомств, командовал заменять учителей-мужчин женщинами. Самодержавие, как обычно, на телеге пыталось догнать недогоняемый паровоз. Имперская промышленная революция создавала большой класс образованных людей, и они совсем не собирались молча терпеть бесконечный монархический произвол.
Ф. Достоевский, И. Тургенев, М. Салтыков-Щедрин, Л. Толстой, А. Чехов и десятки выдающихся писателей работали в жанре критического реализма, подробно раскрывали социальную психологию и идеологию, все стороны имперской жизни, писали об одичании, забитости, нищете, безграмотности народа, учили ненависти к неработающим сословиям-паразитам, к мерзости, пошлости, подлости, чванливости, унижению самодержавием человеческого достоинства, говорили о нравственности в политической борьбе.
Выдающиеся художники Н. Крамской, В. Перов, И. Репин, В. Суриков, В. Маяковский, А. Саврасов, В. Васнецов, В. Поленов, И. Шишкин, А. Куинджи, В. Серов, И. Левитан, И. Ге на многочисленных передвижных выставках показывали сотни великолепных картин, говорили, что «художник – это критик общественных явлений», показывали народную имперскую жизнь и делали это с беспримерной смелостью.
Музыканты и члены знаменитой «Могучей кучки» М. Балакирев, Ц. Кюи, А. Бородин, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков собирали сотни русских народных песен и использовали их в своих операх и симфониях, в которых говорили о русской истории, создали бесплатную музыкальную школу.
Десятки имперских театров массово ставили пьесы А. Островского, «в нравственно-общественном направлении показывавшего темное царство самодержавия». Выдающийся драматург А. Сухово-Кобылин в своих пьесах «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина» так показал всю чиновно-бюрократическую систему от швейцара до министра, что у подданных, посмотревших его пьесы волосы вставали дыбом при виде, как веками в империи расцветали продажность судов, всеобщее взяточничество, полицейский произвол и бесправие населения. Самодержавие, как обычно, запрещало и не пускало все прогрессивное и правдивое, вызывая презрение все большего количества населения.
В империи судьба реформ была всегда тесно связана и судьбой реформатора. Целое десятилетие Сергей Витте пытался превратить феодализм самодержавия в капиталистическую монархию и сумел сделать империю индустриальной страной. Александр Блок писал о правлении Николая II как о «веке акций, рент, облигаций и малодейственных умов». К Сергею Витте последнее определение явно не относилось.
В последней четверти промышленное производство империи выросло почти на половину существовавшего, колоссальное развитие получили железные дороги. В сельском хозяйстве монархия всеми силами сохраняла общинное земледелие, разрешая выход из общины только раз в десять лет при согласии-разрешении сельского схода, земского начальника и уездного собрания. Досрочный выкуп надельной земли в личную собственность разрешался только с неохотного согласия общины. Это значительно сдерживало развитие сельского хозяйства, поскольку многие хорошо работавшие крестьяне не хотели делить результаты своего труда на весь деревенский мир.
В империи не было твердого рубля, что колоссально сдерживало ее социально-экономическое развитие. Свои экономические взгляды талантливейший финансист Витте изложил в 1888 году в работе «Национальная экономия», в которой предлагал протекционизм монархии для развития имперской промышленности: «В России происходит то же самое, что случилось в свое время на Западе: она переходит к капитализму. Россия должна перейти на этот строй, и это непреложный закон. Мы находимся в начале этого движения, его нельзя остановить без риска погубить Россию. Политическая и экономическая задача России – создать собственную промышленность.
В 1893 году министр путей сообщения Витте стал министром финансов. Он еще в 1891 году вдвое повысил таможенные ввозные тарифы, доведя их почти до сорока процентов от стоимости товара. Витте старался привлекать иностранные инвестиции в угольную нефтяную промышленность империи, а также иностранные займы. Он пытался создать систему финансового контроля монархии, но из этого, конечно, ничего не получилось и часть займов и инвестиции все равно уходили в туман самодержавия. Витте стал делать инвестиции и займы для реализации конкретных экономических задач и деньги, наконец, пошли на развитие промышленности, хотя, естественно, далеко не все. Витте смог вложить в строительство железных дорог России сумму в размере двух национальных доходов и смог увеличить их протяженность почти вдвое, обогнав даже необгоняемые Соединенные Штаты Америки.
До 1897 года в империи ходили серебреные рубли и бумажные ассигнации, имевшие разную стоимость, почти в два раза. Мировой финансовый рынок уже давно ориентировался на золото. Витте стал готовить «золотую реформу» и встретил колоссальное противодействие. Укрепление рубля совсем не устраивало дворян-землевладельцев, у которых повышались цены на сельскохозяйственную продукцию и снижался их экспорт. Несмотря ни на что Витте смог провести в империи денежную реформу и приравнял ассигнации к золотому стандарту, а бумажный рубль – к 0,174 золотника самого ценного мирового металла. Ассигнации постепенно стали обеспечиваться золотым запасом. В начале ХХ века золотой запас на сто миллионов превышал количество бумажных денег.
Твердая имперская валюта укрепила имперский рынок и привлекла в страну инвестиции. Иностранные займы для реформ Витте увеличили государственный долг до пятнадцати миллиардов рублей, но министру финансов за несколько лет удалось вернуть в Европу деньги, выданные на строительство дорог и предприятий, включая даже улетавшие на «общегосударственные потребности» четвертую часть займов. Витте увеличил косвенные налоги, обложив ими сахар, табак, ввел винно-водочную монополию и устранил хронический дефицит государственного бюджета. Те предприниматели, которые лишились водочных лицензий, обвинили министра финансов в том, что он спаивает народ и пустили в народ частушку: «Вся Россия торжествует – Николай вином торгует», но при введении винной монополии подданные вместо 1,2 ведра на человека в год, стали пить только полведра, то есть шесть литров вместо четырнадцати. Впоследствии, во время индустриализации СССР между двумя мировыми войнами, советская власть использовала именно опыт Сергея Витте.
Министр финансов заявил, что общину нужно заменить индивидуальным землевладением, иначе империя захиреет, и предложил отмену круговой поруки в деревне, смягчение паспортного режима и свободное перемещение в стране рабочих рук. При нем и во многом благодаря ему была построена Транссибирская магистраль, соединившая запад, центр и восток и в Сибирь перебрались при Витте около миллиона человек. Витте обратился к Николаю II с предложениями освободить крестьян от общины и государственного начальства, дать им гражданские права, но царь не ответил. В 1902 году было создано Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности, потому что самодержавию пришлось признать, что «земледельческий цент оскудел». Витте разработал программу работы Совещания из сорока пунктов, провел пятьдесят заседаний, на которые приглашались многочисленные эксперты. Особое совещание обсуждало народные кредиты, хлебную торговлю, дороги, аренду, отхожие промыслы, проблемы землепользования, леса, травосеяния, птицеводства, мелиорации, хмелеводства, молочное хозяйство. Два года пятьдесят губернских и пятьсот уездных комитетов готовили отчеты Особому совещанию. В марте 1903 года была отменена крестьянская порука, а в августе – телесные наказания крестьян, но общегражданские права на них не распространялись.
По итогам работы Особого совещания Витте составил сводный проект, в котором вводил частную собственность на землю, определил механизм легкого выхода из общины, поддержал хуторское земледелие, крестьянские усадьбы предлагал сделать частными владениями. Все это Витте предлагал сделать «для предотвращения революции и в духе времени». Проект Витте Николай II не подписал и в январе 1905 года особое совещание закрыл, «за старание водворить личную собственность». Община осталась в неприкосновенности, и потом самодержавию для спасения не хватило всего несколько лет для отказа от общины и создания сильного класса богатого крестьянства. Вместо этого в начале ХХ столетия подданные создали массовые революционные партии социалистов-революционеров и социал-демократов, добивавшихся свержения самодержавия, введении в империи конституции и демократической республики с однопалатным Учредительным собранием. Жена министра внутренних дел, рюриковича и князя П. Святополк-Мирского графиня Бобринская, потомок Екатерины II, в июле 1904 года с понятной яростью писала о Николае II: «Несчастный человек! Я его раньше ненавидела, а теперь жалею. Образец немощного вырождения, которому вбили в голову, что он должен быть тверд, а хуже нет, когда слабый человек хочет быть твердым. И кто это имеет такое дурное влияние? Кажется, Александра Федоровна думает, что так нужно, Мария Федоровна другого мнения, она мужу сказала: «Эти свиньи заставляют моего сына делать бог знает, что и говорят, что Александр III этого хотел». Но кто эти свиньи? Революционеры подробно рассказывали подданным, кого имела в виду сановница, придумав для их обозначения слово «камарилья».
Сергей Витте неоднократно утверждал, что Россия не должна воевать, поскольку все внешние и внутренние проблемы можно решить, не прибегая к войне. Он стремился создать Великий континентальный союз России, Франции и Германии, Соединенные Штаты Европы, выступал за союз с Китаем, Россия на всех парах летела к русско-японской войне и революции, и группа влиятельных сановников и царедворцев во главе с бывшим ротмистром, статс-секретарем А.Безобразовым, министром иностранных дел М.Муравьевым, министром внутренних дел В. Плеве, великим князем Алексеем Михайловичем, князем И.Воронцовым, графом Ф.Сумароковым-Эльстоном предложила Николаю II присоединить к империи часть китайской территории с Порт-Артуром. Само присоединение безобразовскую клику, конечно, не интересовало, но она благополучно украла несколько миллионов рублей, выделенных казной на геополитический проект, не реализованный, но вызвавший русско-японскую войну, с полумиллионом трупов, раненных и пропавших безвести имперских солдат.