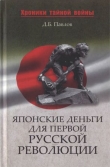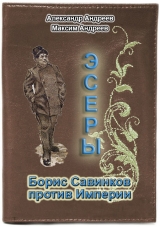
Текст книги "Эсеры. Борис Савинков против Империи (СИ)"
Автор книги: Максим Андреев
Соавторы: Александр Андреев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
В 1903 году массовые аресты революционеров, инакомыслящих и либюералов полиция и жандармы произвели в Тамбове, Одессе, Екатеринославе, Петербурге, Козлове, Курске, саратове, Москве, Киеве и во многих других имперских городах. Проваливались типографии, конспиративные квартиры, арестовывались лучшие эсеровские пропагандисты и агитаторы. Гибли явки, перехватывали транспорты нелегальной литературы, из партийных рядов вырывались лучшие работники, в некоторых городах эсеровские группы ликвидировались в полном составе. при этом статистики Департамента полиции отмечали, что чем интенсивнее идет работа розыскных органов импери, разрушавших работу эсеровских организаций, тем больше их возникает и они становятся все более и более многичисленнее. К самодержавию шли и шли полицейские доклады, что причину приближения революции к империи следует искать во все более и более развивающемся противомонархическом движении интеллигенции, пока требовавшей только конституции.
При аресте киевской эсеровской типографии Спиридовичем была арестована ставившая ее тридцатисемилетняя акушерка Фрума Фрумкина, при задержании попытавшаяся зарезать начальника охранного отделения. В киевской тюрьме она достала острый нож и подала заявление, что хочет дать откровенные показания, но только начальнику жандармского управления генералу Новицкому. В конце декабря 1903 года на допросе у генерала один на один Фрумкина ударила Новицкого ножом в горло, но он все же сумел отбиться и был только легко ранен. Ей дали одиннадцать лет каторги в Зерентуе, в 1905 году смененной на поселение. Фрумкина бежала, 28 февраля 1907 года в Большом театре чуть не застрелила в ложе московского градоначальника генерала Рейбота, из эсеровского браунинга с надписью «по делам вашим воздаться вам» и была перехвачена охраной. В Бутырской тюрьме Фрумкина добыла револьвер и после издевательств начальника тюрьмы над заключенными стреляла в него и ранила тюремщика в руку. Ее казнили в тюрьме в июле 1907 года, но эта террористка совсем не была имперским исключением.
Пропаганда социалистов-революционеров активно влияла на студентов, интеллигентов, рабочих и крестьян и представлялась серьезным противником не только монархии, но и социал-демократам В Ульянова-Ленина. Даже среди эсеров выделилась анархогруппа максималистов, считавшая, что социализм можно ввести немедленно с помощью тотального террора и экспроприаций. В империи произвели колоссальное впечатление убийство Сипягина и Богдановича, совершенные Боевой Организацией Гершуни. Вся читающая империя знала «Песню о соколе» писателя Максима Горького, говорившего, что она выражает общее настроение и подъем революционного движения в имперском обществе:
«Безумству храбрых поем мы славу!
Безумство храбрых – вот мудрость жизни!
Безумству храбрых поем мы песню!»
Совсем скоро Боевая Организация прогремит по всей империи и имена Карповича, Балмашева, Гершуни, Сазонова, Каляева, Савинкова станут известны всем подданым, а их террористические удары среди многих членов общества будут встречены с энтузиазмом и будут иметь не только имперское, но и европейское значение.
Еще со времен грозного Исполнительного Комитета «Народной воли» революционеры убивали столпы самодержавия совсем не потому, что они не реформировали империю, а просто мстили им за убийство их товарищей, публичное и просто административное. Отложенный приговор Александру II был приведен в исполнение народовольцами только после казни любимца партии Александра Квятковского. В начале ХХ века Плеве по-прежнему, как и во время разгрома «Народной воли», считал, что достаточно перебить выдающихся революционеров и никаких восстаний не будет. В соответствии с выполнением его антиоппозиционной программы количество недовольных самодержавием активно увеличивалось и министр внутренних дел с товарищами по Зимнему дворцу решил добавить к традиционным полицейским фантомным поискам найденного им «внешнего врага». Вячеславу Плеве приписывают авторство слов, что «маленькая победоносная война вызовет патриотический порыв и консолидацию общества» и уничтожит революцию. То, что ради сохранения несохраняемой монархии погибнут тысячи, сотни тысяч, а потом миллионы и десятки миллионов людей, что семьи останутся без кормильцев, а дети без отцов, что одинокие матери будут рваться из жил, чтобы только выкормить безотцовщину, а уж о том, чтобы дать им счастливую жизнь, будут только мечтать, что ужасы и кошмары войны опять и снова, после долгого перерыва накроют монархию, столпов самодержавия, как и на протяжении всего XIX века, не волновало. Они почему-то не догадывались, что в отношении них и многих других большевики Ленина точно также реализуют его лозунг «Как царь с нами – так и мы с царем», а «маленькая победоносная война» превратиться в большую кровавую резню и бойню, которой почти не будет конца и счет ей пойдет на десятилетия и миллионы человеческих жизней. «Отцами русско-японской войны» называли Плеве и Витте, но войны редко начинаются по желанию одного или двух человек, даже если это столпы самодержавия.
Впоследствии о предтече революции в России ленинцы писали: «Русско-японская война 1904–1905 годов была затеяна торговым капиталом России в целях захвата Маньчжурии, Кореи и ряда незамерзающих гаваней на Дальнем Востоке. Интересы русского торгового капитала при эксплуатации Сибири к востоку от Енисея повелительно требовали найти в любое время года выход на Тихий океан. Плохо слаженная война окончилась для России поражением. Был потерян флот и много тысяч солдат полегло в боях. Революция 1905 года непосредственно вышла из русско-японской войны».
На Дальнем Востоке столкнулись интересы многих ведущих государств мира. В 1896 году в Москве был подписан договор о русско-китайском союзе, предусматривающий помощь России Китаю в случае нападения на него Японии, как это и произошло в 1894–1895 годах. По договору созданный Русско-Китайский банк начал постройку в Маньчжурии КВЖД, Китайско-Восточной железной дороги, дававшей русской буржуазии широкие возможности для ее развития на Тихом океане. В марте 1898 года Россия на двадцать пять лет арендовала у Китая Ляодунский полуостров с Порт-Артуром и Дальним. В 1902 году был подписан договор Японии и Англии, и японцы, поддержанные финансами, стратегическим сырьем и вооружениями, возобновили свою китайскую экспансию.
Министр финансов и председатель Комитета Министров Сергей Витте часто говорил, что поскольку нет каких-то жизненно важных для империи проблем, которые можно решить и без войны, Россия не должна в них ввязываться. Витте был сторонником союза России с Францией и Германией, и мечтал создать Великий континентальный союз, что сделает невозможной русско-германскую войну. Витте выступал за союз с Китаем на основе сохранения его целостности. В противовес Витте выступила поддержанная Зимним дворцом «Безобразовская клика», в которую наряду с министром иностранных дел М. Муравьевым, министром внутренних дел В. Плеве, входили богатые князь И. Воронцов, граф Ф. Сумароков-Эльстон, великий князь Алексей Михайлович и безвестный ротрмистр А. Безобразов, почему-то вдруг ставший имперским статс-секретарем. Именно при создании этой группы Плеве вроде бы сказал вошедший в историю афоризм: «Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая война». Кишиневского погрома, даже в правительстве названного «выдающимся по своей жестокости», Плеве было мало. Ему хотелось еще трупов других подданых. До того момента, как он сам стал трупом, оставалось полгода.
Министр финансов Витте, в руках которого находились все имперские деньги, был противником войны с Японией. Он мешал «Безобразовской клике», выступавшей за агрессивную политику в Маньчжурии и Корее и вообще на Дальнем Востоке, получить бюджетные средства для осуществления своей программы. В январе 1903 года безобразовцы все же продавили в Зимнем дворце безвозвратный двухмиллионный кредит, который через полгода исчез в нужных карманах. Это было очень мало для «освоения» Маньчжурии и в августе 1903 года Витте отставили от имперских финансов, назначив на пост председателя Комитета министров, на всякий случай без права личного доклада Николаю II. На Дальнем Востоке было создано особое наместничество и экспансия, необходимая для обоснования выделения бюджетных миллионов «безобразовцам», началась. Витте писал:
«Военный министр Куропаткин действовал со свойственным ему легкомыслием и непрозорливостью. Войска прочно оккупировали как юг, так и север Маньчжурии. Наши войска распоряжались в Китае совершенно произвольно, так, как поступает неприятель в захваченной стране. Была создана та почва, на которой неизбежно должна была разразиться катастрофа. Я и министр иностранных дел граф Ламздорф убеждали его величество вывести войска из Маньчжурии. Военное ведомство делало все, чтобы иметь предлог не выводить оттуда войска. Его императорское величество никаких твердых решений по этому предмету не предпринимало.
Что касается Безобразова, который сыграл такую видную роль в авантюре, приведшей нас к войне с Японией, то его почтеннейшая жена, эта честная, очень милая и образованная женщина, была чрезвычайно смущена и говорила: «Никак не могу понять, каким образом Саша может играть такую громадную роль. Неужели не замечают и не знают, что он полупомешанный?»
В обществе заговорили, что в руководстве внешней имперской политикой царит полный разброд. Китай, поддержанный Японией, Англией и США настаивал на выводе русских войск из Маньчжурии, но Россия не уходила. В конце 1903 года Япония с помощью западных союзников закончила перевооружение своей армии и начала переговоры с Россией о Дальнем Востоке. Японские руководители рассчитывали, что царское правительство их затянет и можно будет использовать это как предлог к объявлению войны. В августе 1903 года японский посол вручил в Петербурге министру иностранных дел Ламздорфу проект договора, по которому Россия должна была отказаться от Маньчжурии, и признать интересы Японии в Корее и во всем Северо-Восточном Китае. В конце сентября Россия предложила Японии «признать Маньчжурию и ее побережья во всех отношениях вне сферы интересов», и заявила, что может признать «преобладание интересов Японии в Корее», с определенными ограничениями. В конце октября Япония потребовала признать «неприкосновенность Китая и ее прав в Маньчжурии». До конца 1903 года Россия и Япония так ни до чего не договорились. 13 января 1904 года Япония предъявила России ультиматум, потребовав безоговорочного признания ее требований. В империи почему-то не верили, что маленькая Япония способна победить могучую Россию. Монархия признала почти весь ультиматум, но Япония хотела войны, задержала договор на телеграфе, разорвала с Россией дипломатические отношения и 8 февраля удачно атаковала русский флот в Порт-Артуре. Русско-японская война началась.
Сергей Витте писал: «Началось ужасное время. Несчастнейшая из несчастнейших войн и затем как ближайшее последствие – революция, давно подготовленная полицейско-дворцово-камарильным режимом. Жаль царя. Жаль России. Бедный и несчастный государь! Что он получил и что оставит? И ведь хороший и неглупый человек, но безвольный, и на этой черте его характера развились его государственные пороки правителя, да еще какого самодержавного и неограниченного. Было сразу видно, что война эта крайне непопулярна, что народ ее не желает, а большинство проклинает».
В резолюциях царь называл японцев «эти макаки» и это слово подхватила официальная пресса. Прибывший на Дальний Восток Куропаткин конфликтовал с Алексеевым, и Витте писал: «Государь по обыкновению двоился: сегодня направо, завтра – налево, а главное, желал, как всегда, провести обоих. Проводил же он всегда больше всего самого себя». В марте японцы потопили русский броненосец «Петропавловск» с адмиралом Макаровым, осадили Порт-Артур, выиграли сражение под Лаояном и Шахе, в декабре взяли Порт-Артур, а в феврале 1905 года разгромили армию Куропаткина в большом сражении под Мукденом. Русские войска откатывались и откатывались к Харбину, а в середине мая империю потряс разгром флота в Цусимском проливе. Японские броненосцы и крейсера, орудия которых били на четыреста метров дальше русских, разнесли эскадру Рожественского, часть которой сдалась в плен, и это был национальный позор. Общество прекрасно знало, почему японские снаряды прошивали русские броненосцы сквозь оба борта, и их не задерживала уменьшенная броня, и на каких балерин потратил миллионы рублей, выделенных на строительство военно-морского флота империи, генерал-адмирал и великий князь Алексей, дядя Николая II. Высшее общество, потеряв среди десяти тысяч утонувших в Цусимском проливе русских моряков, множество отцов, сыновей и братьев, никогда этого не простило императору Николаю II, который за смерть монархической элиты просто перевел своего дядю на другую работу.
О первых поражениях в японской войне Зимний дворец говорил как о «приключившихся в Маньчжурии небольших неприятностях». После Цусимского позора империя резко качнулась в сторону революции. В монархи понимали, кто виноват в несусветном поражении в русско-японской войне. Витте писал Куропаткину: «Не внешние исторические течения довели нас до этого, а мы сами себе все это уготовили, сами искали, как бы найти вонючее болото, чтобы окунуться в него по уши. Нашли и окунулись, а вылезти не можем». Монархист и член Черной сотни, профессор Петербургского университета Б. Никольский в ярости писал о Николае II: «Точно какая-то непосильная ноша легла на хилого работника, и он неуверенно и шатко ее несет. Дух, которому не хватило крови, чтобы вполне ожить. Царя органически нельзя вразумить. Он хуже, чем бездарен. Он полное ничтожество! Одного покушения мало, чтобы очистить воздух. Несчастный вырождающийся царь с его ничтожным, мелким и жалким характером, совершенно глупый, не ведая, что творит, губит Россию. Конец России самодержавной и династии. Не чудо рассчитывать нечего. Нужно переменить династию. Но где взять новую? По закону запретить великим князьям занимать ответственные посты. Надо заменить царя другим человеком. Я не бог, чтобы сделать из Николая Петра. Конец той России, которой я служил, которую любил, в которую верил. Надолго ночь! Если бы можно было надеяться на его самоубийство, это было бы все-таки шансом. Но где ему!»
Сергея Витте в Европе и Америке называли «королем дипломатии» и Николай II на предложение МИД назначить его главой делегации на мирных переговорах в американском Портсмуте ответил: «только не Витте». В июле 1905 года император назначил своего председателя Комитета Министров главой мирной делегации. Пока царь колебался японцы взяли остров Сахалин. Перед отъездом Витте в Портсмут царь принял его и сказал, что согласен на мир без территориальных уступок и контрибуций японцев и неизвестно, называл ли он их по-старому «макаками». В обществе говорили, что Николай II злопамятно невзлюбил Витте за то, что он больше всех боролся и предостерегал царя от дальневосточной авантюры. Он знал слова Витте, сказанные по императорскому адресу: «Тяжело быть представителем великой военной державы России, так ужасно и так глупо разбитой. Не японцы разбили Россию, а наши порядки, наше мальчишеское управление ста сорокамиллионным населением в последние годы».
В конце июля 1905 года в Портсмуте Япония потребовала у России преобладания в Корее, вывод войск из Маньчжурии, Сахалин, Квантунский полуостров, уплаты колоссальной контрибуции, ограничения флота на Тихом океане и права японским шхунам рыбачить чуть ли не в российских территориальных водах. Империя признала японские требования неприемлемыми. После долгих переговоров почти выдохшаяся в войне Япония получила только половину Сахалина. Витте, блестяще проведший переговоры, получил графский титул, орден Александра Невского и виллу на французском Лазурном берегу. Общество понимало, что потери от проигранной войны были минимальны, как и то, что положение империи на Дальнем Востоке резко ухудшилось. В стране уже год говорили о необходимости реформ, в Витте ввел термин «социализация монархии» и заявил, что Россия, как и Европа, стоит перед выбором – социализм или самодержавие. Он говорил, что самодержавие, конечно, лучше, потому что оно «сознает свое бытие в охране интересов масс, сознает, что оно зиждется на интересах общего блага или социализма, существующего ныне лишь в теории». Витте писал: «Я убежден, что Россия сделается конституционным государством де-факто, и в ней, как и в других цивилизованных государствах, водворятся основы гражданской свободы. Вопрос лишь в том, совершится это спокойно и разумно или вытечет из потоков крови».
Осенью 1905 года вся империя совершенно спокойно и свободно говорила на темы, за которые два года назад могла отправиться на каторгу. С апреля 19032 года прошло множество революционных событий, в результате которых монархия стала шататься на ровном месте. Причиной этого стала Партия социалистов-революционеров и ее Боевая Организация, которую почему-то невозможно было остановить. В конце апреля 1903 года ее возглавил многолетний секретный сотрудник и революционер Евно Азеф, который мог отчетливо сказать: «Империя, к тебе провокатор пришел».
Эсерка Фрумкина на суде заявила: «Террористические акты являются пока, в бесправной России, единственным средством хоть несколько обуздать выдающихся русских насильников». После ареста Гершуни в мае 1903 года Азеф приехал в Европу к М. Гоцу, который подтвердил перед ЦК партии социалистов-революционеров полномочия Азефа как руководителя Боевой Организации. У Гоца было революционное завещание Гершуни и основная касса Боевой Организации. Азеф и Гоц сверили явки, пароли, адреса для переписки, список боевиков, «окна» на границе, связи, адреса типографий и динамитных мастерских. Все совпало и Азеф был признан партией эсеров новым вождем Боевой Организации, призванным увеличить ее славу. Азеф с удовольствием принял дела Гершуни, особенно кассу Боевой Организации. Очевидно, он очень расстроился, когда сравнил свой министерский оклад в Департаменте полиции с теми колоссальными средствами Боевой Организации, которые оказались у него в руках. Кроме этого, Чернов заверил Азефа, что при необходимости финансирование боевиков может быть еще увеличено. Упертость и наглость самодержавия не нравились многим имперским подданным, включая и очень богатых, которые жертвовали очень большие суммы для победы революции.
По уставу Боевой Организации, в технических и организационных делах совершенно независимой от Центрального комитета партии эсеров, ее возглавил Исполнительный Комитет, что говорило о преемственности эсерами славы народовольцев. В комитет во главе с членом-распорядителем Азефом вошли Борис Савинков и Михаил Швейцер. Боевая Организация еще раз заявила, что свержение самодержавия приблизит террор. Живущий тройной жизнью сексота, революционера и семьянина Азеф писал жене: «Какое несчастье, что в нашей революционной партии так мало инициативы. Приходится все делать самому. Когда меня нет – все делается спустя рукава. Думаешь, что имеешь дело с взрослыми, разумными людьми, – на самом же деле это мальчишки». После назначения руководителем Боевой Организации Азеф уехал в Женеву, где стал продумывать план создания мощнейшей террористической структуры революционной партии, во главе которой стоял он, ведущий, если не главный секретный сотрудник империи с десятилетним стажем. Деньги Азефу шли от революционеров и полиции, и надо было делать все так, чтобы удовлетворять интересам охраны и партии. Многолетний начальник личной охраны Николая II генерал А. Спиридович писал: «Евно Азеф – здоровый мужчина с толстым скуластым лицом, типа преступника, прежде всего, был крайне антипатичным по наружности и сразу производил весьма неприятное и даже отталкивающее впечатление. Обладая выдающимся умом, математической аккуратностью, спокойный, рассудительный, холодный и осторожный до крайности, он был, как бы рожден для крупных организаторских дел. Редкий эгоист, он преследовал, прежде всего, свои личные интересы, для достижения которых считал пригодными все средства до убийства и предательства включительно. Властный и не терпевший возражений тон, смелость, граничащая с наглостью, необычная хитрость и лживость, развивавшаяся до виртуозности в его всегдашней двойной крайне опасной игре, создали из него в русском революционном мире единственный в своем роде тип-монстр. И ко всему этому Азеф был нежным мужем и отцом, очаровательным в интимной семейной обстановке и среди близких людей. В нем было какое-то почти необъяснимое, страшное сочетание добра со злом, любви и ласки с ненавистью и жестокостью, товарищеской дружбы с изменой и предательством. Только варьируя этими разнообразнейшими, богатейшими свойствами своей натуры, Азеф мог, вращаясь в одно и то же время среди далеко не глупых представителей двух противоположных борющихся лагерей – правительства и социалистов-революционеров – заслужить редкое доверие как одной, так и другой стороны. И впоследствии, когда он был уже разоблачен в его двойной игре, его с жаром защищал с трибуны государственной думы, как честного сотрудника, сам Столыпин, и в то же время, за его революционную честность бились с пеной у рта такие столпы партии социалистов-революционеров, как Гершуни, Чернов, Савинков и другие. Несмотря на всю позднейшую доказанность предательства Азефа, несмотря на всю выясненную статистику повешенных и сосланных из-за его предательства, главари партии эсеров все-таки дали возможность Азефу безнаказанно скрыться. Таково было обаяние и такова была тонкость игры этого страшного человека. Один из виднейших представителей партии дал о нем такие показания при расследовании обстоятельств его предательства: «В глазах правящих сфер партии Азеф вырос в человека незаменимого, провиденциального, который один только и может осуществить террор. Отношение руководящих сфер к Азефу носило характер своего рода коллективного гипноза, выросшего на почве той идеи, что террористическая борьба должна быть не только неотъемлемой, но и господствующей отраслью в партийной деятельности».
Борис Савинков писал о своем террористическом начальнике: «Я был связан с Азефом дружбой. Долговременная совместная террористическая работа сблизила нас. Я знал Азефа за человека большой воли, сильного практического ума и крупного организаторского таланта. Я видел его на работе. Я видел его неуклонную последовательность в революционном действии, его спокойное мужество террориста, наконец, его глубокую нежность к семье. В моих глазах он был даровитым и опытным революционером и твердым решительным человеком. Это мнение в общих чертах разделялось всеми товарищами, работавшими с ним».
В Европе 1903 года Азеф подробно изучил современные взрывчатые вещества и предложил сделать их главными техническими средствами террористической борьбы. Он докладывал в ЦК партии, что еще народовольцы 1880-х годов на основании своего богатого опыта пришли к выводу, что револьверы при покушении надо заменить бомбами, и повторял старую революционную поговорку «Мало вера в револьверы». Азеф, то ли согласовав, то ли нет, эту свою идею с Департаментом полиции, заявил, что основой террора должен стать динамит, и это позднее стало считаться в парии одной из самых крупных его заслуг. Азеф разработал систему приемов, обеспечивавших успех террористических актов и постоянно контролировал их строгое соблюдение. Члены Боевой Организации полностью отделялись от партии, не имели права пользоваться общепартийными конспиративными квартирами и явками, общаться с товарищами по партии, не являвшихся членами Боевой Организации, пользоваться нелегальными партийными паспортами. Азеф заявлял, что «при большой распространенности провокации в организациях массового характера, общение с ними для боевого дела будет губительно».
У Боевой Организации было много денег и добровольцев, из которых Азеф мог выбирать лучших боевиков. Для подготовки покушения создавались отдельные группы наблюдения за образом жизни и маршрутах сановников, их привычках и предпочтениях, частных знакомствах и деловых связях. Члены контрнаблюдательного отряда собирали информацию, как извозчики, продавцы газет, мелкие торговцы вразнос, посыльные, просто гуляющие, наниматели квартир рядом с местом жительства или работы объектов террористической атаки. В наружном контрнаблюдении изобретательность Азефа была поразительна, особенно с учетом того, что полицейские агенты наружного наблюдения постоянно находились на улицах и присутственных местах, где бывали члены имперского правительства, жили, работали, просто проезжали. Члены группы эсеровского контрнаблюдения деятельно собирали нужные для убийства очередного сановника сведения.
Отдельные группы боевиков занимались техническим обеспечением политических убийств, изготавливали взрывчатые вещества и снаряжали бомбы, держали «окна на границе», вели паспортное бюро, доставали револьверы, пистолеты, патроны, вели типографии. Отдельную обособленную группу составляли террористы – исполнители покушений. Контрнаблюдение, техника и боевики были строго отделены друг от друга. Отношения между тремя главными отделениями Боевой Организации поддерживались специальными посредниками-руководителями. До самого покушения исполнители политических убийств жили как обычные люди, стараясь не попадать в поле зрения полиции. Непосредственно на покушение шли только метальщики, техник, снаряжающий и разряжающий бомбы и руководитель-связник. Член ЦК эсеров В. Чернов писал, что блестящие успехи Азефа объяснялись его техническим гением, умением продумывать все взаимные случайности, затруднения, даже опасности. Все члены Боевой Организации соблюдали железную дисциплину, слепо подчинялись воле Азефа. Сам террористический акт становился конечной точкой большой, очень сложной и дорогостоящей работы.
Организовав роботу Боевой Организации в январе 1904 года Азеф вернулся в Россию. Почти сто боевиков с нетерпением ждали его приказа. По решению Центрального Комитета партии эсеров Боевая Организация должна была убить Плеве.
Родившийся в 1846 году Вячеслав Плеве в тридцать пять лет стал директором Департамента полиции, с 1884 по 1894 год прослужил заместителем министра внутренних дел, затем восемь лет прослужил статс-секретарем по делам Финляндии и в 1902 году был назначен министром внутренних дел после убийства Сипягина. После прихода к власти большевики называли его палачом, боровшимся с переместившимся в Россию центром революционного движения. Как только Плеве возглавил имперское МВД, он увеличил количество охранных отделений и охранников, усилил Департамент полиции и жандармские управления. Плеве широко применял полицейский террор. Сначала с помощью Зубатова Плеве пытался развратить рабочее движение и взять его под опеку полиции, а потом стал давить рабочие забастовки и демонстрации, посылал карательные экспедиции на волновавшихся крестьян. Министр увеличил и так необъятные права губернаторов и заявил им на совещании в Петербурге: «При превышении власти вы всегда найдете во мне защиту, но при бездействии власти – никогда».
Плеве был одним из руководителей авантюры безобразовцев, которая привела к позорно проигранной войне с Японией. Ленинцы называли его «отъявленным реакционером, кровавым псом царизма и предателем национальных интересов России». Под его давлением в 1904 году был подписан российско-германский торговый договор, представлявший немецкой промышленности чрезвычайно благоприятные условия на имперском рынке. Политика Плеве на Кавказе, построенная не на объективном анализе ситуации, а на желании сделать приятное Зимнему дворцу, закончилась тем, что в обществе стали говорить, что благодаря деятельности МВД Кавказ нужно покорять снова. О том, что у кавказских народов особая психология, особые понятия о гражданственности и чувстве собственного достоинства, Плеве, конечно, знал, но ему было все равно.
Плеве вел жесткую политику в отношении евреев в империи. С. Витте писал: «Не существует другого решения еврейского вопроса, кроме как предоставления евреям равноправия и другими подданными государя. Так как вся груда еврейских законов представляет смесь неопределенностей с возможностью широкого толкования в ту или другую сторону, то на этой почве создалась целая куча всяких произвольных и противоречивых толкований. Ни с кого администрация не берет столько взяток, сколько с евреев. В некоторых местностях прямо создана особая система взяточнического налога на евреев. Это способствовало крайнему революционизированию еврейских масс, в особенности молодежи. Ни одна национальность не дала в России такого процента революционеров, как еврейская. Громадное количество евреев пристало к самым крайним партиям. Душой же и сочинителем всех антиеврейских проектов был Плеве. Он против евреев ничего не имел, он был настолько умен, что понимал, что эта политика неправильна, но она нравилась великому князю Сергею Александровичу, по-видимому, и его величеству, а потому Плеве старался вовсю. Еврейский вопрос сопровождался погромами. Плеве, ища психологического перелома в революционном настроении масс во время Японской войны, искал его в еврейских погромах, а потому при нем разразились еврейские погромы, из которых был особенно безобразен дикий и жестокий погром в Кишиневе. Еврейский погром в Кишиневе, устроенный попустительством Плеве свел евреев с ума и окончательно толкнул их в революцию. Ужасная, но еще более идиотская политика! Государство есть живой организм, а потому нужно быть очень осторожным в резких операциях. Плеве старался всячески развалить сильно развившееся революционное настроение, но так как он был лишь умный, культурный и бессовестный полицейский, то для этого он использовал полицейские меры силы и хитрости. Зубатов говорил мне, что политика Плеве заключается в том, чтобы вгонять болезнь внутрь, и что это ни к чему не приведет, кроме самого дурного исхода. Он прибавил, что Плеве убьют, и что он его уже несколько раз спасал. Для меня было совершенно очевидно, что все это повышенное революционное настроение России кончится или катастрофой, или большим переворотом, что и случилось 17 октября 1905 года, и что меры, принимаемые Плеве, приведут к тому, что он будет убит, ибо если есть тысячи и тысячи людей, которые решаются пожертвовать собою, для того чтобы убить того или другого сановника, то можно избегать этой катастрофы месяцы, наконец, год, но в конце концом этот человек будет непременно убит. Нужно сказать, что петербургский режим создал массу людей, которые занимаются тем, что травят друг друга ложью и клеветой, ища для себя через это мимолетной выгоды. Многие личности, в том числе и государь, легко поддаются на эти наветы. Плеве так долго добивался поста министра, что, добившись своей цели, он был готов задушить всякого, кого он мог подозревать в способствовании его ухода с министерского места».