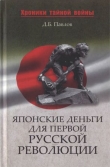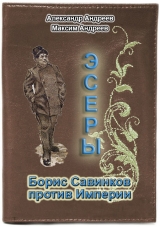
Текст книги "Эсеры. Борис Савинков против Империи (СИ)"
Автор книги: Максим Андреев
Соавторы: Александр Андреев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
В первые годы работы начальником Московского охранного отделения для борьбы с революционерами Зубатов использовал два метода. Охранники давали группе разрастись и потом арестовывали всех с возможно большими доказательствами и уликами, во втором случае охранники проводили систематические аресты, мешали революционерам, не давали им организовываться, сеяли их недоверия друг другу. Поняв и оценив опасность рабочего движения, Зубатов решил разложить его изнутри, создать многочисленные автономные общества, которые бы занимались исключительно экономической борьбой с заводчиками и фабрикантами, отказываясь от политической борьбы и поддерживая монархию. Зубатов решил отвлечь рабочих от революционной борьбы и прекрасно понимал, что их недовольство вызвано условиями труда и быта на фабриках, заводах и в мастерских. Революционные партии эсеров и социал-демократов еще только создавались, имея у себя теорию социализма Карла Маркса, и вот-вот тысячи пропагандистов должны были начать организовывать миллионы рабочих. Зубатов решил организационно овладеть рабочим классом и рассеять его, арестовать среди рабочих революционных идеологов и заменить их идеологию своей. Его действия стали называть полицейским социализмом. Зубатов оказался в нужном месте в нужное время, и его программа могла изменить историю империи, сделав ее не такой кровавой. Статский советник, так никогда и не ставший генералом, в своем монархическом угаре ни как не мог принять полную имперскую некомпетентность Зимнего дворца и его равнодушие к жизни подданных. В 1900 году, на переломе веков и эпох, рабочее движение стояло на перепутье и только от самодержавия зависело, какую дорогу выберут миллионы пролетариев.
В 1897 году был принят имперский закон о продолжительности рабочего дня. Закон сокращал рабочий день с четырнадцати – шестнадцати часов до одиннадцати с половиной в обычные дни, и до десяти часов ночью и в субботу. Хозяева фабрик и заводов под давлением министра финансов Витте сквозь зубы согласились на сокращение рабочего дня законом, который, впрочем, тут же свели на нет широко применявшимися сверхурочными работами. Сами рабочие все больше и больше прислушивались к революционным пропагандистам, которые предлагали им борьбу не только политическую, но и смену социального уклада жизни. На фабриках и заводах заговорили о социальной революции и диктатуре пролетариата. Зубатов решил легализовать рабочее движение, сделать его законным, а значит, безопасным для монархии. Он понимал, что только экономическими уступками ему можно отвлечь рабочих от революционеров. Однако ни он, ни самодержавие, ни как не могли понять, что применять колоссальную провокацию в миллионных движениях – значило играть с огнем.
Зубатов попытался объяснить самодержавию, что социалистические идеи направлены против царствующей династии, а рабочие не довольны только алчными заводчиками и фабрикантами, потому, что их жизнь была удачна. Репрессиями рабочих выгонять на смену не получится. К концу XIX столетия в России официально насчитывалось более семи миллионов рабочих, а реально их было почти десять миллионов. Для империи, в которой сто двадцать миллионов подданных охраняла двухмиллионная армия, это было уже много. Зубатову отвечали из Зимнего, что «благодаря нашим счастливым условиям землепользования большая часть русских рабочих тесно связана с землей и на фабричные работы она идет как на отхожие промыслы, ради подсобного заработка». Зубатов отвечал, что в руках рабочих находилась вся техника страны, а сами рабочие опираются на крестьянство, снизу, и активно общаются с интеллигенцией сверху: «Будучи разъярен социалистической пропагандой и революционной агитацией в направлении уничтожения государственного и общественного строя, этот коллектив может оказаться серьезнейшей угрозой для существующего порядка вещей». А причин для того, чтобы разъярить миллионы рабочих, хватало.
Средняя продолжительность жизни имперских рабочих была 32 года. Россия занимала первое место в мире по их производственному травматизму. Многие владельцы заводов и фабрик сами были выходцами из крестьян и рабочих и считались в обществе самыми зверскими эксплуататорами, не желавшими идти ни на какие разумные уступки рабочим. Квалифицированные мастера и рабочие получали хорошее жалование, но их было мало. Основной рабочей массе заработка с трудом хватало на еду и оплату жилья и дров, которые стоили очень дорого. Чернорабочие вообще получали заработную плату меньше прожиточного минимума. Рабочие массово чувствовали ущербность и отверженность своей жизни. Обычно в одной квартире жили двадцать рабочих в комнате, в которой стояли длинный стол с двумя лавками и матрасами на полу. В прихожей-кухне за занавеской жила артельная кухарка. Семейная жизнь рабочих в городах была почти невозможна, и большинство рабочих не видели своих деревенских жен и детей годами. Половина рабочих была жената вот таким образом, а вторая половина не могла себе позволить даже этого. Бывшие крестьяне посылали своим семьям заработанные потом рубли, которые часто шли не на детей и жену, а на долги семейства перед общиной, связанной круговой порукой. Если городские рабочие отказывались платить по долгам нерадивых или ленивых крестьянских общин, в ответ они отменяли выданные рабочим паспорта, что лишало пролетариев правового статуса. Доходило до того, что некоторые общины рассматривали отпущенных на заработки своих крестьян, как источник дохода. Рабочих, как и крестьян, справедливо считали в обществе наиболее бесправными подданными, и они это хорошо понимали. Имперские писатели и журналисты подробно описывали скудную, нездоровую, бессемейную жизнь рабочих монархии: «Бывали ли вы, читатель, когда-нибудь в крупных фабричных селах средней России? Голая, ровная местность, не паханные и не сеянные, поросшие сорной травой голые поля; тихо протекающая в берегах без кустика вонючая речка – вот обычный ландшафт, среди которого вы видите высокие трубы и громадные корпуса фабричных зданий. Вы увидите здесь длинные ряды маленьких избушек без всяких признаков хозяйственных построек, утопающих в убийственной грязи и нечистотах, развешенное на веревках и кольях тряпье, представляющее одежду обитателей этих лачуг».
Рабочие с 1895 года проводили массовые забастовки, требуя отмены штрафов, с помощью которых хозяева, инженеры и мастера глумились над ними, забирая каждый десятый заработанный рубль. Рабочие требовали ненавистных мастеров и восстановления на работе уволенных товарищей. Они хотели остановить произвол начальства протестуя против собственного бесправия, социальной униженности, наглости и жадности фабрикантов, особенно молодых, борясь за собственное человеческое достоинство. Фабрична инспекция и заводская полиция всегда была, само собой, на стороне хозяев: «нанялся – продался, а закон барину не указ». За десять последних лет XIX века имперская промышленность выросла чуть ли не втрое и тут же стала зоной наибольшего социального напряжения. Еще агитаторы «Народной воли» во главе с Андреем Желябовым создавали в 1880 году рабочие кружки, но были выбиты Департаментом полиции. Теперь, на переломе венков, сотни революционных пропагандистов пробуждали и раскрепощали самосознание массового пролетариата. В ответ хозяева фабрик и заводов старались в ущерб производству брать на работу не опытных рабочих, которые могли за себя постоять, а женщин и подростков, которым платили втрое меньше.
Зубатов понимал, что с рабочим движением нельзя бороться только полицейскими мерами. Он заявил монархии, что если рабочими завладеют социалисты, то революция в России неизбежна. Нужно создавать легальные рабочие организации во главе с секретными сотрудниками охранки и внушать рабочим идею, что во всех их бедах виноват совсем не император, а плохие заводчики и фабриканты. Царь, конечно, делает все возможное, чтобы уменьшить эксплуатацию рабочих и улучшить их положение. Нужно просить Его Императорское Величество, чтобы он получил от хозяев фабрик и заводов экономические уступки рабочим, которые могут получить все, что им нужно, через царя. Лучшее этому доказательство – освобождение крестьян в 1861 году.
Работа тред-юниона, в профессиональных союзах, отвлечет рабочих от социалистов и существенно укрепит авторитет царствующей династии. Охранные отделения, само собой, в легальных рабочих организациях будут легко выявлять революционных пропагандистов, агитаторов и сторонников социалистических идей. Революционное движение в империи будет обезглавлено: «Народная масса, во все времена и у всех больших народов, не говоря уже о нашем, всегда живо верила, что только монарх является представителем общих интересов, защитником слабых и угнетенных».
Для совместной работы Зубатов привлек Тихомирова, единственно раскаявшегося члена Исполнительного Комитета «Народной воли».
Лев Тихомиров, ставший из идеолога терроризма идеологом монархии, еще в 1887 году писал в прошении о помиловании императору Александру III: «Самодержавие народа, о котором я когда-то мечтал, в действительности есть совершенная ложь и может служить лишь средством для тех, кто более искушен в одурачивании толпы. Развращающее влияние политиканства, разжигающее инстинкты, само бросалось в глаза. Развитие народов, как всего живущего, совершается лишь органически, на тех основах, на которых они исторически сложились и выросли, и что поэтому здоровое развитие может быть только мирным и национальным». Тихомиров подготовил Зубатову доклад о развитии контролируемого монархией рабочего движения. Сам охранник считал, что все беды самодержавия происходят от сословия холуев императора, которые ради наживы извращают все государственные отношения, поэтому необходимо объединить царя и его подданных и это поддержит равновесие в империи. Он видел панацею в профсоюзных мирных объединениях рабочих и студентов: «Революционеры боятся инициативы правительства в деле улучшения бытовой жизни рабочих. Такая политика оставляет революционный штаб без армии, и борьба с правительством становится физически невозможной. Удовлетворите экономические потребности рабочих, и они не только не полезут в политику, а и выдадут всех интеллигентов поголовно».
Зимний дворец разрешил Зубатову поэкспериментировать с рабочими только в Москве, под бдительным присмотром Д. Трепова и великого князя Сергея Александровича. Зубатов создал в охранном отделении библиотеку соответствующих книг, отрицающих марксизм и предлагающих гармонию всех классов и только экономическую борьбу. Из своих агентов-рабочих Зубатов подготовил пропагандистов своих идей. Он сам проводил все занятия, читал лекции. Лев Тихомиров печатал в «Московских ведомостях» соответствующие статьи. Вскоре на нескольких фабриках и заводах были созданы кружки, в которых начались занятия с рабочими, не знавшими, естественно, что участвуют в стратегической полицейской операции. Вреднейшим мировым социалистом зубатовцы называли Карла Маркса. Первым была создана рабочая касса взаимопомощи, потом начались воскресные собрания в чайных, в клубах, по разрешению московского обер-полицмейстера Д. Трепова. Рабочие беседовали о своих делах, пили чай, отдыхали, Зубатов держался в тени, со всеми ходатайствами ходили сами рабочие во главе с его агентами, статный советник устроил в охранном отделении консультационный пункт, в котором по воскресеньям его офицеры принимали от рабочих заявления, давали разъяснения, нужные справки. Создавалась видимость, что рабочие всего могут добиться своим, мирным путем, с помощью правительства. Приходивших на собрания революционеров-пропагандистов выслеживали, потом арестовывали, и это была большая ошибка Зубатова, из-за которой контролируемое им рабочее движение так и не стало массовым. Москву в подполье стали называть гнездом провокации, и о самих зубатовцах пошли слухи, как о провокаторах. Через несколько лет общество узнало, что десятки зубатовцев получали ежемесячное содержание от двадцати до ста рублей и больше, субсидии на организаторские расходы.
В феврале 1902 года обер-полицмейстер утвердил зубатовский устав «Московского общества вспомоществования рабочих в механическом производстве». Постоянно рабочим стали читать лекции университетские профессоры, и на них присутствовали сотни слушателей, которые начали самостоятельно размышлять. Когда хозяева фабрик и заводов узнали, что их рабочим читают лекции о коллективном договоре, об установлении условий труда путем взаимных соглашений рабочих и предпринимателей, они пришли в ужас. Рабочие говорили о фабричной инспекции, призванной быть арбитром рабочих и хозяев: «Господин инспектор нам не защитник. Когда он приезжает на фабрику, идет прямо в кабинет директора, а на фабрику никогда не заходит. Мы его не видим. Когда кто-то из нас обращается к нему на квартиру с жалобами, он тогда приезжает на фабрику, идет в кабинет директора и запирается с ним. Потом из кабинета выходит директор и кричит на жалобщика: «Врешь, негодяй, я так с тобой не поступал». После этого инспектор говорит: «Видишь, ты врешь». Он обвиняет нас и выгоняет вон».
После создания в Москве зубатовских обществ жалобы рабочих на побои и хамство начальства выросли в двадцать раз, и обоснованными были признаны почти все. У тысяч рабочих активно развивалось самосознание и самоуважение, понимание своих прав и социальных претензий. Рабочие собрания проводились в аудитории Исторического музея и шестисот мест не хватало. Был выстроен Работный дом с залом на две тысячи мест и он не пустовал. Зубатов аккуратно создал в Москве Рабочий совет из семнадцати человек, и только он сам знал, сколько там было его агентов: «Дело идет блестяще. Обладая Советом, мы располагаем фокусом всей рабочей массы и благодаря этому рычагу можем вертеть всею громадой».
Заводчики, фабриканты и инспекция пошли на зубатовские общества в крестовый поход. Со всех сторон на министра внутренних дел Сипягина посыпались доносы, и он грозно запросил Трепова, на основании каких законов созданы союзы и советы рабочих. Трепов напомнил, что в виде исключения. Фабриканты и заводчики, не желая улучшать жизнь рабочих, в доносах во все инстанции стали писать, что Зубатов подрывает устои самодержавия. Количество доносов от шести тысяч владельцев и фабрик было колоссальным. Зубатову был нужен большой успех и 19 февраля 1902 года он организовал грандиозную манифестацию в Кремле, на которую возлагать цветы к памятнику Александру II собралось пятьдесят тысяч рабочих, без единого полицейского: «Оказалось, что пятидесятитысячная толпа вела себя как дисциплинированный полк солдат, и треповская перчатка играла роль волшебной палочки. Не произошло ни малейшего беспорядка или замешательства».
На Зубатова тут же написали донос, что его манифестация – это требование реформ, хотя рабочие просто возлагали к памятнику цветы. Один из зубатовских рабочих-агентов успешно выступал перед товарищами: «Студенты бунтуют и просят нас к ним присоединиться. Они хотят конституции. Зачем она нам? Чтобы посадить на шею фабрикантов и интеллигенцию? Они будут нас притеснять еще больше. Мы будем стоять за царя. Он обещает нам восьмичасовой рабочий день, льготы и повышение заработков. Потом он все фабрики отнимет у фабрикантов и отдаст нам. Нам нужна не конституция, а царь, который за нас!»
На Зубатова тут же написали донос, что его рабочие не хотят богоизбранного царя для всех, а только такого царя, который за рабочих. Зимний дворец распорядился не давать в газетах никакой информации о московской рабочей манифестации, которая все равно произвела на общество колоссальное впечатление. Зубатов показал, что может руководить рабочим движением и его стали всерьез бояться приближенные холопы императора, опасавшиеся за свое влияние на царя.
В Петербурге начальник Особого отдела Л. Ратаев был назначен заведовать заграничной агентурой в Париже. На его место всесильный Плеве назначил Зубатова и вызвал его в Петербург. Перед этим в Москве прошла забастовка рабочих завода Гужона, вызвавшая большой шум в империи, а сразу за ней эсеры застрелили министра внутренних дел Сипягина.
В феврале 1902 года рабочие фабрики шелковой мануфактуры француза Гужона остановили работу и потребовали у предпринимателя выплатить рабочим сорок тысяч рублей, незаконно удержанных у них из заработка. Совет рабочих начал переговоры с фабричной инспекцией и дирекцией фабрики, которая заявила, что если деньги будут выплачены, то ей придется снизить общие расценки на работу. Заработная плата падала почти на четверть и рабочие даже не стали это предложение обсуждать. Гужон объявил тысячам ткачей увольнение и не пустил на фабрику полицию, поддерживавшую рабочих. Трепов пришел в ярость и Гужон под угрозой ареста пустил Совет и офицеров-охранников на фабрику, на которой началась забастовка. Трепов и Зубатов заявили Гужону, что он своим неразумным поведением и незаконными действиями толкает тысячи рабочих на беспорядки и пригрозили обложить фабрику большими штрафами, а самого хозяина выслать из империи. Жадность предпринимателя, как обычно, победила разум и Гужон бросился жаловаться к французскому послу, который добился аудиенции у Николая II. Царь потребовал у министра внутренних дел Сипягина разобраться.
Гужон обратился в суд, чтобы уволенные рабочие освободили фабрику и ее общежития. Рабочие ушли и полиция дала им жилье и еду. Гужон поднял скандал в ассоциации заводчиков и фабрикантов Москвы, попросив дать ему своих рабочих, чтобы пустить фабрику. Одновременно он начал и сманивать чужих рабочих.
Зубатов собрал в московском ресторане Тестова всех крупных заводчиков и фабрикантов и выступил перед ними с большой речью. Статский советник и главный оперативный охранник империи сказал, что хозяева-буржуа не обращают внимания на интересы самодержавной монархии и своей жаждой к невменяемой наживе провоцирую рабочих на беспорядки и приближают кровавую революцию в империи. Он говорил хозяевам, что на всех их фабриках и заводах рабочих постоянно обсчитывают, незаконно и колоссально штрафуют и создают невыносимые условия для существования. Зубатов объявил, что если владельцы промышленности не улучшат положения рабочего класса, это сделает самодержавный государь.
Капиталисты ответили, что интересы государства и самодержавия они легко купят, потогонную рабочую систему сохранят, жизнь рабочим не улучшат и докажут им, что они беззащитны перед хозяевами. Между зубатовцами и гужоновцами началась война обманов, подлогов и доносов. Промышленники направили гору жалоб министру финансов Витте, который направил письмо Сипягину: «Видно, что рабочие не ограничиваются обсуждением бытовых вопросов, а пытаются даже обсуждать государственный бюджет». Конечно, это была не правда, хозяев фабрик и заводов, но никому из столпов самодержавия даже не пришло в голову проверить жалобы предпринимателей. Монархия молчаливо говорила, что рабочих необходимо отвлекать не только от антиправительственной политической деятельности, но так же и от деятельности антикапиталистической, и по своему обыкновению попыталась усидеть на двух стульях, наплевав на десять миллионов рабочих. Фабриканты и заводчики дали большие взятки придворным императора, которые тут же задудели в уши Николаю II, что опасный смутьян Зубаров пытается поднять рабочих против самодержавия. Хозяева промышленности подкупили губернаторов и они направили царю доклады, что охранные отделения активизируют в их губернии рабочее движение. Николаю II подали петиции и многие фабриканты, жаловались, что Зубатов поднимает против них рабочих. Выполняя царский приказ, Сипягин попытался сделать выговор всесильному великому князю Сергею Александровичу: «Попечительская политика рабочим Москвы зашла, кажется, далее целесообразных пределов и это вызывает крупное недоразумение. Деятельность Совета рабочих принимает все большие и большие размеры и распространяется на многие промышленные заведения, что вызывает нарекания фабрикантов. Было бы желательно приостановить всякую деятельность Совета».
Дядя царя и московский генерал-губернатор очень рассердился на Сипягина и хотел пожаловаться на министра внутренних дел племяннику – императору. Сергей Александрович не успел. 2 апреля 1902 года эсер Балмашев застрелил Сипягина прямо в здании Государственно совета. Зубатов и Тихомиров направили Трепову большой доклад «О задачах рабочих союзов и началах их организаций»: «Опасным и ложным шагом была бы постановка рабочего вопроса только на экономическую почву и в силу этого построение рабочей организации как исключительного орудия борьбы с капиталистами. Это сразу бы дало русскому рабочему движению наклонность к социализму. Рабочие союзы вместе с экономическими интересами могли бы поддерживать экономический порядок, иначе они попадут в революционные организации. В рабочем слое всегда найдутся высокодаровитые люди. Им нужно дать ход к умственной самостоятельности. Они должны стать народной интеллигенцией, явится советниками и руководителями рабочих, указывая своим товарищам пути и способы действий. Развитие такой народной интеллигенции для правительства было бы в высшей степени полезной, в виду устойчивости, которую она придаст рабочим массам. Учителем новой рабочей интеллигенции должна стать та часть русской интеллигенции, которая имеет национальное направление и думает не о захвате власти над Россией, а о выработке самостоятельной рабочей мысли. Рабочие союзы должны стать некоторой общиной, объединяющей фабрично-заводских рабочих во всех их нуждах. Крестьянин, являясь в город из своей деревни, попадал бы как бы в ту же привычную им общину, но только более развитую. Эта цель не заключает в себе ничего революционного, она не требует какого-либо переворота в России, только, наоборот, требует достройки. Рабочие союзы должны подготовить рабочие сословия к жизни в общинах, в которых фабрично-заводское сословие сделается одним из государственных и национальных сословий. Они не стремятся ни уничтожить, ни захватить капиталистическое производство, которое лучше всего может быть поставлено только частным предпринимателем».
Новый министр внутренних дел Плеве вызвал Зубатова из Москвы в Петербург и долго разговаривал со статским советником о его проектах по рабочей проблеме. Он признал их полезными для монархии и разрешил перенести на всю империю. Зубатов попросил Плеве добиться перевода фабричной инспекции из министерства финансов и министерство внутренних дел. Плеве не сразу назначил Зубатова начальником особого отдела Департамента полиции, а некоторое время присматривался к нему. Зубатов начал создавать рабочие союзы в Петербурге, Минске, Киеве, Одессе. Среди зубатовце в 1902 году появился молодой священник Георгий Гапон, который должен был организовывать рабочих в столице империи. После создания «Общества взаимопомощи рабочих механических мастерских» в Москве, Зубатов создал «Еврейскую независимую партию» в Минске, «Общество петербургских рабочих механического производства» в Петербурге, «Союз машиностроительных и механических рабочих» в Одессе. Зубатов писал о грядущей революции: «Решающая роль принадлежит серой неорганизованной массе, легко идущей на любой скандал и почти не способной к какому-то осмысленному ведению своего дела. Около нее стоит группа лиц, желающих узурпировать свою волю и настроение в своих партийных целях, и тут же рядом – представитель правительственной власти, благие начинания которого узурпаторы хотят парализовать соответствующим вызовом массы на какую-нибудь скандальную выходку. Только самое внимательное и самоотверженное отношение жандармской власти к делу, в состоянии привести всю путаницу отношений в порядок и свести их к мирному благоприятному концу. Работа очень трудная и кропотливая, но единственно продуктивная в наше время». Работа была действительно трудная, потому что Гужон победил рабочую забастовку на своей фабрике, набрав новых работников на своих условиях. Деньги промышленников, конечно, победили здравый смысл в империи. Капиталисты, как и обещали, купили интересы государства и самодержавия.
Плеве был известен империи как один из ликвидаторов «Народной воли». За двадцать лет после 1881 года революционное движение в монархии выросло в разы, и новый министр внутренних дел решил реорганизовать розыск в государстве. Он все-таки назначил руководителем Особого отдела Департамента полиции Сергея Зубатова, и статский советник был назначен фактическим главой политического сыска в империи. Зубатов реформировал всю полицейскую службу и в течение короткого времени почти в тридцати имперских городах создал охранные отделения, главные из которых возглавили его московские офицеры. Из ведения губернских жандармских управлений по царскому указу был изъят политический розыск революционеров и передан в охранку. Свой летучий филерский отряд Зубатов забрал в Петербург в Особый отдел и лучших из филеров назначил руководить службой наблюдения в охранные отделения. Были созданы эффективные полицейские органы, которые могли успешно бороться с нарастающим революционным движением. У них были деньги, квалифицированные сотрудники и свобода действий. Теоретически Зубатов все сделал правильно, но на практике все пошло совсем не так, как он хотел. Его возненавидели приближенные ко двору сановники, боявшиеся, что на фоне высокого профессионализма руководителя Особого отдела будет хорошо видна их никчемность и вред для империи. Охранные отделения встретили жесткое противодействие жандармских управлений: «ненависть и злоба не только начальников жандармских управлений, но и вообще офицеров корпуса жандармов к охранникам Департамента полиции дошла до ужасающих пределов. Сами сотрудники охранных отделений называли жандармов табуретной кавалерией. Впоследствии охранные пункты были созданы даже во многих уездных городах, но самому Зубатову дали проработать только год. Благодаря противодействию монархии зубатовщина, призванная не только задержать, но и изменить революцию, чрезвычайно сильно ее приблизила. А весной 1902 года Плеве и директор Департамента полиции Лопухин уже могли позволить себе уехать кто за границу, кто в деревню: «теперь вся полицейская часть, полицейское спокойствие государства в руках Зубатова, на которого можно положиться». Главный охранник империи попытался справиться с рождавшейся грозной партией социалистов-революционеров, но не успел, да и вряд ли смог.
В 1899 году в Минске, где уже активно действовал «Бунд», была создана «Рабочая партия политического освобождения» во главе с Григорием Гершуни, который очень быстро стал легендарным революционером и одним из основателей всероссийской партии социалистов-революционеров и первым руководителем созданной им грозной Боевой организации. Создавать партию ему активно помогала бывшая народоволка, пятидесятипятилетняя Екатерина Брешко-Брешковская, женщина неукротимой энергии. Витебская дворянка, она в 1873 году бросила мужа и четырехмесячного сына и вместе с народниками занялась пропагандой среди крестьян. Ее арестовали, почти три года продержали в тюрьме до суда, на Процессе 193-х дали пять лет сибирской каторги, сделав ее одной из первых женщин-каторжанок в империи. В Сибири ее продержали двадцать пять лет и только к концу столетия разрешили жить на родине в Минске. Несмотря на надзор полиции, Екатерина Брешковская одной из первых заговорила о возобновлении террора против насилия. Вместе с Гершуни она подбирала членов новой революционной партии, говоря им, что наступает эра свободы, и самодержавие уже не сможет слизнуть у них жизнь, как у народовольцев. Впоследствии, при создании партии эсеров, она объехала более тридцати губерний империи и везде призывала либералов, инакомыслящих, оппозиционеров к борьбе с самодержавием. Вслед за ней ехал Гершуни и создавал в губерниях партийные организации. Но это произошло только через год, а создать «Рабочую партию политического освобождения России» Гершуни не успел. Он создал в Минске типографию, напечатал в ней программную брошюру о терроре «Свобода», написанную Л. Клячко-Радионовой. Ее арестовали в самом начале 1900 года, и она почти сразу выдала всех своих товарищей по подполью. Гершуни сам редактировал террористическую брошюру, в которой основной задачей революционеров объявил завоевание политической свободы: «Сначала добившись либерально-буржуазной конституции, партия затем принудит правительство дать рабочую конституцию».
В феврале 1900 года типография в Минске была арестована, большинство подпольщиков взято специальными группами Зубатова.
Минский провизор Григорий Андреевич Гершуни был арестован 7 марта. Он очень быстро понял, что Зубатов занимался разгромом «Бунда», а его группа попала под широкий полицейский бредень почти случайно. Зубатов уже объявил всем задержанным революционерам в Минске, которых везли в Москву вагонами: «За кем нет формальных доказательств их виновности – те будут просто мной отпущены, независимо от того, какие бы ужасы они за собой не признали». К членам «Бунда» это, конечно, отношения не имело, а среди других подпольщиков Зубатов своим либеральным отношением хотел набрать новых секретных сотрудников. Гершуни и его товарищи стали говорить о себе, как об идеалистах, зная, что против них нет формальных улик, а только разговоры, за которые, правда, очень легко было получить бесконечную ссылку в Сибирь. Гершуни говорил Зубатову, что случайно давал небольшие деньги на издание вроде бы нелегальной литературы, разрешал ночевать у себя вроде бы нелегальным людям, даже по их просьбу что-то хранил. Никаких имен и новых фактов Гершуни не называл, а по поводу показаний автора брошюры «Свобода» Л. Клячко заявил, что был просто знаком с ней: «в конспиративную часть меня никогда не посвящали и о принадлежности к ее типографии как я, так и многие мои знакомые ничего не знали, хотя о существовании в Минске типографии я знал, так как об этом говорили во всех кружках». В июле 1900 года Зубатов отпустил, как и обещал, многих товарищей Гершуни и его самого, хотя и назвал аптекаря-провизора «крайне двусмысленным человеком в обыденной жизни». Впоследствии, когда Гершуни возглавил созданную им Боевую организацию, его освобождение летом 1900 года Зимний дворец Зубатову так и не простил. Зубатов продолжал доказывать революционерам, что «честный человек является предателем только тогда, когда выдает такого же честного человека, а не врага государства». С такой перевернутой логикой главе политического сыска империи дезорганизовывать подпольщиков, конечно, не удалось. Он продолжал создавать моральных уродов, но в основном людей без образования. Зубатов называл черное белым, а зло добром, но деградировали в соответствии с его теориями очень немногие настоящие революционеры. Они, конечно, не читали приказов начальника Зубатова Ротаева своему подчиненному, но прекрасно понимали, какой текст там может быть: «Дорогой Сергей Васильевич! Будьте ласковы, займитесь не отлагая проектом похода на жидов и не затягивая сообщите его мне. Очень хотелось бы, чтобы компания была закончена к Новому году». Революционеры стали говорить, что «самодержавие в империи искалечено и изуродовано до неузнаваемости». Политические идеалы Зубатова все дальше и дальше уходили от политических реальностей. Монархия продолжала обострять социальные противоречия среди подданных. В окрестностях Минска и Петербурга, Москвы и Киева проходили собрания революционеров, которые говорили о свободе сходок, слова и печати, и их становилось все больше. Рабочие союзы Зубатова блокировали хозяева деньгами и жалобами в правительство, в котором было много недругов статского советника. Его сотрудники пытались и пытались сделать зубатовщину массовой и писали рабочим в листовках: «Сила, надежда и будущее в союзах. Разные партии давно стараются нас организовать, но до сих пор у нас нет ни одной чисто рабочей организации. Те партии, которые работают среди нас, задаются очень большими, но очень далекими целями. Они стремятся к мировому перевороту. Всецело предаться нашим интересам, широко и мощно объединить рабочую массу могут только профессиональные рабочие союзы».