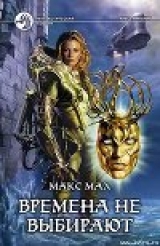
Текст книги "Времена не выбирают"
Автор книги: Макс Мах
Жанр:
Боевая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 37 страниц)
«И кто же тогда вы сами?»
Вопрос не носил и тени морального осуждения. Маркус не считал себя вправе судить других, вполне отдавая себе отчет в том, что такое есть он сам. Однако ему было не просто интересно, но и жизненно важно понять, что имеется за душой у этой странной женщины – королевы Ай Гель Нор или, возможно, просто Лики, – которая с одинаковым достоинством носила как нынешнюю свою победительную красоту, так и «уродство» тяжелой болезни. Что оставила она в своем прошлом? Что несла в своем сердце в неведомое будущее? Что связывает ее со всеми этими людьми – Максом, Виктором, Викторией, Йфф? Увы, в распоряжении Маркуса имелись лишь обрывки информации, из которых целостная картина пока никак не складывалась. И все-таки общее впечатление было такое, что все они люди неординарные, и еще одну вещь Маркус понимал тоже: все они были ему скорее симпатичны, чем наоборот. И люди, и… и нелюди тоже.
* * *
– Маркус. – Кузен, как всегда, объявился на острове без предупреждения, но в остальном вел себя безупречно. – Ты позволишь задать тебе вопрос о твоем Камне?
Камнем – именно так, с большой буквы – эти люди почему-то называли «магендовид», который висел у него на груди, как, впрочем, и тот, что носил сам Макс.
– Спрашивай, – предложил Маркус, с неподдельным интересом ожидая продолжения.
– Как ты открываешь Дверь? – спросил Макс. – Я имею в виду: ты делаешь это легко или тебе приходится преодолевать сопротивление?
«Интересно, произносить так много слов с большой буквы это стиль мышления или он переводит свои вопросы на немецкий с какого-то другого языка, где так принято?»
– Легко ли? – повторил он вслух. На самом деле вопрос был непростой. «Ощущения» при открытии прохода были не из приятных, но правда и то, что перед ним, Маркусом, дверь в Прагу и обратно открывалась достаточно легко.
– Легко ли? Пожалуй, да. А почему ты спрашиваешь?
– Видишь ли, – начал объяснять Макс, которого, как уже успел убедиться Маркус, смутить было невозможно. – У меня возникло ощущение, что разные Ключи по-разному ведут себя, открывая разные Двери.
– Разные Ключи? – переспросил Маркус, удивившись самой постановке вопроса. Какие, к чертовой матери, обобщения можно строить, имея в своем распоряжении всего два Ключа?
– У нас с тобой, – сказал он вслух, – всего два «магендовида». Этого явно недостаточно, чтобы прийти к каким-то определенным выводам.
– Два, – повторил за ним его таинственный кузен с какой-то странной интонацией. – Ну да, конечно, два – это не три.
«У него что, еще один „магендовид“ завелся? – подумал Маркус, пробуя эту идею „на вкус“. – Любопытно».
– Я пробовал пройти через Дверь в Праге, – продолжал между тем говорить Макс, – но смог ее лишь немного приоткрыть. А вот в Амстердам из вашего Рима прошел легко. И в других местах то же самое. – Он явно не хотел говорить, где именно он еще пробовал открывать проходы. – То так, то сяк.
– Может быть, дело в тебе? – предположил Маркус. – Насколько я знаю, Камень вступает в «отношения» отнюдь не с каждым, кто повесит его себе на шею. Может быть, и форма «отношений» варьируется?
– Возможно, – согласился Макс и на несколько секунд замолчал, явно что-то напряженно обдумывая. Маркус ему не мешал, разговор, в любом случае, был интересный. Глядишь, родственничек и еще что-нибудь любопытное расскажет.
– Возможно, – повторил Макс, очнувшись от своих размышлений. – Возможно, и Ключи бывают разные, и степень связи варьируется… Все возможно, но, видишь ли, Маркус, какое дело, мне надо открыть одну очень хитрую Дверь. Одному мне это не по силам, может быть, поучаствуешь?
– А куда она ведет? – полюбопытствовал Маркус, который, естественно, был готов помочь, да и не хотел упускать случая «расширить свои знания.
– Очень далеко, – откровенно усмехнулся кузен Макс. – На другую планету.
– Серьезно? – заинтересовался Маркус, который о такой возможности даже не думал. – А ты уверен, что там есть Дверь?
– Да, – кивнул Макс. – Я ее один раз даже открывал, но не уверен, что у меня это получится снова.
– Вот как? А зачем тебе туда?
– Там застрял один мой приятель с дочерью, – совершенно обыденным голосом – если, конечно, такой голос вообще можно было счесть обыденным, – сказал Макс. – Я хотел бы ему помочь.
Естественно, Маркус согласился и о своем решении не пожалел. Во-первых, потому, что его попросили об услуге, которую он был в силах выполнить, так почему бы и нет? А во-вторых, не согласись он, так бы и не узнал, что Ключей-то на самом деле, не два, а четыре, и носят их – «Ну кто бы мог подумать!» – королева Нор и дружок Макса закадычный – фельдмаршал и князь Виктор Дмитриев. Ну а в-третьих…
– Благодарю вас, Маркус, – сказал по-французски «человек», которого они все вместе полчаса назад «вытащили» из бог знает какого далека. – Я ваш должник.
Широкоплечий блондин с лицом или, вернее, мордой, заставляющей вспомнить ужасы офортов Гойи, монстров Брейгеля, низко, но с удивительным достоинством поклонился Маркусу и, выпрямившись, вполне по-европейски протянул ему свою руку.
– Меш, – сказал он. – Герцог Нош, но для вас, Маркус, просто Меш. Разрешите представить вам мою дочь, Риан.
– Спасибо.
У подошедшей к ним девочки был чудный голос, но все остальное… То есть нет, не так. Особо сильное впечатление производил как раз чудовищный контраст между безусловной и вполне человеческой красотой фигуры и «лицом» этого существа, при взгляде на которое можно было получить инфаркт миокарда.
– Спасибо, дедушка, – «улыбнулась» она. – Вы очень хороший человек.
У нее были голубые, как весеннее небо, глаза, но ее взгляд заставлял трепетать сердце, потому что, казалось, проникал в душу и читал там, как в открытой книге…
– Ты солдат, – неожиданно перейдя на «ты», сказала Риан строго и одновременно торжественно. – Но грязь и кровь к тебе не прилипли, Маркус, потому что ты человек чести. Мы называем таких «тийяр». Это означает «боец», но не просто боец, а, как говорят у вас, Боец. С большой буквы. Спасибо.
* * *
– Как думаете, Маркус, – прервал затянувшееся молчание Лемке, – получится у нас что-нибудь?
Он так и сидел напротив, держа в пальцах так и не закуренную сигарету. В чашке перед ним стыл кофе, к которому Павел так и не притронулся. Чуть в стороне сиротливо стоял оставленный в небрежении бокал с коньяком.
«Получится ли? – мысленно повторил за ним Маркус. – А у нас есть другой выход?»
– Получится, – сказал он вслух и неожиданно для самого себя горько усмехнулся. – Эх, Павел, сбросить бы мне хотя бы лет двадцать…
Он был искренен сейчас. Господи, как же справедливы были его слова…
– Почему бы и не сбросить? – Взгляд Павла был сосредоточен и строг. – Она же вам предложила…
– Предложила, – не стал спорить Маркус. – Чрезвычайно сильный соблазн, знаете ли, и ведь не врет. Действительно, может, если уж они комбрига с того света достали, но…
Маркус замолчал. Как было объяснить этому молодому человеку, что он просто боится. И страх его был вполне рационален, потому что…
«Потому что ты боишься потерять меня, – сказала, подходя к их столику, Ольга. Она была сейчас точно такой же, как тогда в Вероне. – Ты боишься, что соблазны молодости, пусть даже молодости относительной, заставят тебя забыть обо мне».
«Все мужики тряпки!» – Ну вот и Клавочка пожаловала.
«Я бы не стал обобщать, – примирительно заметил присоединившийся к женщинам Зильбер. – Во всяком случае, Маркуса не зря называют железным».
«Это вы на войне железяки хромированные, – отмахнулась от него Клава. – А в жизни…»
Он смотрел на них с интересом и дивился собственной фантазии. Крепдешиновое платье Ольги, полковничий мундир Клавы и гражданский – по моде сороковых годов – костюм генерала Зильбера смотрелись в этом кафе на редкость уместно. Очень естественно смотрелись, вот что странно.
«Можно подумать, Макс, – рассудительно сказала Ольга, возвращая ему улыбку, – что у тебя никого не было с тех пор, как я ушла».
«Были, – согласился Маркус. А что было спорить, если она все равно все знала. – Были. Но кто это был?»
«Ну так чего же ты вдруг испугался, менш? – спросила Клава. – Для дела-то лучше, чтобы ты был молодой и здоровый, чем старый и больной».
«Клава права, Маркус, – кивнул Зильбер. – А Олечку в обиду мы не дадим. И захочешь забыть, так я тебе сам напомню. Мало не покажется!»
«Уговорили, – усмехнулся Маркус. – Мне еще Деби пристраивать… меж трех миров».
«Тем более, – снова улыбнулась Ольга. – А за меня не бойся. И я, и наша Верона – это уже на вечность».
«Ты права, милая, – согласился с ней Маркус, но их, его Ольги и его Клавы с Зильбером, рядом уже не было. – Ты права, вы правы, все у нас получится».
– Все у нас получится, – сказал он вслух, обращаясь к ожидавшему его ответа Павлу, и вдруг понял, что говорит истинную правду, то есть такую правду, которую безоговорочно принимало его сердце и которую даже не пытался оспаривать его отточенный за годы и годы «шпионский» ум.
Глава 2
КОМБРИГ
Просыпался он медленно. Нехорошо просыпался, неправильно. Если так просыпаться, однажды можно просто не успеть, а кто не успел, тот, как известно, опоздал. Третьего не дано. Однако дело было даже не в том, что сон не желал отпускать Урванцева, а в том, что и Кирилл тоже просыпаться не хотел, и на тревожные вопли своего подсознания обращать внимания никак не желал, сердился даже, но тоже как-то так, не всерьез, а как бы нехотя, лениво, что ли. Во сне ему было хорошо, вот в чем дело. Так хорошо, как никогда еще не было и, вероятно – это он даже во сне понимал, – никогда не будет. Потому что таких синих глаз у настоящей, реальной женщины быть не может, и не может обычная женщина так смотреть – на него, Урванцева, смотреть! – и так улыбаться! Не бывает такого, но уж если случилось – хотя бы и во сне – то пропади все пропадом! Ради таких глаз и умереть было бы не жаль, а уж во сне остаться и подавно нестрашно. Да и зачем ему, Урванцеву, просыпаться? Куда возвращаться из страны грез? Так он думал во сне, если, конечно, во сне сохраняется способность к рациональному мышлению.
И все-таки – будь оно все неладно! – он проснулся, потому что если лезут в голову такие мысли, то это уже не сон. Но и явь оказалась под стать сну, только Урванцев не смог сразу решить, на какой сон эта явь была похожа, на хороший или на плохой? Кошмары ведь тоже разные бывают. И у каждого они свои, так что состояние покоя и тихого довольства, испытываемые им сейчас, когда нет сил двигаться и желания такого нет, вполне могли оказаться чем-то похуже дурного сна. Эта мысль, как и следовало ожидать, Кирилла встревожила, и он попытался вспомнить, куда его занесло на этот раз, когда и при каких обстоятельствах привелось ему заснуть, и что его, в конце концов, ожидает, когда и если он все-таки откроет глаза. Однако ничего путного из этой попытки не вышло. Урванцев – хоть убей – ничего такого не вспомнил, и вот это напугало его по-настоящему. Так напугало, что теперь он уже проснулся окончательно.
Впрочем, привычка – вторая натура, а в Урванцева боевые навыки и рефлексы были вбиты так, что давно уже стали им самим. Поэтому, проснувшись, он вроде бы продолжал «спать», искусно – да чего там! – мастерски имитируя здоровый сон здорового человека. Однако, как это случается в горах, когда один невеликого размера камешек порождает лавину, так и мысли Урванцева возникали не просто так и не уходили бесследно. Каждая следующая являлась – пусть и не всегда это было очевидно – порождением предыдущей, и сама, в свою очередь, давала жизнь другой. Слово «здоровый», каким-то образом сцепленное со словом «сон», заставило его прислушаться не только к тому, что происходило за завесой плотно сомкнутых век, но и к своему организму. И, хотя тело его не болело, что-то с ним, его здоровым, тренированным телом, было не так. Имелось здесь что-то отдаленно знакомое, и через мгновение Урванцев даже понял, что именно. Ощущения были похожи на анестезию, впрочем, не на настоящую анестезию, разумеется, и даже не столько на саму анестезию, сколько на то, как она «отходит», и вариантов тут быть могло много. И некоторые из этих вариантов не сулили Урванцеву при «пробуждении» ничего хорошего.
Рядом заговорили. Однако язык, на котором обменивались впечатлениями двое мужчин, находившихся в одном с Урванцевым помещении, был Кириллу неизвестен. Он только отметил, что в языке этом было тесновато от согласных, а просодией он отдаленно напоминал тональные языки Дальнего Востока. Корейский, скажем, или китайский, но оба эти языка Урванцев если и не знал, то узнавал вполне уверенно, а этот был ему совершенно незнаком. Что-то щелкнуло, потом тихонько застрекотало, как будто в комнате включили какой-то прибор, и почти сразу после этого один из мужчин подошел к Урванцеву. Ходил этот человек почти бесшумно, умело ходил, профессионально, но Кирилл его все-таки услышал и почему-то совершенно не удивился, когда подошедший, постояв секунду рядом с ним, видимо, рассматривая «мирно спящего» Урванцева, сказал по-русски:
– Добрый вечер, Пауль.
«Пауль?»
Про Пауля Кирилл определенно ничего не помнил, но по-настоящему встревожиться не успел.
– Я знаю, что вы не спите, – сказал мужчина. – Так что «просыпайтесь», пожалуйста. И не волнуйтесь, ради бога! Здесь все ваши друзья.
Секунду помешкав, Урванцев пожал мысленно плечами и открыл глаза. Лежал он на кровати, в обычном гостиничном номере, а над ним стоял высокий мужчина лет тридцати пяти от роду, темноволосый, голубоглазый, и… хорошо Урванцеву известный. Может быть, что-то Кирилл и забыл – хотя с какой стати, спрашивается? – но вот это помнил совершенно точно: и разговор в кабинете комкора Левичева, и те видеоматериалы, которые показывал тогда Урванцеву старший майор НКВД Зиберт, и это лицо, разумеется.
«Значит, я уже там».
– Здравствуйте, товарищ Хрусталь, – сказал Урванцев, смещая взгляд вправо.
Там, за спиной Хрусталя, обнаружился еще один гражданин, имевший, кстати, весьма специфическую наружность. Тоже высокий, смуглый и черноволосый, он, если бы не его, прямо скажем, чрезвычайно экстравагантный наряд – узкие, едва достающие до голени фиолетовые штаны и черная, немыслимого покроя рубаха из толстой «пальтовой» ткани – вполне мог сойти за грузина или армянина. Однако мужик этот, смотревший отчего-то в пол, по внутреннему ощущению Урванцева, ни к какой из известных ему наций и народностей не принадлежал. Возможно, конечно, что все дело было именно в этой дикой его одежде, но и стоял мужчина тоже как-то не так, и щурился не совсем по-человечески. Ничего конкретного – кроме одежды, разумеется, – и все-таки, что называется, сразу видно: «не наш человек».
«Не наш, – согласился со своей интуицией Кирилл. – А тогда чей?»
– О! – жизнерадостно воскликнул Хрусталь. – А память-то, оказывается, не отшибло! Может быть, и имечко какое-никакое шепнете, а то про Пауля, я так понимаю, вы все равно ничего не помните.
– Кирилл, – предложил Урванцев, которому в инкогнито играть никакого резона не было, не у американцев, чай, в плену. – Кирилл Урванцев.
Он снова смотрел на Хрусталя, когда произносил свое имя, но какой-то звук отвлек его, и Кирилл сместил взгляд в сторону, противоположную той, где около окна стоял давешний «не наш человек». А там, куда посмотрел теперь Урванцев, у двери стояла девушка, которую он сначала не заметил, тем более что голоса ее не слышал и о присутствии ее в комнате не догадывался. Он посмотрел на нее, встретился со взглядом синих глаз и, фигурально выражаясь, обалдел. А если выражаться не фигурально, то и слов таких нет, чтобы описать, что с ним сделалось, когда он окунулся в эту пронзительную синь. Это была женщина из его собственного сна, и дело было не в том, что он узнал черты ее лица, а в том, что других таких глаз он в жизни не видел, и смотрели они на него именно так, как смотрели тогда, во сне. А еще через мгновение, которое растянулось едва ли не на вечность, девушка, выражение необычного лица которой свидетельствовало об испытываемом ею волнении, улыбнулась. Вернее, она попыталась улыбнуться, но вышло это у нее неважно, однако Кириллу и этого хватило. Улыбку эту Урванцев узнал бы, кажется, и в бреду и, умирая, скорее всего, не забыл бы. И, как бы в подтверждение этого предположения, он вспомнил наконец свой удивительный сон, из которого так не хотел уходить. Ничего хорошего, если быть объективным, в этом сне не оказалось. Всплывали в памяти только смутные образы и ощущения, которые, впрочем, ни с чем не спутаешь. Во всяком случае, Урванцев – с его-то жизненным опытом – ощущение смертельной опасности, напряжение жестокого боя, запах крови и смерти никогда и ни с чем не спутал бы. Но вот какое дело, по идее, такое «варево» иначе, как кошмаром, не назовешь, однако присутствовала в том сне и эта женщина, были там ее синие глаза, смотревшие на Урванцева точно так же, как и сейчас, и улыбка эта тоже была. Потому и сон запомнился не кошмаром, а, напротив, чем-то таким, что хранят в сердце всю жизнь, как самое заветное, что у тебя есть, и уносят с собой в могилу, когда всему приходит конец.
«Ты?» – Он не знал, что сказать и как объяснить охватившие его чувства этой девушке, которую он вроде бы видел впервые в жизни, но которую тем не менее узнали не только его глаза, но и сердце.
«Я… Ты…» – Похоже, она тоже не знала, что сказать, но разве слова необходимы, когда все понятно и без них?
– Я вам не мешаю, товарищ комбриг? – спросил Хрусталь, подпустив в голос яду, но все-таки скорее добродушно, чем наоборот.
– Нет, – автоматически ответил Кирилл. – Что?!
«Комбриг…»
Это могло означать только одно: Хрусталь успел связаться с его начальством. Когда и как, и почему об этом ничего не знает сам Урванцев, большого значения пока не имело. Важен был лишь сам факт.
– Ну и зачем надо было ломать комедию? – Оторвать глаз от женщины Кирилл так и не смог и говорил с Хрусталем, глядя при этом не на него, а на нее.
– И не думал, – усмехнулся Хрусталь. – Но, видите ли, Кирилл Григорьевич, я, конечно, верю врачам… Вот барон Фъя уверяет меня, что вы совершенно здоровы. Ведь так, доктор?
– Именно так, – ответил от окна странный тип, оказавшийся на поверку врачом и целым бароном. Говорил он по-английски, но русский, по-видимому, все-таки понимал.
– Ну вот! – продолжил свою мысль Хрусталь. – Раз доктор говорит, значит, так и есть, но я – меня, между прочим, зовут Виктором Викентьевичем – так вот я, товарищ Урванцев, привык все проверять сам. Такая привычка. Доверяй, но проверяй, знаете ли.
– А без «товарища» можно? – спросил Урванцев, все-таки – хоть и не без внутреннего сопротивления – оторвав взгляд от необычного, но оттого не менее красивого лица девушки и переводя его на Хрусталя.
– А чем вам, комбриг, не нравится слово «товарищ»? – в притворном удивлении поднял брови его собеседник.
– Слово нравится, – коротко ответил Урванцев и наконец сел на кровати, придержав одеяло, чтобы не соскользнуло с ног. – Мне не нравится ваша интонация. Не любите товарищей, Виктор Викентьевич?
– Почему же, – улыбнулся тот. – Люблю… но странною любовью. Да ладно, комбриг, ничего личного, как говорится. Я ведь и сам бывший товарищ. Хочешь, верь, Кирилл Григорьевич, хочешь – нет, но я с двадцать восьмого в партии состоял. Еще в ВКП(б) вступал, так что…
– А теперь что же, вышли или как? – в свою очередь усмехнулся Урванцев.
– Выбыл. – Виктор Викентьевич достал из кармана пачку сигарет и протянул Урванцеву. – Будешь?
– Буду. – Кирилл взял сигарету. – А по какой причине выбыли? – Переходить на «ты», следуя примеру собеседника, он не торопился. – По возрасту, что ли?
– В связи с неоднократной преждевременной смертью, – вроде бы совершенно серьезно ответил Виктор Викентьевич и протянул Кириллу зажигалку. – Деби, простите ради бога, о вас-то я и забыл. Хотите сигарету? – И он повернулся к девушке, по-прежнему молча стоявшей у дверной притолоки.
«Деби…»
Это имя Урванцеву ничего не говорило, но отчего-то встревожило сердце.
– Спасибо, Виктор, – ответила по-немецки девушка, и Урванцев понял, что и Виктор Викентьевич, говоривший с ним по-русски, к Деби обратился тоже на Хох Дойч. – У меня есть свои.
«Виктор», – отметил про себя Кирилл, но, кажется, Виктор Викентьевич ничего не пропускал мимо ушей.
– Кстати, Кирилл Григорьевич, если вы не против, – сказал он, подчеркнув интонацией снова возникшее в его речи «вы», – мы можем сократить обращения до личных имен и даже, если желаете, перейти на «ты».
«Вот даже как! – покачал мысленно головой Урванцев. – В демократию, значит, играем?»
– Я не против, – сказал он вслух. – А с чего ты, Виктор, взял, что я комбриг? Мое воинское звание – полковник.
– Был полковник, – хмыкнул Виктор, довольный возможностью проявить осведомленность или, что гораздо более вероятно, желавший показать это Урванцеву. – Но в связи с героическими действиями, едва не повлекшими за собой… хм… ну, скажем попросту, смерть героя, ты, Кирилл, повышен в звании и награжден орденом Октябрьской Революции, что вообще-то следовало бы немедленно обмыть. Ты как?
– Я… я «за». – Кирилл был к этому не готов и едва ли не впервые за много лет попросту растерялся.
«Комбриг… Октябрьская Революция… Смерть героя? Ни хрена не помню!»
– Ну вот и славно, – кивнул Виктор, демонстративно не обращая внимания на выражение лица Урванцева, а что выражение имело место быть, Кирилл нисколько не сомневался. – Мы с Деби подождем тебя, Кирилл, в коридоре, а доктору вообще пора на работу. Ведь так, доктор? Вот и чудно. Ты одевайся быстренько, комбриг, и выходи. Сорока пяти секунд на все про все не требую, но пяти минут, я думаю, хватит. Ведь хватит?
– Хватит, – кивнул Урванцев.
– Вот и хорошо, – сказал Виктор, направляясь к двери, и добавил, как бы говоря это для самого себя: – Посидим, выпьем, о жизни поговорим…
Дверь за ним закрылась, но Кирилл еще какое-то время сидел на кровати, курил сигарету и пытался разобраться в своих чувствах, которые впервые на его памяти – «Снова впервые?» – пришли в противоречие со здравым смыслом. Однако Урванцев никогда не стал бы тем, кем он стал, если бы не умел принимать быстрых и жестких решений. И правильных, разумеется, потому что в его профессии все совершенно так же, как у минеров: ошибся, и привет. Второй попытки не будет, а будет салют, который тебе придется слушать уже из собственного гроба. Впрочем, про гроб и салют – это для красного словца. У боевиков из отдела Активных Операций обычно не было ни того ни другого.
Урванцев сбросил с себя одеяло, встал и, подойдя к столу, загасил окурок сигареты в пепельнице. Рядом со столом, в кресле, были аккуратно сложены его вещи, которых он, хоть убей, не помнил, но, возможно, это были все-таки не его вещи, а вещи, приготовленные для него, что большого значения, разумеется, не имело. Кирилл быстро оделся – всяко разно, быстрее, чем за пять минут, – натянул на ноги стильные коричневые туфли и, проведя рукой по щекам и убедившись, что, как ни странно, но пока он спал – «А сколько я, кстати, спал?» – кто-то его побрил, пожал плечами и вышел из комнаты.
Виктор и Деби ждали его в маленьком холле в конце коридора. Они сидели в креслах рядом с низким столиком и, судя по всему, пили кофе.
«Или сервис здесь запредельный, – подумал Урванцев, направляясь к ним. – Или у них заранее все было готово, но это сомнительно».
– Не обижайся, Виктор, – сказал он, подойдя к их столику. – Но мы с тобой потом посидим. Чуть позже. Тогда и звание обмоем, и орден, и о делах поговорим, в том числе и о том, что и почему я забыл. Но это потом. А пока… – Он замялся было, решая, как лучше сформулировать то, что он собирался сказать, и, в конце концов, сказал то, что сердце подсказало.
– Деби, – сказал он, переходя на немецкий. – Можно тебя на минуточку?
Девушка вскинула на него взгляд своих миндалевидных, как бы чуть раскосых глаз, но ответить, хотя явно собиралась это сделать, не успела. Вмешался Виктор.
– Можно, – сказал он по-русски с каким-то странным выражением, появившимся на его красивом, выразительном лице. – Я только предупредить тебя хочу… Ты, Кирилл, пять недель был без сознания. А до этого… Ну, в общем, ты как настоящий мужик поступил… Прикрыл ее и… Если бы не та гадость, которую ты в себя перед этим влил, и не наша медицина, то награждали бы тебя посмертно. Имей это в виду. Идите, – добавил он, переходя на немецкий. – Чего там. Идите… А когда наговоритесь, ты мне, Деби, позвони. Договорились?
* * *
С таким напутствием, какое получил Кирилл от Виктора, недолго и крыше поехать. И слов вроде бы сказано было немного, но зато за немногими этими словами угадывалась такая замысловатая история, что, попытавшись угадать и «расписать» ее – хотя бы и в самых общих чертах, – Урванцев начисто выпал из реальности на довольно продолжительное время. Вот, кажется, только что, буквально мгновение назад, он подошел к Деби и Виктору, пьющим кофе в гостиничном холле, а следующий вполне осмысленный эпизод начался уже с того, что Кирилл обнаружил себя наедине с девушкой среди деревьев какого-то курортного – «Италия? Франция? Греция?» – парка. Было очень тихо, даже птиц слышно не было, только откуда-то справа доносился ровный, но далекий, с периодической сменой тональности гул, намекавший на морской прибой. Вечерело, и в парке уже зажглись желтоватые фонари, но их неяркий, какой-то жидковатый свет еще больше сгущал мрак там, куда он не доставал. Так что, хотя аллея, на которой они стояли, и была освещена, вокруг, среди деревьев, и над головами Урванцева и Деби вполне по-хозяйски расположилась южная ночь.
По-видимому, молчание уже длилось довольно долго, и, хотя в других обстоятельствах Урванцев бы им нисколько не тяготился, наслаждаясь самой возможностью стоять вот так с девушкой, смотреть на нее, любоваться ею, сейчас, здесь – и снова, едва ли не впервые в жизни – он почувствовал себя страшно неловко. То, что сказал ему Виктор, подразумевало, что ранение, которое получил Урванцев – как бы, где бы и при каких бы обстоятельствах он его ни получил, – напрочь стерло из памяти Кирилла всю историю его отношений с этой необычной, невероятно привлекательной и, вероятно, не вовсе чужой ему девушкой. Он был уверен, хотя и не было у него никаких доказательств, что не ошибается. И история была, и отношения были… Однако все, что осталось от всего этого после пятинедельного беспамятства, это лишь смутные ощущения, которые, впрочем, на поверку могли оказаться отголосками запомнившегося Урванцеву сна, а не отблеском реальной истории. При этом не было у Кирилла даже уверенности в том, когда именно приснился ему этот сон. Сразу ли после или даже во время сна о женщине с синими глазами он проснулся, или это его тревожат воспоминания о многих разных снах, посещавших Урванцева во время его затянувшегося пребывания «не здесь»? Однако, с другой стороны, все, что было. – «А что, собственно, было?» – оставалось достоянием ее памяти, и в этой ситуации он оказывался всего лишь обманщиком, самозванцем, претендующим на что-то, что ему не принадлежало по той простой причине, что он этого не помнил.
«Тогда зачем я ее позвал?»
Он хотел было спросить у нее сигарету – своих-то у него еще не было – и в этот момент, опустив на мгновение взгляд, увидел ее губы и вдруг вспомнил. Воспоминание было резким, как удар молнии, и таким неожиданным, что он, по-видимому, потерял на какое-то время контроль над своими мыслями и действиями.
– Я помню вкус твоих губ, – сказал он, переживая такое огромное потрясение, что и сравнить его было не с чем. – Ты… Я… Было очень больно и вдруг…
Это было, собственно, все, что он смог вспомнить. Тьма, боль и… прикосновение этих губ. Он был уверен, что этих, потому что… Впрочем, додумать он не успел. Он снова почувствовал вкус ее губ, но это было уже не воспоминание, а самая что ни на есть правда жизни.
* * *
Когда Андрей Иванович, дед Урванцева, был еще жив, как-то под праздники, выпив не то чтобы лишнего, но достаточно, чтобы «отпустить удила», он рассказал Кириллу про тридцать восьмой год. Никогда не рассказывал и вообще обходил молчанием это время, а тут вдруг начал говорить и эмоций своих по этому поводу не стеснялся. Только курил больше обычного, буквально прикуривая одну папиросу от другой, и пил, разумеется. Как без этого?
В мае тридцать восьмого начался «сибирский погром». Взяли Эйдемана, Блюхера, Голощекина[159]159
Голощекин Филипп Исаевич (1876–1941) – старый большевик (1903), в 1918–1919 гг. член Сибирского (Урало-Сибирского) бюро ЦК, в 1918 г. уральский облвоенком.
[Закрыть] арестовали и прадеда Кирилла – Ивана Николаевича, который к тому времени был уже наркомом авиационной промышленности. А в июне замели и деда – молоденького лейтенанта ОСНАЗА. Просидел Андрей Иванович, в принципе, недолго, всего три месяца, хотя это как посмотреть. Формально – недолго, а по сути, как сказал тогда Урванцеву дед, если бы не железное, «сибирское» здоровье, ему бы вполне хватило и этих одиннадцати недель. Однако в сентябре, после вмешательства Троцкого, прадеда из списка вычеркнули и освободили, и почти сразу же вышел на свободу и его сын Андрей, но если наркома прямо из «Бутырок» послали в Крым, то лейтенанта, которого впопыхах даже из РККА не уволили, услали «дальше родины», на Дальневосточный фронт. Там он и сидел безвылазно до того, как зимой сорокового Второй ОСНАЗ в полном составе не перебросили на западную границу. А потом был Освободительный Поход, и до Питера, где все эти годы ждала его девушка, которой суждено было стать бабушкой Урванцева, дед добрался не скоро.
«Поверишь, Кирилл, – сказал ему тогда дед, опрокинув очередную рюмку водки. – Трое суток из койки не вылезали! Потом Гришка родился… но если по уму, то старались мы так, что родись дюжина, я бы тоже не удивился».
Кирилл тогда просто посмеялся вместе с дедом, но понял его много позже. Думал, что понял. Но по-настоящему понял только теперь, потому что на самом деле дед ему тогда не о здоровых инстинктах мужчины и женщины рассказывал, а о любви. Такая вот история.
* * *
Слова. Много слов. Без логики и порядка, что в голову придет, что сердце подскажет.
– Меня зовут Деби…
– Деби? Нет, не говори, дай угадаю!
– Гадай! – смеется она, а за окном плывет южная ночь, сияют огромные средиземноморские звезды, и ветер с моря, пахнущий солью и далекими странами, колышет тонкие занавеси распахнутого в ночь окна.
– Мне сорок четыре года, и я с двадцати лет на войне…
– Ты по-немецки говоришь совершенно без акцента…
– У вас, в Германии, пиво хорошее, хотя наше не хуже…
– А я не из Германии, – снова смеется она, и от ее смеха сладко сжимается сердце и начинает петь кровь. – Я тебя увидела…
– А потом вдруг синие глаза, я чуть не утонул…








