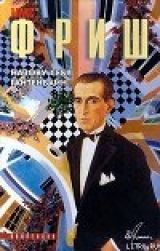
Текст книги "Назову себя Гантенбайн"
Автор книги: Макс Фриш
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Конечно, – говорит он, стоя у порога, после того как она вручила ему черную палочку, которую он чуть не забыл, – конечно, мы еще увидимся, раз мы соседи…
Камилла счастливо кивает.
Интеллигентный человек дожил до сорока одного года без особых успехов, без особых трудностей; лишь когда приходит особый успех, он пугается роли, которую явно играл до сих пор…
Верил ли он самому себе, играя ее?
Это происходит в маленькой дружеской компании, где его, как он знает, ценят, и ничего собственно, не происходит, вообще ничего, вечер как вечер. Он не знает, чего он пугается. Он внушает себе, что слишком много выпил (два бокала! больше ему, наверно, нельзя), и воздерживается, прикрывает правой рукой свой пустой бокал, когда гостеприимный хозяин вторгается в разговоры бутылкой, прикрывает молча, чтобы не поднимать шума, но решительно, даже ожесточенно, словно испуг можно еще отогнать, и в то же время стараясь сохранить вид внимательного слушателя. Что с ним случилось, спрашивает одна дама, которая давно уже не участвовала в разговоре. Да и хозяин, только что получивший выговор от супруги за пустые бокалы, поднимает шум. Что случилось с Эндерлином? Он знает только, что ему нечего сказать. Позднее он позволяет снова наполнить свой бокал, поскольку дело тут, видно, не в алкоголе, напротив, он чувствует себя ужасающе трезвым. К сожалению, еще только одиннадцать часов, исчезнуть незаметно почти невозможно; он пьет. Как раз на днях в печати не только родного города, но и в иностранной (это всегда производит совсем другое впечатление, хотя суть дела остается та же) мелькнула заметка в три строчки о том, что Эндерлин получил приглашение в Гарвард, и ему становится не по себе, что именно сейчас заходит речь об этой заметке, особенно когда хозяйка дома, чтобы подбодрить Эндерлина, требует во что бы то ни стало выпить за это. Безуспешно пытается он отвлечь их; Эндерлину ничего не приходит па ум, что могло бы отвлечь его самого. Кто-то в тумане за торшером, чья-то дочь, не знает, что такое Гарвард, что значит приглашение в Гарвард. Итак, за ваше здоровье! – не торжественно, однако с такой долей дружеской серьезности, что возникает пауза, пауза вокруг Эндерлина. Приглашение в Гарвард, ну да, Эндерлин пытается превратить это в пустяк, хоть и несколько расстроен тем, что на него явно уже не возлагали таких надежд. Вино, бургундское 1947 года, нравится всем, но пауза вокруг Эндерлина остается. В конце концов (Эндерлин вынужден что-то сказать, чтобы не молчать, как памятник), в Гарвард приглашали и шарлатанов, а кроме того, это не первое приглашение, которое Эндерлин получил. Это между прочим. Справедливости ради он вынужден отметить, что и меньшие университеты, например Базельский, пользуются заслуженной славой. Или Тюбингенский. Но об этом Эндерлин, собственно, не должен был и не хотел говорить; да и упомянул он об этом тет-а-тет, когда общество как раз занято пуделем, который теперь вкатывается в комнату, чтобы показать свои знаменитые штучки. Чудесный песик! Эндерлин тоже это находит, довольный, что всеобщее внимание хотя бы временно переключается на пуделька. Когда же он поедет в Гарвард, спрашивает одна дама, и после того как он говорит и это – к сожалению, так тихо, что другие, сидящие за абажуром, задают еще раз тот же вопрос, – и после того как Эндерлин отвечает еще раз – и притом достаточно громко, чтобы все услыхали, – когда предполагает Эндерлин выехать в Гарвард, Эндерлин, конечно, снова оказывается в центре внимания, что бы там ни вытворял пуделек. Ему кажется, что теперь непременно нужно рассказать что-нибудь веселое, какой-нибудь анекдот, который разрядит атмосферу. Но никаких анекдотов не приходит ему па память. Ждут без особого любопытства, однако с готовностью. Что уж такого расскажет человек, сделавший карьеру? Почти все, кто добился успеха, утверждают, будто когда-то их выгоняли из школы, это известно, но это всегда слушают с удовольствием еще раз. Но Эндерлину ничего не приходит в голову, слово за ним, а он только и знает, что сказать ему нечего. Хозяин тем временем угощает сигарами, а его супруга находит, что пора выставить за дверь пуделька, поскольку тот считает себя душой умолкнувшего общества. А полночь все еще не наступила…
– Гермес вошел.
Вот и все, что догадался бы сейчас сказать Эндерлин, античная поговорка, точно обозначающая неловкость этой минуты. Но это не годится: Гермес – тема работы, которая снискала ему приглашение в Гарвард… Наконец, чувствуя себя ответственным за затишье, развлечь общество, переставшее вдруг развлекать само себя, пытается хозяин дома – да, анекдотами, которые однако, не достигают цели: ждут чего-то от Эндерлина. Он ничего не может поделать, и, чем дольше он молчит, держа левую руку в кармане брюк и с бокалом в другой руке, единственный, собственно, кто слушает хозяина – все остальные слушают, так сказать, лишь через него, Эндерлина, и смеются, когда смеется он, – чем дольше молчит Эндерлин, тем вернее остается он в центре внимания; не помогает и то, что хозяин, между прочим, блестящий рассказчик: пауза, когда хозяин еще раз уходит за вином в погреб, начинается безобидно – меняют положение ног, стряхивают пепел, кто-то открывает окно, что все приветствуют, но пауза растет, кто-то предлагает печенье, курят, часы с маятником бьют двенадцать, и, когда хозяин возвращается с новыми бутылками, он, полагая, что пропустил аттракцион Эндерлина, смотрит и спрашивает, о чем идет речь, и откупоривает бутылки…
Постепенно начинают болтать.
Только для Эндерлина, который, улучив момент, откланивается, что-то произошло, не в первый, впрочем, и, вероятно, не в последний раз. Чтобы это вылилось в ясное понимание, нужно много маленьких испугов. Один в машине, когда он, помедлив, втыкает ключ, затем, с чувством облегчения, оттого что хоть мотор-то работает, он больше об этом не думает. Непримечательный вечер…
Это был долгий и скучный час – так я представляю себе – волнующий час, когда Гантенбайн, в синих очках и с палочкой между коленями, ждал в приемной городского отдела здравоохранения. Слепой, должен был он признать, тоже член общества. Без желтой нарукавной повязки никаких прав у него не было бы. Глядя на картину местного художника, которая отбывает здесь наказание за то, что ее купили на общественные средства, он сидел совершенно один в этой голой приемной, первый, возможно, кто видит эту картину. А что нельзя было – так это читать газету, которая лежала у него в кармане пальто. В любую минуту мог кто-нибудь войти. Старушка, крошечная, настоящий гном, ее стоптанные башмаки и шляпа были ей уже велики, как и ее вставная челюсть, жительница этого города, которая борется за место в прекрасном и по праву расхваленном всеми газетами доме для престарелых города Цюриха, прошла в порядке очереди перед ним, и Гантенбайн обещал ей помолиться за нее, о чем естественным образом забыл, как только начался одиннадцатичасовой перезвон и он остался один, озабоченный собственным будущим, тогда как она теперь сидела перед доброжелательным бессилием муниципального врача, крохотулька с большой челюстью и усиками; это продолжалось уже десять минут. Одиннадцатичасовой перезвон, самая веселая достопримечательность Цюриха, был бы при открытом окне еще прекрасней, шумней, но Гантенбайн не отважился встать и открыть окно. В очках и с черной палочкой между коленями, как и полагается, когда хочешь получить желтую повязку, он сидел терпеливо. Надо было добыть справки, свидетельства по меньшей мере двух врачей-окулистов. Беготня (все время с палочкой, постукивающей по краю тротуара) и болтовня, кончившаяся тем, что два местных врача дали себя провести, не представив за это особого счета, стоила Гантенбайну почти целого месяца, не говоря уже о нервах. Но теперь они были у него в кармане, эти свидетельства, и требовался лишь штамп отдела здравоохранения, который, впрочем, как говорят, обычно проявляет отзывчивость, хотя и заставил Гантенбайна ждать, словно слепому некуда уже торопиться на этом свете… Не выгоднее ли было бы, порой еще спрашивает себя Гантенбайн, стать глухим, а не слепым; но теперь уже поздно об этом думать… Одиннадцатичасовой перезвон умолк; зато теперь слышно, как стучит пишущая машинка в соседней комнате: наверно, чтобы утешить старушку, у нее еще раз спросили все данные, дату рождения, имя отца, чья могила уже разорена, и девичью фамилию матери, последнее местожительство, перепесенные заболевания, адрес здравствующего в Америке сына, который мог бы снять бремя с органов социального обеспечения. Во всяком случае, стучат на машинке. Теперь Гантенбайн не без сердцебиения обдумывает уже свои ответы для этой машинки в соседней комнате. Угрызения совести? Иногда Гантенбайн закрывает глаза: чтобы вжиться в роль. Открывает их ему снова – часто уже через несколько мгновений – не любопытство к чему-либо зримому, не в первую очередь оно; известно ведь, как может выглядеть приемная в учреждении. Может быть, это уже признак старения, если все, что способны видеть глаза, представляется такой приемной. Тем не менее открываешь глаза снова и снова. Сетчатка – это защита от догадки, которую будит в нас почти каждый звук, и от времени; видишь, что показывают часы на Санкт-Петере, а часы всегда показывают сию минуту. Защита от воспоминания и его пропастей. Гантенбайн рад, что он не в самом деле слепой. Кстати сказать, он уже более или менее привык к искаженным синими очками цветам; к облакам, которые ложно грозят чернильной грозой. Странной, так что Гантенбайн к ней никак не привыкнет, остается кожа цвета безвременников у женщин.
Как раз когда Гантенбайн смотрит на часы, через приемную проходит служащий с черным досье (только черное остается черным) в синеватой руке, не сказав ни слова и не поклонившись, возможно, он уже знает, что это слепой, во всяком случае, ни он, ни Гантенбайн не кланяются, а потом Гантенбайн снова сидит один, с палочкой между коленями, и у него есть время еще раз обдумать свою затею: плюсы, минусы…
Он не меняет своего решения.
Медленно приготовившись к тому, что очередь до него уже не дойдет – муниципальные учреждения закрываются без четверти двенадцать, насколько он знает, во избежание транспортных заторов, – приготовившись, стало быть, к тому, что его попросят явиться в два, он набивает свою трубку, набивает как обычно, это операция, которую можно предоставить пальцам, не глядя, вслепую… Плюсов больше… Лишь зажигая трубку, глядит он теперь на дрожащий огонек, хотя язык его уже знает: табак загорелся. Минус, который пугает его больше всего, – уход в себя, на который обрекает его роль слепого. Теперь раскурилась. Гантенбайн снова и снова испытывает облегчение, оттого что он не в самом деле слепой; у трубки был бы другой вкус, если бы он не видел дыма, горький, дурманящий, как таблетка или укол, но невеселый. Недавняя случайная встреча с Камиллой Губер укрепляет в нем надежду сделать людей чуточку свободнее, освободить их от страха, что ложь их видна. Но прежде всего, как надеется Гантенбайн, перед слепым люди не станут особенно маскироваться, благодаря чему сложатся более реальные отношения с ними, поскольку с их ложью тоже надо будет считаться, отношения более доверчивые…
Наконец врач мэрии приглашает его в кабинет.
Гантенбайн Тео, родился тогда-то и там-то, все точные данные есть в свидетельствах, которые врач мэрии, сев тоже, без любопытства просматривает, не наспех, но быстро, потому что скоро без четверти двенадцать. Они, кажется, в порядке, эти свидетельства, судя по немой безучастности врача мэрии. Официальное удостоверение слепого, двухсторонний формуляр, секретарша уже закладывает в пишущую машинку; Гантенбайну нужно теперь только пункт за пунктом говорить правду, что не всегда легко постольку, поскольку любой формуляр, как известно, предполагает типичный случай, которого не существует на свете. Например, у Гантенбайна нет работодателя. Состояние? Вопрос, противоречащий конституции: он нарушает швейцарскую тайну вклада, которой эта страна стольким обязана, но Гантенбайн, чтобы упростить дело, называет какую-то сумму, и озабоченное государство испытывает облегчение, а барышня печатает на машинке. Как капли отмеривает. Не в том ее забота, «да» или «нет», а в том, чтобы не было описки. Только в этом. К тому же лицо врача мэрии – Гантенбайн видит его: врач не доверяет своей секретарше, а не слепому. Гантенбайну это на руку, теперь не хватает только, чтобы секретарше пришлось что-нибудь подчистить; врач, судя по его виду, не накричит на нее, а накажет ее тем, что будет со слепым любезней, чем с ней. Готовясь поставить подпись, как только эта желтая карточка, настоящее удостоверение слепого, будет наконец заполнена, врач уже снимает колпачок со своей самопишущей ручки. Кажется, все будет в порядке. Нервирует Гантенбайна в основном лишь его излишнее воображение, а вдруг, например, ему придется дать присягу, подтвердить под присягой свидетельства врачей-окулистов. Ведь часто разносчики, сообщает врач мэрии, обманом добывают себе такие удостоверения, чтобы трогать сердца домашних хозяек. К чему он это говорит? Впрочем, старушка, кажется, ему помогла, сославшись на мнение слепого господина, ожидающего в приемной; его появление здесь, чувствует Гантенбайн, было драматургически подготовлено. Легко сказать! – говорит любезный врач мэрии, опровергая мнение Гантенбайна, но как устроить всех стариков? Он приводит цифры, чтобы затем спросить: а вы видите какой-нибудь выход? Вторгается телефонный звонок, так что Гантенбайн может подумать, прежде чем вопрос возвращается. А вы видите какой-нибудь выход? Гантенбайн ограничивается более сочувственным отношением к трудностям, с которыми ежедневно сталкивается такой врач мэрии. Слепота мнения, выраженного Гантенбайном в приемной, чтобы ободрить старушку, приходится ему кстати: она придает правдоподобие и другой его слепоте. Когда врач, чтобы развеять дымом свое нетерпение, направленное против секретарши, начинает молча искать спички, Гантенбайн вежливо щелкает зажигалкой. К этому врач не был готов. Теперь секретарша занята подчисткой. К этому врач, напротив, был готов. Наши мысли не могут быть везде одновременно; он забывает о своей сигарете, как и Гантенбайн. Немой взгляд на секретаршу, старающуюся не потерять самообладания, пока та наконец не подает готового удостоверения, а Гантенбайн между тем прячет свою зажигалку. Теперь врач подписывает. Желтая нарукавная повязка, говорит секретарша, будет выслана наложенным платежом. Как всегда, когда он добился от властей того, что ему нужно, Гантенбайн полон сочувствия к властям, и врач мэрии, в свою очередь благодарный за сочувствие, а может быть, и из потребности посрамить свою секретаршу, которая считает, что у него ужасный характер, поднимается и лично провожает Гантенбайна до лифта, не преминув выразить надежду, что Гантенбайн, несмотря ни на что, найдет свой путь в жизни. Гантенбайн старается его успокоить, сострадание смущает его, он уверяет, что вдосталь нагляделся на этот мир до того, как ослеп; он побывал не только в Греции и Испании, даже в Марокко, которого врач мэрии, например, еще не видел, в Париже, конечно, в Лувре, в Дамаске, а в молодости как-то на Маттерхорне – о да, правда, туман был. Так, тем более что лифта приходится ждать, завязывается оживленный разговор о путешествиях. Врачу мэрии, понятно, мало доводится путешествовать, три или четыре недели в году. Гантенбайн особенно рекомендует Гавану. В будущем году, говорит врач мэрии, ему хотелось бы тоже съездить в Испанию; Гантенбайн указывает прежде всего на центральную часть этой страны: Саламанку, Авилу, Сеговию, Кордову. Хуже, чем в Испании, заверяет Гантенбайн, дороги сейчас в Турции, не говоря уж об Ираке, – лифт один раз пришел, но на это не обращают внимания, так что двери опять закрываются… Он видел достаточно, говорит Гантенбайн. Вот только в России ни разу не был, как и врач мэрии. Возникает первый политический разговор, который Гантенбайн ведет в роли слепого, и вести его легче, чем когда-либо: просто позволяешь поучать себя, выслушивая чужое мнение… Во второй раз открывается лифт, и уже нет времени для множества советов, которые Гантенбайн мог бы еще дать. Если Испания, то непременно пещеры Альтамиры. Если Сеговия, то пообедайте в «Кандидо», хемингуэевский ресторан, прямо у акведука. Если Турция, не пропустите мечеть в Эдирне. Если Иерусалим, то в пятницу. Гантенбайн стоит уже в лифте, когда врач мэрии просит подать ему не руку, а палец, что Гантенбайн понимает не сразу. Указательный палец: чтобы положить его указательный палец на ту кнопку внутреннего пульта, которую он должен нажать, как только услышит, что захлопнулись двери лифта, наружные двери. Гантенбайн еще раз должен заверить, что внизу его ждут. Повязку, говорит еще раз врач мэрии, ему пришлют…
Пока все в порядке.
Один в лифте, расслабившись, как актер за кулисой, где его, он знает, не видят, Гантенбайн сразу же прочитывает свою карточку. Он признан официально. От этого у него сразу появляется другое чувство, другая манера держать себя – даже с самим врачом мэрии, когда Гантенбайн через пять минут, спустившись и поднявшись на лифте, снова предстает перед врачом мэрии; ведь Гантенбайн забыл свою черную палку. Верно! – говорит врач мэрии, намыливая и ополаскивая руки, чтобы пойти пообедать, и, поскольку секретарша уже ушла, Гантенбайн, чтобы не утруждать любезного врача мэрии, сам снимает свою палку со спинки кресла, до смерти испуганный своим безрассудством, которым он выдал не только себя, но и двух врачей-окулистов. Что теперь? Но врач мэрии, кажется, ничего особенного тут не усматривает, так верит он в собственную подпись, он только кивает, теперь вытирая вымытые руки, в свою очередь несколько смущенный, поскольку он без пиджака, а неделю спустя, с пунктуальностью, какой только и можно ждать от швейцарских властей, приходит желтая нарукавная повязка, которая многое облегчает.
Трудно по-прежнему только с женщинами.
Конечно, чтобы опробовать новую нарукавную повязку, Гантенбайн идет не в то кафе, где всегда бывал до того, как ослеп, а в другое, где официанты его не знают, он в восторге, оттого что видит сплошь новые лица, женщин, которых он еще ни разу не видел. Его восторг не дает им покоя, он это видит. Гантенбайн пьет кампари, черная палочка между коленями, желтая повязка на рукаве; он кладет сигарету в сахарницу и чего только еще не вытворяет. Неужели они не верят его официальной повязке? Он чувствует, что его разглядывают. Он принимает всевозможные позы, выражающие мужскую непринужденность, позы, которые выдают его, и видит результат: она, дама за соседним столиком, тоже принимает непринужденные позы, то начиная вдруг пудрить нос, подкрашивать губы, то отворачиваясь, словно не хочет, чтобы на нее пялили глаза, то вдруг прямо-таки проверяя его улыбкой. Будет трудно. Женщины не совсем верят в его слепоту, что им повязка, женщины чувствуют спиной, когда на них смотрят.
Я сижу в баре, задолго до вечера, поэтому наедине с барменом, который рассказывает мне свою жизнь. Прекрасный рассказчик! Я жду кого-то. Моя стаканы, он говорит: «Вот как дело было!» Я пью. Подлинная история, стало быть. «Верю!» – говорю я. Он вытирает вымытые стаканы. «Да, – говорит он еще раз, – так было дело!» Я пью и завидую ему – не оттого, что он был в русском плену, а оттого, что у него не вызывает сомнений его история…
– Гм, – говорит он, – ну и дождь опять! Я на это не поддаюсь, пью молча.
– Любая история – вымысел, – говорю я через некоторое время, не сомневаясь, однако, в том, что ему пришлось несладко в русском плену, говорю вообще, – любое проявление «я» – это роль.
– Господин доктор, – говорит он, – еще стакан виски? Господин доктор!
– Наша жажда историй, – говорю я и замечаю, что выпил уже много, это видно по тому, что я не договариваю фраз до конца, а предполагаю, что меня уже поняли в силу моего понимания, – два-три случая, может быть, – говорю я, – каких-нибудь два-три случая, самое большее, – вот и все, что есть за душой у человека, когда он рассказывает о себе, вообще когда он рассказывает; схемы пережитого, но не история, – говорю я, – не история.
Я пью, но мой стакан пуст.
– Нельзя видеть себя самого, вот в чем дело, истории видны только со стороны, – говорю я, – отсюда паша жажда историй.
Я не знаю, слушает ли меня бармен, после того как он шесть лет провел на Урале, и достаю сигарету, чтобы быть независимым.
– Есть ли у вас история? – спрашиваю я, после того как он только что рассказал мне то, что он явно считает своей историей, и говорю: – У меня – нет.
Я курю – я наблюдаю, как он берет мой пустой стакан с цинковой стойки, чтобы окунуть его в воду, и как хватает другой, свежий, сухой, я не могу помешать ему приготовить мне следующий стакан виски; именно потому, что я за ним наблюдаю, я не могу ему помешать… Я думаю о человеке с Кеша, об истории, которой я до сегодняшнего дня никому не рассказывал, хотя она меня снова и снова преследовала, об истории убийства, которого я не совершил. Я верчу свой стакан, спрашивая:
– Вы были когда-нибудь на Кеше? – Кеш, – спрашивает он, – что это такое? – Пик Кеш, – говорю я, – такая гора.
– Нет, – говорит он, – а что?
Чепуха! – думаю я. Почему он должен быть именно тем человеком, которого я встретил на Кеше в 1942-м? Я умолкаю. Чепуха. Я пью.
– Каждый раньше или позже выдумывает себе какую-нибудь историю, которую он принимает за свою жизнь, – говорю я, – или целый ряд историй, – говорю я, но я слишком пьян, чтобы уследить за своими же мыслями, и от досады на это я умолкаю.
Я жду кого-то.
– Я знал одного человека, – говорю я, чтобы говорить о чем-нибудь другом, – одного молочника, который плохо кончил. Он угодил в сумасшедший дом, хотя не считал себя ни Наполеоном, ни Энштейном, наоборот, он считал себя молочником и никем другим. Да и на вид он был настоящий молочник. Между делом он собирал почтовые марки, но это была единственная в нем черта фанатика; он был старшиной пожарной дружины, потому что он был так надежен. В молодости, я думаю, он занимался гимнастикой; во всяком случае, это был здоровый и миролюбивый человек, вдовец, трезвенник, и никому в нашем приходе и в голову не взбрело бы, что его когда-нибудь посадят в сумасшедший дом.
Я курю.
– Его звали Отто, – говорю я, – наш Отто. Я курю.
– "Я", которое выдумал себе этот славный человек, не оспаривалось всю его жизнь, тем более что это ведь не требовало от окружающих никаких жертв, напротив, – говорю я, – он приносил в каждый дом молоко и масло. Двадцать один год подряд. Даже по воскресеньям. Мы, дети, поскольку он часто сажал нас на свою трехколесную тележку, любили его.
Я курю. Я рассказываю:
– Однажды вечером, дело было весной, в субботу, наш Отто, покуривая, как все эти годы, трубочку, стоял на балконе своего стандартного домика, который хоть и выходил на сельскую улицу, но был окружен столькими палисадниками, что черепки ни для кого не представляли опасности. Так вот, по причинам, так и не открывшимся ему самому, наш Отто схватил вдруг горшок с цветами – геранью, если не ошибаюсь, – и швырнул его довольно-таки отвесно в свой палисадник, немедленным результатом чего были не только черепки, но и всеобщее внимание. Все соседи сразу же повернули головы; они стояли на своих балконах, без пиджаков, как и он, чтобы наслаждаться субботой, или в своих палисадниках, чтобы поливать грядки, и все сразу же повернули головы. Всеобщее это внимание настолько, видимо, разозлило нашего молочника, что он и все остальные горшки, числом семнадцать, швырнул в палисадник, каковой, в конце концов, как и сами горшки, составлял его скромную собственность. Тем не менее его засадили. С тех пор наш Отто считался сумасшедшим. Он, вероятно, и был сумасшедшим, – говорю я, – разговаривать с ним больше нельзя было.
Я курю, а мой бармен понимающе улыбается, но ему невдомек, что я хотел этим сказать.
– Ну да, – говорю я и вдавливаю сигарету в пепельницу на цинковой стойке, – его «я» износилось, такое бывает, а другого он не придумал. Это было ужасно.
Не знаю, понимает ли он меня.
– Да, – говорю я, – вот как дело было.
Я достаю новую сигарету.
Я жду кого-то.
Мой бармен протягивает мне зажженную спичку.
– Я знал одного человека, – говорю я, – другого, который не угодил в сумасшедший дом, – говорю я. – Хотя жил целиком своим воображением. – Я курю. – Он воображал, что он неудачник, честный, но совершенно невезучий человек. Мы все жалели его. Стоило ему скопить немного денег, как – на тебе – девальвация. И так всегда и во всем. Черепица не падала с крыши, если он не проходил мимо. Выдумка, будто ты неудачник, одна из самых ходовых, потому что она удобна. Месяца не проходило без того, чтобы у этого человека не нашлась причина на что-нибудь Да пожаловаться, даже недели, даже чуть ли не дня. Кто его более или менее знал, боялся спрашивать: как дела? Он, собственно, даже не жаловался, он просто улыбался по поводу своей потрясающей невезучести. И правда, с ним всегда случалось что-нибудь такое, что минует других.
Просто невезение, ничего не скажешь, в большом и и малом. Переносил он это, однако, стойко, – говорю я и курю, – пока не случилось чудо.
Я курю и жду, чтобы бармен, занятый главным образом стаканами, осведомился вскользь, что же это было за чудо.
– Это был удар для него, – говорю я, – настоящий удар, когда этот человек выиграл большую сумму. Это было напечатано в газете, так что он не мог этого отрицать. Когда я встретил его на улице, он был бледен, вне себя, сомнение вызывало у него не его выдумка, будто он неудачник, а лотерея, да что там, сомнение вызывал у него весь мир вообще. Было не до смеха, его пришлось прямо-таки утешать. Безуспешно. Он не мог взять в толк, что он не неудачник, он никак не мог взять этого в толк и был в таком расстройстве, что по дороге из банка действительно потерял бумажник. И я думаю, так ему было лучше, – говорю я, – а то ему, бедняге, пришлось бы придумывать себе какое-то другое "я", – это, понятно, поразорительней, чем потеря битком набитого бумажника, ему пришлось бы отказаться от всей истории своей жизни, пережить все случившееся с ним еще раз, и притом иначе, поскольку оно больше не подходило бы к его "я".
Я пью.
– Вскоре после этого ему еще и жена изменила, – говорю я, – мне было жаль его, он был действительно неудачник.
Я курю.
На улице по-прежнему идет дождь… Я уже не знаю, что я, собственно, хотел этим сказать, и разглядываю своего бармена: может быть, это все-таки он? – думаю я, хотя он это отрицает; я уже не помню, как он выглядел, мой человек с Кеша, может быть, поэтому я не могу от него избавиться, и курю, думаю об этом, молчу, курю.
Это было в 1942 году, в воскресенье в апреле или в мае, мы были расквартированы в Самадене, кантон Граубюнден, день был безоблачный, я получил увольнительную на конец недели, но не поехал домой, а хотел побыть один и пошел в горы. Вообще-то получавшим увольнительную строжайше запрещалось ходить в одиночку в горы ввиду опасности; но я, значит, все-таки пошел, и притом на пик Кеш. Переночевал я па каком-то сеновале, где холод стоял собачий, сена не было, сквозняк, звездная ночь; я хотел обойти кешскую горную хижину, потому что там, по всей вероятности, были офицеры, которым я, рядовой артиллерист, обязан был бы доложить цель моего увольнения, а этого-то я и не хотел. Чтобы быть уволенным, уволенным от обязанности докладывать. Поскольку всю ночь я мерз, я встал рано, задолго до восхода солнца; увидеть меня на сером фоне засыпанных галькой склонов нельзя было, я и сам был защитно-серого цвета, и поднимался я довольно быстро, и, когда дошел до снега, он был еще до звонкости твердый. Я устроил привал в расселине Кеша, как раз когда всходило солнце, кругом не было ни души, я позавтракал нерастворенным концентратом заменителя кофе. При мне был ледоруб, потому я и не хотел, чтобы меня кто-нибудь увидел в долине одного с ледорубом. Теперь я был рад, что со мной эта маленькая блестящая мотыга, обойтись, вероятно, можно было бы и без нее, поскольку на солнце снег быстро размякал, но в тени приходилось прорубать ступени. Сняв с себя грубошерстный китель, я привязал его к ремню, время от времени я оглядывался, не идет ли кто-нибудь, офицеры чего доброго. Если я заберусь на вершину, они уже ничего не смогут мне запретить, думал я, разве что спросят, известен ли мне приказ, а в общем-то отнесутся ко мне как к товарищу по альпинизму. Но я так никого и не видел, во всяком случае на снегу, а когда работал ледорубом, то ничего и не слышал. Я был один, как на Луне. Я слышал, как катятся по скалам обломки замерзшего снега, больше ничего, время от времени звяканье моего ледоруба об острые скалы, ветер, больше ничего, ветер над гребнем. Когда я потом достиг вершины, я оказался наедине с геодезическим крестом и был счастлив. Становилось все теплей и теплей, и, соорудив себе из валунов укрытое от ветра ложе, я даже снял пропотевшую рубашку, скатал китель в подушку. Потом я спал, усталый от ночи, не знаю, как долго, по крайней мере закрыл глаза и дремал, ничего другого не делал. Человек, который вдруг заговорил со мной, штатский, – он сказал: «Поклон!», что считал швейцарским приветствием, явно немец, – не хотел мне мешать, как он сказал, увидев мое смущение; но, конечно, я сразу же приподнялся, сперва онемев. Он был здесь явно уже некоторое время: его рюкзак лежал несколько поодаль. Я сказал «здравствуйте», поднимаясь на ноги, так что теперь мы стояли рядом. Он, с полевым биноклем у глаз, хотел только узнать, которая же из гор Бернина. Вы ведь солдат! – сказал он не без усмешки, увидев мои невообразимые трубчатые штаны, и, показывая ему то, что он хотел узнать, я скоро заметил, как хорошо он ориентируется на местности. Явно любитель Энгадина, иностранец, но знаток; по крайней мере названия ему были хорошо известны: Бернина, и Палю, и Розач, да и названия деревень в долине внизу. У него была карта, как полагается, хотя географические карты были тогда конфискованы, и еще лейка. Его упорное стремление все время подражать нашему диалекту, притом так, словно это какой-то детский язык, прикидываться своим, не улавливая разницы в интонации, притом добродушно-покровительственно, не замечая, что меня это коробит, мешало беседе больше, чем ветер. Конечно, я отвечал на литературном немецком, хотя и с алеманским акцентом, но безуспешно. Он знал даже, что швейцарцы произносят слова «кухонный шкаф» как «хухонный хаф». Это между прочим, к беседе это не имело никакого отношения. Много военных здесь, да. Он старался, я это видел, принимать мою солдатскую одежду всерьез. Может быть, натянутость идет от меня, подумал я, когда он предложил мне свой полевой бинокль, и взамен предложил ему свою походную флягу, вельтлинское. Теперь я увидел в его бинокль, что он воспользовался моим следом. Больше никто не шел сюда. Я поблагодарил за бинокль. Он пробыл со мной около получаса, и болтали мы прежде всего о горах, также о флоре, причем в его тоне звучало одобрение. Я не мог заставить себя (почему, собственно?) взглянуть ему в лицо, словно ожидал какой-то бестактности, которая меня заранее смущала, и не знал, что говорить. За кого он меня принимал, не знаю, за недотепу во всяком случае; он страшно удивился, когда выяснилось, что я знаю Берлин. Чем оживленнее шла теперь беседа, оживленнее оттого, что он перешел на свойственную ему интонацию, тем нетерпеливее ждал я момента, когда он возьмется за свой рюкзак. Мой совет, как ему лучше всего спуститься к Мадуляйну, оказался излишним. Переночевал он в кешской хижине, которую хвалил так, как будто я построил ее. Много офицеров, да, очень славные ребята. Его вопрос, проходим ли мы альпинистскую подготовку, я пропустил мимо ушей. Сомнений в том, что он сумеет прийти к четырем часам в Мадуляйн, у меня не было. Однако он стал укладывать свой рюкзак, не преминув оставить мне яблоко. Я был немного сконфужен. Яблоко здесь, наверху, это что-то значило. Тем временем он надел свой рюкзак, и я уже не ожидал такого, мы уже пожали друг другу руки, когда на него вдруг напала та откровенность, дословное выражение которой я позабыл. Рейх – этого мне было достаточно; смысл был ясен. Я ничего не сказал по этому поводу, но и другого ничего не сказал, я стоял и молчал, держа руки в карманах трубчатых своих штанов защитного цвета, которые я ненавидел, глядя на страну, которая скоро, как он считал, тоже войдет в рейх. Что я видел: скалы, черноватые, местами багровые, снег на полуденном свету и гальку, серую гальку на склонах; затем луга, без дерев, каменистые ручьи, сверкающие на солнце, выгоны, скот, похожий издали на букашек, лесистую долину и тени облаков; черных галок вблизи. Лишь через некоторое время, после того как он спрятал и свою лейку, приветливо кивнул мне, пожелал еще раз счастливой службы и наконец исчез за скалой, я подосадовал на то, что не дал ему по физиономии, и заинтересовался его особыми приметами; я вышел теперь на плоский выступ, но слишком поздно: я увидел его снова, только когда он обогнул гребень, он находился теперь на тридцать метров ниже, чем я, так что мне оставалось лишь глядеть на его зеленую фетровую шляпу. Он поскользнулся, но удержался на ногах; потом он стал спускаться осторожнее. Я окликнул его, чтобы он еще раз показал мне свое лицо, но он не услышал. Я хотел самым вежливым образом предостеречь его от камнепада. То и дело скатывались вниз камни, но ему это не мешало: он-то был наверху. Чем больше я отказывался возмущаться его словами, тем безмернее возмущался я теперь тем, как лазил по горам этот болван. Вот и опять покатились камни! Я свистнул в два пальца; вероятно, он принял это за свист сурка, который тоже скоро войдет в гитлеровский рейх, и оглянулся. Я стоял на выступающей скале, пока он не дошел до кешской расселины, черный человечек среди снегов; вероятно, он снова делал снимки, во всяком случае он долго ковылял то туда, то сюда. Я поднял свой китель, внезапно решив спуститься, чтобы его догнать. Зачем? Я остался на вершине. Все-таки я следил за ним, пока он был на снегу, и потом, когда он шел по гальке склона, а потом, на альпийском лугу, он стал невидим благодаря своей непромокаемой куртке, и я прекратил бессмысленную слежку.








