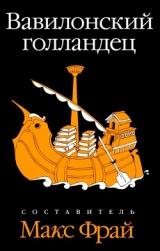
Текст книги "Вавилонский голландец"
Автор книги: Макс Фрай
Соавторы: Елена Хаецкая,Алекс Гарридо,Алексей Толкачев,Елена Касьян,Алексей Карташов,Юлия Боровинская,Марина Воробьева,Оксана Санжарова,Марина Богданова,Елена Боровицкая
Жанры:
Классическое фэнтези
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
А еще Красавица говорила, что ей теперь никогда не будет ни грустно, ни скучно, а всегда будет хорошо. Странно. Люди это про рай рассказывают. Говорят, там все всегда довольны и никому не бывает грустно или холодно. Если все получилось, как она говорила, то Красавица теперь блаженствует, как бабка. Бабка теперь точно в раю, все так говорят. Я-то в рай не очень хочу. Чтобы попасть в рай, надо сначала долго болеть, потом лежать в гробу, а потом тебя засыплют землей. С бабкой все так и было. Так в рай попадать очень неприятно, и я боюсь и не хочу. Бабка, когда в гробу лежала, была ужасно страшная. Хотя многие люди мне уже рассказывали, что в раю хорошо. А вот как Красавица – так намного лучше в рай попадать. Может, уплыть на этом корабле – это все равно что умереть, только интересно и не больно? Ну и ладно, лучше уж так, чем чтобы тебя землей засыпали. Я и думаю, не может быть, чтобы в рай можно было только одним способом попасть, бабкиным. Вот, может, и Красавица сейчас как в раю, она ведь говорила, что на корабле ей никогда не будет ни грустно, ни скучно, а всегда будет хорошо. Может, это такой маленький рай не для всех. Хотя рай всегда не для всех, туда не все попадают, многие в преисподнюю проваливаются, я знаю. А некоторые вообще после смерти никуда не попадают, а становятся неприкаянными мертвецами и пьют у живых кровь. Вы тоже знаете про это? Все взрослые знают, а дети не все. Бет не знала, пока я ей не рассказала.
Красавица еще много чего говорила, только я уже плохо соображала. Потом она отвела меня обратно, до самого дома довела и поцеловала на прощание. И еще сказала, что звать ее на самом деле Сузи, я запомнила.
Больше я ее не видела.
Я очень хочу, чтобы она вернулась, но она не возвращается.
А вы знаете, я ее все вспоминала, так о ней скучала, а потом ее книжку посмотрела, она ведь от Красавицы. А в книжке оказались картинки, такие хорошие, не насмотришься. Вы, если хотите, пойдемте потом ко мне, я вам покажу. Я все картинки смотрела, а потом и прочитала от начала до конца, сама не заметила, как так получилось. Это совсем не похоже на учебник оказалось, в сто раз лучше, в тысячу – там истории такие прекрасные, вроде тех, что Красавица рассказывала. Одна даже оказалась знакомая, про этого дядьку, который на дудке играет. А которая из этих историй про ее отца, я не знаю.
Я теперь еще всяких книжек нашла: пассажиры с кораблей иногда выбрасывают книги. Они почти все скучные, но некоторые – интересные, я их все прочла.
Я бы все, что прочитала, Красавице рассказала, ей бы понравилось, я знаю.
Я думаю, может, они опять приплывут. Я тогда обязательно пойду посмотрю, что у них там, зря я в первый раз не пошла.
Может, там, на борту, ничего опасного и нет вовсе? Ну, книжки, наверное, есть. Ведь они говорили, что это вроде как плавучая библиотека, а в библиотеках всегда книжки. Да, это не страшно, даже интересно может быть. А что там за люди, я не знаю. Тот мужик, который звал меня книжки смотреть, он вовсе и не страшный был, по правде говоря. Это просто правило такое – в каюты к незнакомым мужчинам не ходить. А улыбался он по-хорошему. И старик, который там потом исчез, и девушка – они совсем не страшные. Про этого, который на выпившего похож, я не знаю, страшный он или нет. Много там народу собралось – два, три – человек пять, наверное. Красавица тогда в ресторане говорила, что там таких, как она, – полный корабль, а я никого больше не видела. Но если Красавица там, то она меня в обиду не даст, с ней не страшно.
Я теперь очень хочу посмотреть, что там на борту. Может, я опять увижу Красавицу, и, может, она даже возьмет меня с собой, если я попрошусь, она добрая. Я бы с ней куда угодно поехала, и слушала бы ее истории, и книжки бы читала – те, которые с картинками, конечно, и интересные. А то ведь книжки разные бывают, я уже говорила, да? А, вы сами знаете… Ну, ладно.
Почему мне никуда нельзя плыть? Маленькие девочки не могут путешествовать одни? Ну, я же не одна там буду. Дед с кем останется? Не знаю, я не думала. Как совсем один останется? Не один вовсе, у него еще сестра есть, Ревекка вдовая, она в городе живет. Меня она не любит, говорит, у нее от меня голова болит и грязь, не знаю почему. И к нам она не ходит, потому что далеко, но ведь он сам может к ней ходить, если захочет, правда ведь? Вам его жалко? Мне должно быть жалко? Ну, немножечко жалко, конечно, а только он все равно весь день ходит в порту, а вечером сидит в кабачке у Пегги. Все говорят, что девчонка старику обуза, не нужна я ему. Я никому не нужна, только жене старого Якоба, чтобы помогать, она ведь тоже старая и сама не справляется. А дед помрет все равно, он давно собирается, так и говорит: помру скоро. А я с кем останусь? Соседи говорят, что я тогда в приют пойду. А я не хочу, я что, ненормальная, вы приютских детей видели? Видели? Ну, тогда понимаете. Чего это – в приюте лучше, как это – там за детьми присматривают и кормят? Знаю я, как там присматривают! Я чего, собака, чего за мной присматривать? Еще бы на цепь посадили! Вы думаете, мне в приюте хорошо будет? Мне?! Вы сами из приюта? Детей ищете для приюта? С дедом договоритесь? Как же, додумались! Да мне с дедом куда лучше, чем в приюте вашем!
А еще лучше, я с Красавицей поеду, с ней вообще интереснее, чем с дедом. И уж в тыщу раз лучше любого приюта. Я все уже придумала, надо только чтобы корабль этот снова приплыл.
Да не пойду я в ваш приют, сами там живите. И посмотреть не хочу, нечего мне там смотреть. Да чего вы прицепились ко мне? Идите, идите своей дорогой. Ничего мы не подружились. Я только с Петером дружу и с Красавицей, а вы валите отсюда, тоже мне друзья нашлись, сначала притворились, а теперь в приют меня хотите отдать, друзья так не поступают. Да вы хуже Крысолова любого! Еще чего! Не нужно мне вашего добра, проваливайте. Не уйдете? Я тогда сама уйду, не поминайте лихом! Прощайте! Сами дураки!
* * *
Анна тогда удрала от нас, и что с ней стало, мы не знаем.
А то, что старый Тильс последние годы прожил вдвоем со своей вдовой сестрой и умер, поперхнувшись супом, это всем известно.
Елена Хаецкая
Шлюпка «Маргарита»
Из «Путешествий Филиппа Модезиппа в Негропонт, Модон, Торон, Будерино, Воницу, Ашаюоли, а также в страны ботентроцев, мейсинов, животоглавцев и Японию»
Возьмешь припасов на три дня – понадобится на пять; возьмешь на пять – с гарантией потребуется в два раза больше. Так что, по-моему, рисковать не стоит. Хочется тебе побыстрее покончить с приключением – правильно рассчитывай количество еды и питья. Мне, например, и представить страшно, что могло бы случиться со мной, окажись в моей шлюпке на один бочонок больше.
И кстати, тот, кто усматривает в крике «Таласса!» какой-то намек на сбывшуюся надежду, на долгожданное и благополучное завершение, есть полный осел, который не потрудился прежде раскрыть книгу и выяснить значение этого слова.
Море. Только попробуйте себе это представить: одно сплошное море кругом. Не знаю, пронимает ли кого-нибудь еще это слово так же сильно, как меня. Море прыгучее, блескучее, по большей части штилевое, непреодолимое и вместительное. Везде, кроме неба, – таласса, таласса, таласса. Справа, слева и снизу. И так – пять нудных, испепелительных дней, что я провел на шлюпке «Маргарита» после отплытия с острова животоглавцев.
К рассвету шестого дня (а еды и питья я, следуя собственному правилу, взял только на половину этого срока) я окончательно потерял сознание и пробудился на палубе неизвестного мне корабля, весь облитый водой и с ложкой жидкой каши возле лица.
Я схватился за ложку зубами и стиснул так, что на ней остались следы моего укуса, а в десну мне, в отместку, вошла крошечная заноза. (Она потом нагноилась, и ее пришлось вырезать ножичком.) Матрос, оказавший мне благодеяние, с проклятьем выдернул ложку из моего рта, и тотчас его дочерна загорелая физиономия сменилась другой, вытянутой и бледной, как платок старой девы на чужой свадьбе. Странно было даже предположить, что подобный цвет кожи мог сохраниться у того, кто проводит дни на корабле, непрестанно подвергаясь воздействию солнца, ветра и непогоды.
Несколько секунд он рассматривал меня тусклыми серыми глазами, а затем в самое мое ухо прошептал:
– Что такое «таласса»?
Я вздрогнул всем телом и услышал, как стукнулись при этом о доски палубы мои пятки.
В ответ на мой невысказанный вопрос бледный человек пояснил:
– Вы повторяли это слово в бреду.
– Море, – прошептал я.
Кажется, это было первое, что я произнес, очнувшись на корабле, меня спасшем. Разумеется, я бы предпочел, чтобы начало моего осмысленного пребывания здесь оказалось ознаменовано каким-нибудь иным словом. «Спасибо», например, или «сегодня чересчур жарко», или, на худой конец, «что вы себе позволяете?». Но я сказал: «Море…»
– Мы подняли также вашу шлюпку, – продолжал мой собеседник. – Вам, наверное, приятно будет узнать, что она исправна.
На это я никак не ответил, опасаясь брякнуть еще что-нибудь из того, о чем пожалею.
И все-таки я это сделал. Я брякнул:
– Она называется «Маргарита».
Бледный человек опять нагнулся ко мне, как журавль:
– Шлюпка?
– Да.
– Почему? – осведомился он.
Я почувствовал к нему род симпатии и поэтому ответил:
– Ну, таково ее имя.
– Ясно, – отозвался он, выпрямляясь надо мной, поджимая губы и скучно обводя взглядом горизонт, как бы в поисках опровержения моих слов. Но поскольку опровержения не последовало, он вздохнул. – Меня зовут Анадион Банакер, – сказал он.
– Вы капитан? – уточнил я зачем-то. Меня совершенно не это в данный момент интересовало.
– Библиотекарь, – неприятным тоном отрезал Анадион Банакер.
Матросы все были заняты на корабле каким-нибудь делом, но большая часть этих дел происходила в той части судна, где находился я. Неожиданно мне стало неприятно, что я вот так лежу, да еще в испаряющейся под солнцем луже, а кругом ходят люди. Поэтому я сел и потихоньку переполз на более сухое место, а лужа осталась испаряться без меня.
– Позвольте мне, в свою очередь, узнать ваше имя, – продолжал библиотекарь.
– Филипп Модезипп, – сообщил я. – Во всяком случае, так утверждал мой отец. Сам я в этом периодически сомневаюсь.
– Я постараюсь запомнить это, – кивнул библиотекарь. – А по какой причине у вас перечеркнуто лицо?
Я потрогал свои лоб и щеки. Я так привык к этой метке, что давно уже не обращал на нее внимания.
– Видите ли, – проговорил я, стараясь, чтобы мой тон оставался вежливым, – у вас, например, лицо вообще не там, где ему положено быть, однако же я не задаю вам неделикатных вопросов.
Матросы поблизости разразились хохотом, и один из них, очевидно полагая свой жест верхом остроумия, принялся хлопать себя по парусиновой заднице. Анадион Банакер счел себя выше этих грубых намеков.
– Не будет ли неделикатным с моей стороны спросить, – заговорил библиотекарь, когда смешки поутихли, – где же, по-вашему, должно располагаться мое лицо?
– На животе, – ответил я и для большей наглядности обвел пальцем круг у себя на животе. – Вот здесь. Это и удобно, потому что рот непосредственно соприкасается с желудком, что значительно упрощает пищеварение. В свою очередь, процессы, происходящие в желудке, лучше воспринимаются органами осязания и усиливают удовольствие от поглощения пищи. К сожалению, я в силу особенностей моей расы лишен этого преимущества…
– Поэтому вы и перечеркнули свое лицо? – поинтересовался, отбросив всякую вежливость, Анадион Банакер.
– Это сделал мой добрый хозяин, – объяснил я. – Из милости и в качестве напоминания.
– Татуировка? – продолжал он допытываться.
– Несмываемая краска, – сказал я. – Со временем, если ее не обновлять, она смоется.
Две синие полосы шириной в два пальца пересекали мое лицо крест-накрест – в знак того, что физиономия, размещенная в неправильном месте, «не считается». Аннулируется. На животе, справа и слева от пупка, у меня были нарисованы глаза, но я редко их обнажал.
– Что ж, более или менее это понятно. – Анадион Банакер пожевал губами в задумчивости и тотчас же задал новый вопрос: – Вы, разумеется, грамотны?
Я пожал плечами. Это можно было истолковать как «да» и как «нет». Анадион Банакер предпочел «да».
– Я так и думал, – молвил он. – Вы поступаете ко мне на службу.
Я не мог скрыть удивления. Насколько может быть велика библиотека на корабле, если здесь имеется специальный библиотекарь, которому к тому же позволено завести помощника?
– Она огромна, – заверил меня Анадион Банакер, опять без труда угадав невысказанный мой вопрос. – Гораздо больше, чем вы в состоянии вообразить.
«Таласса», – подумал я с внезапно подступившей тоской. А когда тоска отхлынула, я снова услышал голос библиотекаря:
– …И поскольку у вас имеется шлюпка, вы сможете заняться свободным поиском. Иногда, знаете ли, мы получаем заказы на определенные книги. Выполнить эти заказы мы не можем, а не выполнить – не можем себе позволить, если вы понимаете, о чем я толкую. Сетью мы вас обеспечим.
Я кивнул:
– Разумеется, я согласен.
– Но вашего согласия я не спрашивал, – удивленно промолвил Анадион Банакер. – Мы ведь спасли вас. Вы теперь целиком и полностью принадлежите нам. У вас нет выбора.
– Еще я могу прыгнуть за борт, – буркнул я.
Клянусь отделением головы от тела, это был самый унылый и вялый бунт из всех возможных. Анадион Банакер даже не обратил на него внимания.
– Спускайтесь сейчас к Константину Абэ, – приказал Банакер. – Он введет вас в курс дела. Позвольте вашу руку – я помогу вам встать.
Опираясь, а точнее сказать, наваливаясь на локоть Банакера, я доковылял до люка и по крутейшему трапу спустился в трюм. Банакер вел меня сквозь темное корабельное брюхо, где пахло так, словно мы очутились внутри старой бочки с парой забытых огурцов. Знаете, такие огурцы, поросшие пушистой плесенью и оттого похожие на гусениц? У некоторых людей такие брови.
У меня имелись наготове два вопроса. Они катались, как шарики, на кончике языка; будь я животоглавцем, я легко бы проглотил эти вопросы, – кстати, одна из причин, почему животоглавцы по большей части вежливы и молчаливы, – но поскольку язык мой болтается на воле и я не умею прятать его в желудке, то и вопросы соскочили с него один за другим:
– Как же вы храните книги в такой сырости?
– А этот Константин Абэ – первый помощник библиотекаря?
Анадион Банакер приостановился и пристально посмотрел на меня в темноте. Его взгляд был таким выразительным, что я уж и не ожидал словесных ответов, но библиотекарь все же проговорил, и притом довольно мягко:
– Разумеется, книги хранятся в другом месте.
– Мне не требуются два помощника, вы – единственный; а господин Абэ – корабельный кок.
И еще он прибавил:
– Мы пришли.
* * *
Константин Абэ при виде меня оглушительно расхохотался. Я недоумевал – что в моей внешности могло вызвать у него столь неумеренный приступ веселья, – до тех пор, пока Абэ не произнес:
– И опять небось грамотный?
Я пожал плечами. У животоглавцев этот жест выражает чрезвычайно широкий спектр самых различных чувств, от язвительного недоумения до искреннего сочувствия. Отчасти функции мимики переложены у животоглавцев на плечи – в самом прямом смысле слова; поскольку их лица, находящиеся на животе, своими гримасами показывают преимущественно фазы пищеварительного процесса и его состояние.
Анадион Банакер сухо произнес:
– Да. Грамотный. Как всегда.
И вышел, закрыв за собой дверь.
Я осматривался в тесном, качающемся помещении, в чьи стены безнадежно стучали сырые кулаки моря.
Здесь было жарко, влажно и захламлено. Обилие бочонков с припасами уничтожало всякую надежду на скорое завершение путешествия, каким бы нежелательным и тяжким оно ни было.
– Грамотные-то хужей котлы чистят, – крикнул, обращаясь к закрытой двери, Абэ и напоследок хохотнул еще разок. Затем он стал серьезен и уставился на меня. – Что это у тебя с рожей? – осведомился он. – Болезнь? Заразная?
Я сказал:
– Нет.
Удовлетворившись этим ответом, Константин Абэ сунул мне в руки засаленную тряпку и кивнул на котел:
– Вычисти.
Я посмотрел на тряпку и произнес:
– Я – помощник библиотекаря, господина Банакера.
– Ну да, – кивнул Абэ, – он ведь сам мне об этом сказал. Твоя служба началась. Не рассчитываешь же ты плавать на нашем корабле за просто так? Мы пассажиров не берем.
Ни к одному человеку на свете я не испытывал такой ненависти, как к Константину Абэ. Он был невысок ростом, худощав, с абсолютно лысой головой, которую смазывал маслом так, что она отбрасывала блики на стены. Цвет его кожи был желтоватый, разрез глаз неопределенный: они были раскосыми, но без изысканного тяжелого века, которое отличает азиатов. Просто криво вырезанные в желтой коже глаза. И еще они почти никогда не моргали.
Готовил он из рук вон плохо, и все матросы его ненавидели. Изрядная толика их ненависти приходилась теперь и на мою долю. Поначалу меня это удивляло.
В первый же вечер, утомившись от противной и тяжелой работы, я выбрался на палубу и растянулся под звездами, рассчитывая немного отдохнуть. С той же, очевидно, целью туда явились трое матросов, и один сразу же раскурил на редкость вонючую сигару. Не сомневаюсь, что он купил ее на честно заработанные деньги, потому что украсть такую гадость не пришло бы в голову даже такому наивному человеку, как я.
– Ба! – воскликнул один из матросов. – Да это же новый помощник библиотекаря!
Я уже приподнялся было на локте, чтобы достойно вступить в беседу и познакомиться с этими людьми, моими спутниками на ближайшее время, как второй матрос в меня плюнул. Его плевок, длинный и коричневый, медленно пролетел по вечернему воздуху и с пугающей меткостью завершил траекторию у меня на лбу.
– То-то я гляжу, суп сегодня еще жиже, чем вчера, – сказал плеватель.
Я вытер лицо одеждой и с достоинством осведомился:
– Что вы имеете в виду?
(Следовало употребить фразу: «Что вы себе позволяете?» – но я как-то не сообразил.)
– Да то, что раньше воровал из общего котла один Абэ Желтомордый, а теперь к нему прибавился второй короед.
– Я помощник библиотекаря, – напомнил я.
– А знаешь, что мы сделали с прежним помощником? – сказал, оскалив зубы и шевеля в них сигарой, курильщик.
– Меня это не касается, – заявил я.
Я снова улегся и всем своим видом показал, что не намерен больше перемолвить ни слова с этими дурно воспитанными людьми. Они это поняли и принялись переговариваться, как бы не замечая моего присутствия. При этом они толкали друг друга локтями и то и дело прыскали от смеха. Неизвестно, чем бы все это закончилось для меня, если бы на палубе не появился Анадион Банакер.
– Вот вы где! – обратился он ко мне.
Матросы сняли головные уборы и замолчали, но библиотекарь даже не посмотрел в их сторону.
– Вас ищет Абэ, – сказал Банакер, глядя поверх моей головы куда-то на мачту. – Говорит, для вас есть работа.
– Послушайте, господин Банакер, – взмолился я, – почему, являясь вашим помощником, я вынужден быть на побегушках у повара? Как это связано с библиотекой?
– Вы, как человек, поживший среди животоглавцев, должны лучше, чем кто бы то ни было, знать о непосредственной связи между желудком и головой. Или, выражаясь иначе, – о связи между мыслительными и пищеварительными процессами, – ответил библиотекарь.
Не без злорадства я отметил, что на матросских физиономиях появилось выражение глубочайшего недоумения. Однако на этом мое мимолетное торжество и закончилось, и я поплелся обратно в камбуз, в царство тирании Константина Абэ.
* * *
Судя по состоянию припасов, корабль находился в плавании уже много месяцев. Запасы воды пополнялись во время коротких стоянок у необитаемых берегов, но с пищей все обстояло из рук вон плохо. Константин Абэ вряд ли был так уж виноват в том, что у нас заканчивалась солонина, сухари покрылись плесенью, а в крупе было больше мышиных какашек, чем самой крупы.
Пользуясь моей исполнительностью, Константин Абэ переложил на меня большую часть своих обязанностей и теперь в основном проводил время в своем гамаке, подвешенном под потолком камбуза. Часами я наблюдал за тем, как желтокожий куль мерно покачивается в такт корабельной качке. Иногда сверху свешивалась нога или рука, иногда – жидкая черная косица. Сам не знаю, что удерживало меня от искушения ткнуть туда, где я предполагал задницу моего тирана, чем-нибудь острым.
Изредка этот живой окорок – по правде сказать, жилистый, вертлявый и на вид куда менее съедобный, нежели те старые сапоги, что я крошил в матросскую кашу, – высовывался из гамака и произносил что-нибудь вроде:
– А что, помощник библиотекаря, хорошо ли ты намыл сегодня посуду? Вчера на тебя опять жаловались. И давай-ка воруй поменьше.
Измученный изжогой, я даже не огрызался, несмотря на всю несправедливость этих замечаний. Продукты на камбузе все никак не желали заканчиваться, а это означало, что нам предстоит оставаться в море еще неопределенное время.
В конце концов я не выдержал и обратился к Константину Абэ с такой речью:
– Если мы не найдем способ подавать команде что-нибудь более съедобное, нас выбросят за борт.
Это была тщательно продуманная и отрепетированная речь; она была содержательна и корректна. Ни одного прямого выпада, который можно было бы расценить оскорбительным для себя образом.
– Для человека с зачеркнутым лицом ты недурно соображаешь, – одобрил меня Абэ, поглядывая сверху блестящим косым глазом. – Кстати, давно хотел спросить: это правда, что у твоих бывших хозяев мозг помещается в желудке?
– Почему? – удивился я.
– Потому что лицо для того и нарисовано на голове, чтобы показать месторасположение мозгов, – ответил Абэ. – А ты как думал? Где мозги, там и рожа, чтобы одно на другом отражалось. Неужели не ясно?
– Это мне ясно, – согласился я. По-своему Абэ рассуждал безупречно.
– А у них рожа, ты говоришь, на животе, стало быть, и мозг в животе, – продолжал Абэ.
– Не исключено, – подтвердил я. Прежде мне не приходилось задуматься о подобном. Мои хозяева были достаточно умны, а, как известно, мы начинаем всерьез анализировать проблему ума лишь в том случае, когда ум действительно становится проблемой, то есть когда его не хватает.
– Если у них мозги в желудке, то они давно переварились, – заявил Абэ. – Вот что меня поражает: чем же они тогда думают?
– У животоглавцев не принято стыдиться того, что служит на благо телу, – сказал я уклончиво.
– Я вот думаю, – промолвил кок, – пора бы тебе распотрошить библиотеку.
– Что вы имеете в виду, господин Абэ?
Я вдруг обрадовался. Неужели Абэ наконец проникся мыслью о том, что мне не место в его грязном камбузе? Или Анадион Банакер вспомнил, что помощники библиотекарей обычно обитают поблизости от книг, в крайнем случае – возле каталога, а отнюдь не гниют на кухне?
Но ответ кока развеял все мои надежды. Оставалось лишь благодарить судьбу за то, что произошло это милосердно быстро и радость не успела укорениться в моем сердце.
– Засаленные книги и коленкоровые переплеты, – сказал Абэ. – Вот что я имею в виду. Если их добавить в еду, она приобретает съедобный привкус. Проверено. – И он причмокнул своими синеватыми губами (с едва заметной плоской бородавкой на нижней).
– Вы предлагаете мне украсть книги? – спросил я.
– Ты же помощник библиотекаря, – возразил Абэ. – Если книги возьмешь ты, никто не заподозрит дурного.
* * *
Левый глаз, нарисованный на моем животе, был постоянно вытаращен от вздутия желудка, а правый, тот, что над печенью, все время щурился от недовольства. Константин Абэ пригрозил мне, что навесит фонарей на все четыре моих глаза, если я не проберусь в библиотеку и не принесу пару-другую, а лучше десяток наиболее замусоленных томов.
– Это проще простого, – сказал Абэ на второй день после первого нашего разговора о библиотеке. В этот день капитан, покончив с обедом, пригрозил коку протащить его под килем. – Я покажу тебе, где она находится. Ты вышибешь дверь, только сделай это бесшумно, пожалуйста…
Я поморщился и заткнул уши.
Абэ, не переставая говорить, схватил меня за запястье и силой заставил вынуть пальцы из ушей.
– …Самые мясные книги, конечно, в кожаных переплетах. И на даты смотри. Во времена войн клей был из рук вон паршивый, а вот в годы процветания книжный клей варили весьма нажористый. Опять же, детские книги. Дети любят жевать за чтением. Равно старики, поэтому политические детективы тоже бери. Если ты что-нибудь во время чтения ешь, то это с гарантией попадает на страницы. Соус – особенно. Еще некоторые фрукты. Знавал я одного оригинала, он закладывал страницы хлебными корками… Ты понимаешь, какой богатейший источник пищи находится практически у нас под боком?
Я спросил:
– А что будет, если нас поймают за этим делом?
Абэ пожал плечами:
– Поймают не нас, а тебя. И выбор невелик: если ты украдешь книгу, повесят тебя, а если не украдешь – повесят меня.
– Я грамотен, – сказал я. – Моя жизнь более ценна.
– Зато у меня лицо находится где надо, – возразил Абэ.
– Такому лицу, как у тебя, нигде находиться не надо, – огрызнулся я.
– И это мне говорит четырехглазый? – Абэ всплеснул руками. – Куда катится мир?
И он больно ткнул меня пальцем в живот.
Я как-то сразу сломался после этого, а Абэ, напротив, расцвел и потащил меня к библиотеке. Мы поднялись на палубу, миновали толстую грот-мачту, потом еще бизань, и он показал мне на кормовую надстройку:
– Это здесь.
Почему-то в тот же самый миг мне показалось, что я всегда это знал. Я остановился перед закрытой дверью и услышал, как Абэ шипит у меня за спиной:
– Давай вышибай ее. Пни как следует.
Я толкнул дверь пару раз, послышался тихий, вкрадчивый треск, какой бывает, когда ломается гнилое дерево, и передо мной раскрылась темнота. Абэ подтолкнул меня в спину. Споткнувшись, я ввалился в комнату.
Почти сразу же дверь за мной затворилась, но я не почувствовал никакого одиночества, хотя Абэ остался на палубе. Я нащупал лампу, подкрутил фитилек и довольно ловко зажег его. Красноватый свет благожелательно растекся по стенам, и я увидел бесчисленные полки, набитые книгами.
В тяжелых деревянных окладах, в кожаных переплетах, вовсе без переплетов, растрепанные, ухоженные, стянутые ремнями и перевязанные грубой бечевой, – они стояли, лежали, были втиснуты, навалены, разбросаны, разложены, а иные даже открыты – как бы для чтения. Никогда еще я не встречал такого беспорядка… и вместе с тем точно так же мне было очевидно, что в этой библиотеке царит своего рода идеальный порядок.
За время моих путешествий я успел убедиться в том, что беспорядка (или, если угодно, хаоса) в чистом виде не существует. Имеют место лишь различные степени приближения к хаосу, обратно пропорциональные числу людей, которые находят данное положение вещей естественным. Говоря проще, чем меньше людей ориентируется среди предметов, разбросанных по комнате, тем больше эта комната приближается к хаотическому идеалу, и напротив: если подавляющее большинство людей в состоянии в кратчайший срок отыскать в данной комнате необходимый предмет, комната может считаться максимально удаленной от хаотического идеала.
Я поднял лампу повыше и осмотрелся более внимательно. Содержание книг меня не занимало; я выискивал те, которые были наиболее съедобны, и в конце концов отобрал десяток вполне приемлемых.
Абэ ждал меня у двери. Он нетерпеливо топтался возле входа в библиотеку, а когда я вынырнул наружу, набросился на меня с бранью:
– Почему так долго? – (Здесь я пропускаю все те слова, которыми он охарактеризовал мою медлительность.) – Ты погасил лампу?
– Погасил, – сказал я.
– Где еда? – спросил Абэ.
– Это книги, – поправил я.
Он махнул рукой, не желая спорить.
Пряча добычу под рубахой, я двинулся вслед за коком в обратный путь, мимо бизань-мачты, мимо грота, мимо матросов, что сидели, скрестив ноги, на палубе и штопали парус огромными и ржавыми иглами. Завидев нас, они прервали работу и разразились угрозами в наш адрес. При этом один из них ковырял иглой у себя в ухе и от удовольствия, которое приносило ему это противоестественное занятие, корчил отчаянные рожи.
Абэ остановился, чтобы показать ему язык и кулак, а я поскорее проскользнул мимо, торопясь укрыться на камбузе. Скоро ко мне присоединился и Абэ. Отдуваясь, он произнес:
– Они не посмеют бросить нас за борт.
Я молча разложил на кухонном столе свою добычу. Здесь были книги, заложенные хлебными корками, корками от арбуза, корками от копченого сала и «попками» от колбасы; а помимо того – книга в переплете из телячьей кожи и книга, написанная на высушенных листьях, – я счел, что последняя послужит неплохой приправой.
Константин Абэ разволновался, слюни потекли из его рта, а руки затряслись. Он схватил одну из книг и вырвал из нее листы, пропитанные жиром от сальной корки.
– Ставь скорей котел! – закричал он мне.
Кулинарный азарт охватил и меня – заразная оказалась штука! – и я, смеясь во все горло, поставил на огонь котел с водой, а Абэ забрался на табурет, разорвал листы и с высоты торжественно швырнул их в кипящую воду.
На поверхности бульона вскоре плавали буроватая пена и клочки бумаги. Последнее обстоятельство почему-то веселило Константина Абэ, а у меня, честно говоря, вызывало некоторые сомнения. А ну как библиотекарь или, того хуже, капитан прознают, откуда в нашем супе взялся мясной вкус!
– Ну и дурак, – сказал мне Абэ, когда я поделился с ним своими соображениями.
– Почему это я дурак? – обиделся я.
– Потому, – отрезал Абэ. Но веселиться перестал и даже слез с табурета. – Потому, – повторил он, забираясь в свой гамак и намертво после того замолчав.
* * *
Первый наш с Абэ книжный суп был принят и капитаном, и его офицерами, и командой с большим воодушевлением. Не знаю, о чем говорили офицеры, а среди матросов упорно ходил слух, будто я пожертвовал мизинцем левой ноги, дабы сделать похлебку нажористей. Несколько человек даже докучали мне, повсюду за мною следуя и присматриваясь к моей походке. Я сильно подозревал, что они заключили пари – на какой именно ноге у меня теперь отсутствует мизинец; и поэтому, из обычной человеческой вредности, нарочно хромал то на левую, то на правую ногу: пусть-ка помучаются!
Второй наш суп, из переплета телячьей кожи, также сошел нам с рук: люди привыкли уже находить в мисках куски вываренной шкуры и ничему не удивлялись. Но затем черт нас догадал воспользоваться хлебной коркой и теми страницами, на которых сохранились еще крошки, а это оказалось ошибкой: сальные страницы были жирны и потому полностью растворились в супе, но хлебные не спешили этого делать.
И вот капитан за трапезой вдруг ощущает, как нечто застревает у него между зубами. Поморщившись от досады, капитан звонким щелчком пальцев подзывает к себе черномазенького; черномазенький подбегает и весело таращит на капитана огромные ясные глазищи в пушистых ресницах.








