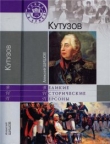Текст книги "К чести России (Из частной переписки 1812 года)"
Автор книги: М. Бойцов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
И. В. Сабанеев – М. С. Воронцову.
23 октября. Рожаны
...> Здесь прошел слух, что гр. Меттерних в звании австрийского посла поехал в Петербург с угрозами и предложением о мире(28). Какой мир! Что нам осталось? Что терять можно? Истребить злодея с его шайкою и плевать на немцев. А пусть идут, пусть войдут, пусть что хотят делают. У русских должна быть одна цель: гибель изверга; ничем дорожить не должно. Я очень рад, что все честные люди одного со мною мнения. Какого мира ожидать можно с Наполеоном? Я не думаю, чтобы государь на сие согласился.
Н. Н. Раевский – А. Н. Самойлову.
23 октября. Вязьма
Заглавие письма моего, милостивый государь дядюшка, обрадует вас. Неприятель бежит. Мы его преследуем казаками и делаем золотой мост(29). Вот как все происходит и происходило.
После сражения б-го сего месяца, через два дня явился неприятель в Боровске, что на Калужской дороге в Москву, который с нами на одной высоте. А известие сие получено чрез мужиков боровских. Мы тотчас пошли на Малый Ярославец, который занятым нашли неприятелем. Дохтуров и я атаковали город, восемь раз их выгоняли, и к вечеру половина города осталась за нами. По сие время еще не решено, маскировал ли он свое отступление или действительно хотел следовать чрез Калугу, только скажу вам, что сей день стоит нам около б тысяч, а неприятелю, по крайней мере, столько ж. Я имел против себя итальянскую гвардию. После сего тщетного покушения неприятель пошел на Можайск и Вязьму и, как кажется, пойдет на Витебск и так далее за границу. Казаки его преследуют кругом, французы мрут с голоду, подрывают ящики, и с 12-го мы имеем их до 60-ти пушек и великий Наполеон сделал набег на Россию, не разочтя способов, потерял свою славу [и] бежит, как заяц. Граф Витгенштейн соединился со Штейнгелем, выгнал Saint-Cyr(30) из Полоцка, взяв 2000 в плен и одну пушку. Чичагов, не знаю зачем, послал отряд в Варшаву(31), другой – в Вильну, а сам одиннадцатого сего месяца еще был в Бресте.
Николай Чудотворец – великий генерал. С помощью его мужики более чем войска победили французов. Нап[оле]он [рас]счит[ыв]ал на мир с взятием Москвы и на возмущение, но в расчетах своих ошибся. Австрия за нас, и буде она нам поможет, то и вся немецкая земля подымется. Можно считать, что настал перелом счастья Бонапарте. Русский бог велик!
Мы все здоровы, брат Петр(32) в отряде у Милорадовича, потому не пишет. Мы все веселы, холоду, голоду не чувствуем,– всё ожило, злодей наш осквернил и ограбил храмы божьи – [теперь] едва уносит ноги свои. Дорога устлана мертвыми людьми и лошадьми его. [Неприятель] идет день и ночь при свете пожаров, ибо он все жжет, что встречает на ходу своем. За то и мы хорошо ему платим, ибо пленных почти не берут, разве одни регулярные войска.
Прощайте, будьте благополучны.
А. Я. Булгаков – жене.
25-26 октября. Москва
Я писал к тебе вчера, милая Наташа, и дал тебе отчет как о нашем путешествии, так и о печальном въезде в Москву. Исключая меня, все в доме спят, и я пользуюсь минутой общего покоя, чтобы побеседовать с тобой подольше. От Богородска до Москвы мы заметили мало следов неприятельского шествия: сожжено несколько деревень, от времени до времени видны были на дороге мертвые тела. Начиная с [Измайловского] зверинца, число мертвых тел увеличилось. Мы въехали через Рогожскую заставу в сопровождении драгун, казаков и гусар, начальники которых представляли свои рапорты по мере приближения к городу. Первый взгляд на Москву не произвел на меня того впечатления, которого я ожидал, ибо уцелевшие церкви со своими золотыми и серебряными главами придавали городу .вид довольно игривый, но боже! что я ощущал при каждом шаге вперед! Мы проехали Рогожскую, Таганку, Солянку, Китай-город, и не было ни одного дома, который бы не был сожжен или разрушен. Я почувствовал на сердце холод и не мог говорить. Всякое попадавшееся лицо, казалось, просило слез об участи несчастной нашей столицы. На заставе нашли мы Василия Обрезкова. Все это место усеяно лошадиными трупами, но я не почувствовал никакого запаха, только пожалел наших бедных солдат, закапывавших эти трупы, которые, должно быть, вблизи издавали сильный запах. Это мне внушило мысль, которую граф(33) тотчас же одобрил и которая заключалась в том, чтобы употреблять на эти работы вместо своих французских солдат, здесь оставшихся и выздоравливающих от ран. Пусть околевают эти негодяи или искупают свою жизнь тяжкой и нездоровой работой. ...> Мы направились к Иверским воротам(34). Лавки с обеих сторон все сожжены и уничтожены, а те, которые на левой стороне, разрушены выстрелами трех орудий, поставленных у Сената и теперь еще тут стоящих. ...> Спасские ворота заперты, а так как Никольские завалены обломками башни, шпиля (я разглядел во рву под мостом двуглавого орла, который венчал башню) и Арсенала, то нам нельзя было въехать в Кремль ни теми, ни другими воротами, и мы принуждены были ехать по Моховой мимо Пашкова дома через Боровицкие ворота, где стоит пикет и не пропускает никого без особого позволения. ...> Царское местопребывание стало местом ужаса: дворец сгорел, на большой лестнице валялась солома, капуста, картофель. Грановитая палата сожжена-я вошел вовнутрь – во многих местах еще дымилось. Мы спустились по Красному крыльцу оба собора представились нашим глазам совершенно целыми, так же и Иван Великий, у которого, впрочем, есть продольная трещина на стороне, обращенной к Красному крыльцу. Колокольни и все, что примыкало к Ивану Великому, взорвано и представляет страшную развалину. Тут и кирпич, и камни, и колокола, и балки, и кресты, перемешанные в грудах обломков, которыми завалена площадь на большом пространстве. Часть стены, обращенная на Москву-реку, разрушена. Это сделано было, вероятно, для того, чтобы проложить самый короткий путь к реке, куда французы, кажется, побросали пропасть пушек, ибо видны следы от самого верха до гранитной набережной, а железная решетка была в этом месте снята. Часть Кремля, где прежде стояла царь-пушка, усеяна бумагами, рукописными книгами и пергаментами. Некоторые из них я прочел – это сенатские и межевые дела, видно, они из этой бумаги делали патроны. Оттуда пошли мы на площадь против Сената. Арсенал взорвало, то есть ту половину, которая к Никольским воротам, прочее только сожжено, но не взорвано. Новая Оружейная [палата] совершенно цела, Сенат также, только в нем все переломано, оконницы и стекла все перебиты. ...> Ужас и уныние наводит смотреть на опустошение. Вообрази себе, что я сегодня, шедши от своего дома сюда пешком, к графу, пришел в четверть часа, потому что от дома Белавина у нас до дома Юшкова против почты(35) я шел прямою линией, потому что все выгорело на этом пространстве. Иногда не знаешь, где находишься – одни церкви дают возможность определить местность. Завтра отправляюсь осматривать остальные части города. Графу нездоровится – его слишком поразила эта раздирающая картина, он не решается выйти из дома, не спал всю ночь напролет и сегодня ходит в халате. Он думает, что Москва никогда не оправится, я утверждаю противное, но что потребуется много времени. ...> Вчера входит Ивашкин с расстроенным лицом. Что такое? "Французы идут в Москву". Кто вам это сказал? "Человек один проскакал в телеге и говорил это во все горло". Вероятно, какой-нибудь пьяница, а ему даже и в голову не пришло его тотчас остановить. ...> Дома наши загажены, вообрази, что свиньи-французы пакостили на полу в мраморной зале – войти нельзя было. В доме Мавры Ивановны жили они с лошадьми вместе – просто ужас! Удивляюсь, как все не перебито. Картины оборваны и взяты, а рамы на стенах. Не понимаю, какими судьбами уцелел только один портрет Людовика XVI. ...> Карты изорваны, с больших книг вырезаны переплеты и взяты. ...> Удалось собрать около тысячи книг, завтра уложу их в ящики и отошлю в Смердино. Я нашел прелестные дрожки, которые французы оставили в сарае. Вот славная пожива! Они тоже отправятся в деревню, мои дрожки сгорели у Фаста, так же как и все книги, к моему великому прискорбию. Но ничего я так не жалею, как венгерского вина. Что делать! Еще надо благодарить всемогущего – он к нам был милостивее, чем к другим. ...>
Хотя я тебе и надоедаю своими повторениями, но прошу опять сохранить мои письма со всеми приложениями – это заменит журнал всех нынешних происшествий...
Воронцов скоро к нам приедет. Я приготовил квартиру для Барклая, Всякий занимает любой дом. Я рад, что нашел бутылку рома, мешаю его с водой, которая может быть нездорова. Вообще, ром всегда полезен: благодаря ему брат предохранил себя в Молдавии от лихорадки в продолжение трех лет.
А. И. Тургенев – П. А. Вяземскому.
27-29 октября. С.-Петербург
Вчера получил я, милый друг князь Петр Андреевич, письмо твое от 16-го октября из Вологды, и несказанно обрадовался я, несмотря на то, что оно написано в унылом расположении духа. Северин не читал мне твоего письма к нему, но сказывал о содержании оного, и я тогда уже, а еще более теперь, когда дела наши ежедневно и приметно поправляются, пенял тебе мысленно за отчаянье, в которое ты погрузился. Зная твое сердце, я уверен, что ты не о том, что потерял в Москве, но о самой Москве тужишь и о славе имени русского. Но Москва снова возникнет из пепла, а в чувстве мщения найдем мы источник славы и будущего нашего величия. Не развалины будут для нас залогом нашего искупления, нравственного и политического, а зарево Москвы, Смоленска и пр. рано или поздно осветит нам путь к Парижу. Это не пустые слова, но я в этом совершенно уверен, и события оправдают мою надежду. Война, сделавшись национальною, приняла теперь такой оборот, который должен кончиться торжеством Севера и блистательным отомщением за бесполезные злодейства и преступления южных варваров. Ошибки генералов наших и неопытность наша вести войну в недрах России без истощения средств ее могут более или менее отдалить минуту избавления и отражения удара на главу виновного, но постоянство и решительность правительства, готовность и благоразумие народа и патриотизм его, в котором он превзошел самих испанцев (ибо там многие покорялись Наполеону, и составлялись партии в пользу его, а наши гибнут, гибнут часто в безызвестности, для чего нужно более геройства, нежели на самом поле сражения), наконец, пример народов, уже покоренных, которые, покрывшись стыдом и бесславием, не только не отразили удара, но даже и не отсрочили бедствий своих (ибо конскрипции съедают их, и они, участвуя во всех ужасах войны, не разделяют с французами славы завоевателей-разбойников),-все сие успокаивает нас насчет будущего, и если мы совершенно откажемся от эгоизма и решимся действовать для младших братьев и детей наших и в собственных настоящих делах видеть только одно отдаленное счастье грядущего поколения, то частные неудачи не остановят нас на нашем поприще. Беспрестанные лишения и несчастья милых ближних не погрузят нас в совершенное отчаяние, и мы преднасладимся будущим, и по моему уверению, весьма близким воскресением нашего отечества. Близким почитаю я его потому, что нам досталось играть последний акт в европейской трагедии, после которого автор ее должен быть непременно освистан. Он лопнет или с досады, или от бешенства зрителей, а за ним последует и вся труппа его. Сильное сие потрясение России освежит и подкрепит силы наши и принесет нам такую пользу, которой мы при начале войны совсем не ожидали. Напротив, мы страшились последствий от сей войны, совершенно противных тем, какие мы теперь видим. Отношения помещиков и крестьян (необходимое условие нашего теперешнего гражданского благоустройства) не только не разорваны, но еще и более утвердились. Покушения с сей стороны наших врагов совершенно не удались им, и мы должны неудачу их почитать блистательнейшею победою, не войсками нашими, но самим народом одержанною. Последствия сей победы невозможно исчислить. Они обратятся в пользу обоих состояний. Связи их утвердятся благодарностью и уважением, с одной стороны, и уверенностью в собственной пользе, с другой(36). Политическая система наша должна принять после сей войны также постоянный характер, и мы будем осторожнее в перемене оной. ...> Будет время, мы свидимся, любезный друг, и на развалинах Москвы будем беседовать и вспоминать прошедшее, но, конечно, прежде должно приучить себя к мысли, что Москвы у нас почти нет, что сия святыня наша обругана, что она богата теперь одними историческими воспоминаниями. Но есть еще остатки древнего ее величия – мы будем с благоговением хранить их. Я также потерял много с Москвою, потерял невозвратимое, например, все акты, грамоты, библиотеку, но еще, право, ни разу не жалел об этом, еще менее о другом движимом имуществе и о большой подмосковной. Нажитое опять нажить можно. Лишь бы омыть стыд нашествия иноплеменников в крови их.
Дела наши идут очень хорошо. Неприятель бежит, бросает орудия и зарядные ящики, мы его преследуем уже за Вязьмою. Последние донесения князя Кутузова очень утешительны. Наполеон желает спасти, кажется, одну гвардию; армиею, кажется, он решил жертвовать. Ты, верно, читаешь все известия в "Северной почте", и для того я тебе не посылаю их, но пришлю копии с многих интересных перехваченных у неприятеля писем. Подпишусь для тебя на "Сын Отечества", в котором помещаются любопытные статьи, назначение сего журнала было помещать все, что может ободрить слух народа и познакомить его с самим собою. Какой народ! Какой патриотизм и какое благоразумие! Сколько примеров высокого чувства своего достоинства и неограниченной преданности и любви к отечеству!
После буду писать более и чаще. Не забывай и ты меня. ...>
Весь твой Тургенев.
Н. Н. Раевский – А. Н. Самойлову.
26 октября. Близ Ельни
...> [Так] как я командую авангардом армии, от коей теперь в 12-ти верстах, то мне нельзя самому отлучиться для выполнения комиссий ваших у Михаилы Ларион [овича]. ...> Неприятель идет на Смоленск, а оттоль, пленные говорят,– на Вильну. Мы пропустили случай отрезать всей армией задний корпус [французов], состоящий в 30-ти т. в Вязьме(37), а теперь уж он впереди, и остается только казакам, голоду и холоду за нас воевать. Более писать теперь не имею и некогда. ...>
П. А. Вяземский – Н. Ф. Грамматину.
28 октября. Вологда
Посылаю Вам, милостивый государь мой Николай Федорович, книги ваши, столь долго мною задержанные, и прошу покорнейше отпустить мне мою вину. Благодарю за приятное Ваше письмо от 8-го октября и за известия, и вперед не забывайте обо мне и доставляйте мне иногда о себе вести. Мы немного начинаем привыкать к здешней стороне, и право, если бы не грусть быть в разлуке с нашими друзьями и не печальные мысли о печальных происшествиях, коих мы свидетели, то очень хорошо и здесь можно бы прожить смирехонкий свой век. Но один покой души может доставить нам счастье, а теперь русскому нигде его не найти. Везде сердцу больно, везде будешь вздыхать о прошедшем, не наслаждаться настоящим и трепетать будущего. Подождем конца, как говорит трость Дмитриева(38) , авось он будет лучше начала. Я писал к вам недели три тому назад, получили ль вы мое письмо? К довершению удовольствий, вкушаемых теперь нами, мы должны почти совсем отказаться и от письменного сообщничества с друзьями, потому что безпорядок в почтах чрезвычайный, и из трех писем едва ли можно надеяться получить и одно. Простите, милостивый государь мой, желаю, чтобы посылаемые вам мною книги не имели общей участи с письмами и чтобы Вы хотя и поздно, но могли не всегда быть недовольными моею точностию.
Имею честь быть с истинным уважением и преданностию покорнейший слуга
к[нязь] Вяземский.
П. П. Коновницын – жене.
28 октября. В 70 верстах от Смоленска
Милый друг, мы день и ночь гоним неприятеля, берем пушки и знамена всякий почти день и пленных – пропасть. Неприятель с голоду помирает, не только ест лошадей, но видели, что людей жарят, то есть описать нельзя их крайности. Можно ручаться, что армия их совсем пропала. Итак, мой друг, мы – победители, и враг погибает. Чрез 3 дня мы проходим Смоленск, а чрез две недели не быть ли нам в Минске, где и твои клавикорды отниму. У нас зима, и нам трудненько, холодно, и смерть утомились, но, благодаря богу, победно. Не бывал Бонапарт в такой беде, сам уплетает кое-как, чуть его казаки не схватили. Авось попадет еще в руки, его примечают наши. Итак, любезная родина радуется, веселится нашим победам, благодаря бога. Ежели бог даст, из Вильны попрошусь к тебе отдохнуть на месяц. ...>
М. И. Кутузов – жене.
28 октября. Город Ельня
Я, мой друг, хотя и здоров, но от устали припадки, например, от поясницы разогнуться не могу. От той же причины и голова временем болит.
По ею пору французы еще все бегут неслыханным образом, уже более трехсот верст, и какие ужасы с ими происходят. Это участь моя, чтобы видеть неприятеля без пропитания, питающегося дохлыми лошадьми, без соли и хлеба. Турецкие пленные извлекали часто мои слезы, об французах хотя и не плачу, но не люблю видеть этой картины. Вчерась нашли в лесу двух, которые жарят и едят третьего своего товарища. А что с ими делают мужики! Кланяйся всем. Об Беннигсене говорить не хочется, он глупый и злой человек. Уверили его такие же простаки, которые при нем, что он может испортить меня у государя и будет командовать всем. Он, я думаю, скоро поедет [из армии] (39). Детям благословение. Верный друг М. Г [оленищев]-Кутузов.
А. В. Воейков – Г. Р. Державину.
30 октября. Ельня
Весело извещать о бедствиях злодеев. Пепел и развалины московские навеки погребут великость и славу Наполеона. Московские и калужские крестьяне лучше испанцев защищали свои домы. Общее вооружение принудило врагов к постыднейшему бегству, голод вынудил их не только есть палых лошадей, но многие видели, как они жарили себе в пищу мертвое человеческое мясо своего одноземца. Наступившая зима довершает их погибель, они ежедневно оставляют тысячи усталых, полунагих. Смоленская дорога покрыта на каждом шагу человеческими и лошадиными трупами. Наш авангард и казаки истребляют все, что осмеливается противиться. Знамена, пушки и обозы – все достается нам в трофеи. Одних пленных, взятых нами, считается теперь у нас более 60 000, пушек взято более 100, знамен – до 40. Успешные действия графа Витгенштейна и Чичагова подают надежду к совершенному истреблению неприятеля. Масса силы его уничтожена, наши войска действуют ему во фланг и тыл. Одно провидение может спасти остатки французских войск. По всем известиям слышно, что и злой гений оскудевает в вымыслах. Один пленный полковник сказывал, что мы не знаем еще главного их несчастья. А что это такое, по сие время остается загадкою. С какой радостью встречают нас бедные жители, ужасно слышать, что они терпели. Неистовства французских генералов и войска превосходят вероятия. История опишет кровавыми чертами зверство и безбожие хвалящихся просвещением народов.
Т. А. Каменецкий – О. К. Каменецкому.
31 октября. Москва
Милостивый государь дядюшка Иосиф Кириллович!
Из Нижнего Новагорода я имел честь уведомить Вас, что по препоручению, данному мне начальством, отправился в Москву. Приехав во Владимир, я явился к г. гражданскому губернатору Супоневу для испрошения у него совета, каким путем безопаснее добраться до столицы. По его направлению я поехал на Покров, где имел честь свидетельствовать свое почтение спешившему тогда в Москву его светлости г. Главнокомандующему Московскому графу Ф. В. Ростопчину. В Москве я тотчас приступил к обозрению Университета и прочих учебных заведений. Главный корпус Университета, в коем находились Музеум, библиотека, церковь, студенческие и ученические комнаты, где были залы для преподавания лекций студентам и ученикам, где все залы для собраний и разных обществ, где жили некоторые профессора; большой дом в 3 этажа, который занимали профессоры. Другой такой же, губернская гимназия – преогромный дом, в котором я провел целые четыре года, Университетский пансион – пребольшое строение, дом типографический и множество маленьких домиков и строений сгорели дотла. Так что остался маленький дом, в котором жил И. А. Гейм, и университетская больница. Рад я, что библиотека Ивана Андреевича почти вся уцелела. Но мое имущество отчасти расхищено, отчасти сгорело, и я лишился своей библиотеки, которую собирали Вы с таким рачением. Вы как предчувствовали – все твердили мне, чтобы я не заводил большой библиотеки. ...>
Москва сама на себя не похожа. В целости остались Мясницкая, Покровка, часть Тверской, Смоленская, Донская улица и проч. ...> Кремль взорван в 5-ти местах. Спасибо еще казакам, что они, вбежавши в Москву, перехватили проклятых французов, остававшихся в Москве для зажигания протчих зданий, и поя на сем, допросили у них, где еще оставались мины, из коих вытащили пропасть пороху даже в бочках. Граф Ростопчин сам сказывал, что сгорело до 8 000 домов, а осталась в целости пятая доля. И из сих домов, в который ни войдешь – везде пусто. Не знаю, когда-то все это поправится. Храмы божии совершенно обнажены, без иконостасов, которые сожжены. А что делали проклятые в церквах – страх подумать.
Теперь, чаю, не скоро соберется Университет наш перебираться в Москву. Министр(40) велел было ехать в Симбирск, но думать надобно, что это еще переменится. А вероятнее, что Университет или переместится на время во Владимир, или соединится с Казанским университетом. ...> В Кремль никого теперь не пускают, опасаясь, чтобы кого не задавило. Полиция московская, спасибо, старается убирать мертвые трупы и палых лошадей, которые валялись повсюду. А погреба и колодцы иные завалить должно. При сем прилагаю афишку графа Ростопчина(41). ...>
И. П. Оденталь – А. Я. Булгакову.
I ноября. С.-П[етер]бург
С прошедшею почтою известил я уже Вас, любезнейший Александр Яковлевич, о постыдном бегстве Бонопартовом со всею его сволочью, которой не успели подбить ног в Московской губернии. В прилагаемой у сего "Сев [ерной] почте" найдете Вы официальные донесения о преследовании улизывающего по-французски неприятеля. Какие успехи имели войска наши за Ереминым, мне еще и по слухам неизвестно. Получены токмо из очищенной Вязьмы партикулярные письма, в коих между прочим уведомляют, что Главный Злодей с помощником своим Мюратом проехал чрез тот город 17-го октября в карете. Его от станции до станции провожали нарочитые конные отряды, расставленные на сей конец заблаговременно по всей дороге. Черт ведает, где он теперь! Многие хотят знать или, лучше сказать, по своему разщету угадать, будто бы он уже в Вильне. Тем огорчительнее для Русского таковая возможность, чем ожидания его мало-помалу исчезают без открытия причины спасению такого изверга, которому непременно надлежало быть повешенным, хоть издохшим, на Сухаревой башне. Сколько-то еще истребят погани в преследовании? Что-то сделают с нею гр. Витгенштейн и Чичагов? От их соединения или удачного нападения на обессиленного, расстроенного супостата зависит прекращение или продолжение войны, еще неслыханной. Toute fois le sieur Bonoparte sera une triste figure devant ceux, qui n'osoient le regarder qu'avec admiration(42). У адмираторов не станет и людей, хоть бы желали поддержать идола своего. ...> Немцам должно, кажется, теперь понакопить духу. Чего зевают! Чем скорее, тем для них спасительнее свергнуть несносное иго. Мы с гишпанцами самый благоприятный подали к тому случай.
Мы теперь, благодаря всевышнего! остаемся сдесь спокойными. До удаления же врага из Московской губернии сидели на горячих угольях. Какие-то вести получим от Вас, разоренных людей? Да пособит Вам господь бог найти средства к безбедному житию! Без слез нельзя о нещастных соотечественниках и подумать, а тем паче о тех, которые владеют нашим сердцем. ...>
Вообще работает теперь много перьев в изображении лютостей Бонопарта. Вырываются в том числе прекрасные произведения, и открываются доселе неизвестные таланты. Мне очень жаль, что мой карман не дозволяет высылать некоторых журналов или пьес милому человеку, а то бы все давно к нему было препровождено. Что одолею в моем расслаблении перепискою, то будет он получать. Вот акростих на Злодея. Он пародирован с французского, но не так-то удачно:
Не ты ль, Калигула, изрыгнут паки адом?
Аттилы лютые, не вы ль опять восстали?
Простерты ужасы с свирепостью, со гладом;
Объят весь свет войной, последни дни настали;
Лишен отрады всяк, лишь вздохи испущает.
Един толикие злодейства совершает!
О, смертные! и вы его не сокрушите?
На эшафот его! Злодея там казните! (43) ...>
А. Н. Самойлов – Н. Н. Раевскому.
[Первая половина ноября. Смела]
Письмо ваше, мой друг Николай Николаевич, с нарочно отправленным от вас курьером я, бывши на несколько дней в Киеве, получил и, прочитав его, хотел тотчас предать его огню при Софье Алексеевне(44), которая в то время была также в Киеве, но по ее желанию я отдал ей письмо ваше, а она обещала сжечь его. Будьте уверены, мой друг, что все то, что вы ко мне пишете, хранится у меня в непроницаемой тайне, и ежели я сообщаю кому ни есть что-либо из писем ваших, то, конечно, не иное что, как то, которое знать всякому можно. Я и Софье Алексеевне не отдал бы письма вашего, ежели бы не опасался чрез то ей досадить. Я, выехав из Киева 24-го числа прошедшего месяца, проехал в Белую Церковь, где видел письмо молодого графа Браницкого к графине, его матери, от 16-го числа прошедшего месяца отправленное, из которого письма я узнал, что в Калужской губернии, в городе Малом Ярославце было у нас с французами сражение. ...> Я уповаю, мой друг, что с первым курьером вы сообщите нам не токмо о вышеозначенном сражении, но дадите нам знать и о том, что после этого могло что-либо случиться. Я все опасаюсь того, что неприятель, следуя по Смоленской дороге, не свернул бы влево, то есть в Орловскую губернию, а чрез нее не пошел бы Малороесиею к Киеву, который может тогда быть в большой опасности. Все мне кажется, что это есть дело сбыточное. Первое, потому что Смоленская губерния, будучи разорена, прокормить армии его не может. Белоруссия также не в обильном состоянии, но Орловская и Малороссийская губернии могут много способствовать неприятелю в прокормлении армии его, и ежели бы Киев в руки его попался, то будет он тогда иметь передовую оборонительную для себя линию и способ к продовольств [ован] ию войск его. Статься может, что я во мнении моем ошибаюсь, для чего и предаю его благорассуждению вашему. От нас же любопытства заслуживающих никаких обстоятельств ожидать вам нечего, разве только о том сообщу вам, мой друг, что по сие время бог миловал губернию нашу от чумы, и ежели таковая милость его продлится хотя на две недели, то и нечего будет нам опасаться, ибо зима приближается, и утренники довольно холодные, и несколько раз выпадал снег, который и теперь довольно глубок. ...> Чтобы сколько ни есть поразвеселить вас, мой друг, то я сообщу вам о забавном происшествии, случившемся в вашем имении, о чем, уповаю я, что и Софья Алексеевна не оставила написать к вам, а именно, в краткую ее отлучку в Киев г. Куликовский сочетался законным браком с одною из горничных девушек Софьи Алексеевны. Обстоятельство сие, по мнению моему, не может, однако же, причинить какую-либо расстройку в хозяйственности вашей. Ибо сие самое обстоятельство обяжет его еще более быть к вам усердну, но жаль мне его самого, что он сделал такое дурачество, ибо он человек добрый и много вам предан. ...>
С. Никитин – Е. М. Ермоловой.
4 ноября. [Москва]
Ваше превосходительство! Милостивейшая государыня и благодетельница! Елисавета Михайловна!
Дом ваш в Москве цел, как вы уже о сем известны. ...> Естли бы вы пожаловали сюда и посмотрели на домы других, нельзя бы не почувствовать, сколько господь бог отличил Вас от прочих. Здесь уже роскоши нет, вся пропала. Она-то и пламенем всё попалила. Все вещи, к роскоши служащие, изчезли, все в рубищах без пристанища. Всякий для угла нечистого, для малого куска хлеба, для рубища, защищающего от холода, бог знает что зделает. Везде собак множество. А зимою, может статься, пожалуют и волки. Спешу при помощи божьей освятить в своей церкви один престол. Книги церковные все и образа, иконостасы целы. ...> Многие в городе ужасное потерпели, так что и пересказать не могут, а многие и жизни лишились. ...>
Протоиерей Стефан.
Н. П. Николев – Д. И. Хвостову.
5 ноября. [Тамбов]
Милостивый государь!
Разоренный, ограбленный, лишенный в подмосковной и в Москве более, нежели на сто тысяч имения от общего врага России и, наконец, кой-как дотащившийся с бедною семьею своею до Тамбова, почитая за милость божию и то, что в крестьянской избе покамест определил бог безопасную кровлю далее от супостата, берет перо, чтоб вам, почтенному и любезному моему приятелю, принесть благодарность за благодетельное ваше посредство к освобождению от нарядной службы моего старичка-доктора(45). Уверен, что вы поздное свидетельство признательности не отнесете к моей вине: письмо ваше имел я удовольствие получить в Москве в самое страшное и отчаянное время, а потому и не имел возможности исполнить моего долга... О, ежели бы свидетелем были бедственного состояния Москвы и ее окрестности, вы бы согласились со мною, что никакое перо, никакая кисть изобразить и описать той картины не могли бы, которая вживе представлялася в очах страждущего человечества!.. Я же, живучи на самом опасном пути, за семь верст от Вязёмы, видя всех соседей моих скрывшихся и не имея холодного сердца к страданию своих и соседних поселян, меня окружающих, до тех пор сидел на гнезде моем, помогал и утешал бедный народ, а притом принимая, кормя, поя, леча и похороняя ежедневно приходящих ко мне раненых и умирающих, паче после 26 августа, дня страшного сражения под Можайском, пока увидел уже все селения по можайской и боровской дорогам выжженным [и], а поселян с скотом и без скота, полунагих, мимо себя бегущих, не зная, где искать спасения... Ужасное позорище... Ах, мог ли кто помыслить, что после Петра Первого и Екатерины Второй случится то с Москвою, что случилося! Политики, может быть, скажут, что так было надобно для спасения вселенной... а я с потерей жизни моей готов спорить со всеми политиками мира, что так было не должно, что общее спасение не могло быть основано на погибели Москвы, [иначе] как от ошибки политики, и что необходимость сей жертвы не есть необходимость лучшего плана, но из худого лучшее... или крайность в беде, ошибкою навлеченной! Так, милостивый государь! Так, время уже то прошло, когда политики имели право зажимать рты усердной правде, работа их кончена и обнаружена. Общее страдание, общая напасть дают свое право каждому страждущему и бедствующему уму и сердцу вслух говорить о том, что видят, разумеют и чувствуют! Ибо страх умереть в темнице за слово правды не есть уже страх после тех страхов, коим подвергнула человечество неправда гордого невежества человеков!.. Посмотрим, опомнятся ли люди и уразумеют ли необходимость отыскивать и призывать на совет блага общего людей... а не... Но сего довольно. Сердце мое движется другим чувством и к другому, милейшему, предмету... Бога ради, дайте мне знать, где друг мой, князь Горчаков, цел ли он, жив ли он? Один из приезжих от вас в самый страшный час Москвы сказывал мне, что будто наш князь Дмитрий Петрович за ним вслед хотел быть в Москву, и это меня ужаснуло, не попался ли он в самый пыл? ...Молю вас, хоть двумя строчками дайте мне знать, и ежели он в Петербурге, скажите ему, чтоб он писал в Тамбов на имя мое, а между тем вспомните об моей трагедии "Софии" (46) и признайтесь, что я маленький пророк, и что ежели б дворяне наши духом Матвеева действовали и нынче, то бы Москва имела то же счастливое окончание, какое дано ей и в моей трагедии "Софии". ...>