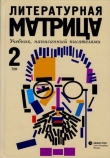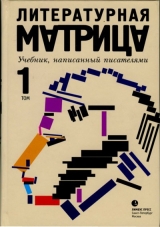
Текст книги "Литературная матрица. Учебник, написанный исателями. Том 1"
Автор книги: Людмила Петрушевская
Соавторы: Татьяна Москвина,Михаил Шишкин,Михаил Гиголашвили,Илья Бояшов,Дмитрий Горчев,Александр Секацкий,Андрей Битов,Елена Шварц,Андрей Левкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 24 страниц)
5 марта (21 февраля) 1895 года пришла смерть и забрала Лескова с собой.
А «Левша» остался.
Так чем же таквыделился упрямый и своенравный одиночка-орловец на фоне не менее, а может быть, и более знаменитых своих литературных собратьев? Если поближе ознакомиться с творениями бывшего цензора, очевидно: есть у него две удивительные особенности!
Первая —в том, что неторопливый бытосказитель совершенно просто решил задачу, которая в полной мере не поддалась ни религиозному до неистовости Гоголю, ни нервному поборнику вселенской правды Достоевскому, ни даже знаменитому яснополянскому отшельнику Толстому. Бедный, измучившийся Николай Васильевич сломал себе голову, пытаясь создать хоть один-единственный полноценнее положительный отечественный образ– и в конце концов потуги его полетели в огонь! У одухотворенного Достоевского даже Алеша Карамазов (как ни бился над достоверностью его образа сам писатель!) для проницательного читательского глаза не совсем убедителен ( картонен,как выразился кто-то из особо желчных критиков) по сравнению с напоенными настоящей жизненной страстью (и художественной же правдой!) своими отвратительными родственничками: папашей, Иваном, Дмитрием и, конечно же, Смердяко-вым. Убогий солдатик Платон Каратаев – скорее мечта всемирно известного графа по совершенному homo sapiens.
А Лесков взял и свободно,без всяких потуг и мучений, выписал «Очарованного странника» – персонажа совершенно естественного, для нас, смертных, исключительно обыкновенного (таким может оказаться и сосед за стеной дядя Вася, и случайный попутчик, неожиданно решивший раскрыть нам свою душу) и тем не менее действительно ведь почти святою,несмотря на всю его запутанную и порой ужасающую жизнь.
Думаю, во всей нашей литературе нет более убедительного образа праведника,которому доверяешь без всяких скидок и экивоков! (И, пожалуй, только еще один писатель, кроме Лескова, замахнулся на подобную высоту – это Андрей Платонов, в окаянные годы болыдевистского торжества создавший своего «Сокровенного человека»!)
Втораяже особенность – в том, что неуживчивому Николаю Семеновичу (опять-таки, пожалуй, единственному) удалось создать полноценный(вот уж ни убавить, ни прибавить!) и со всех сторон узнаваемый образ русского человека —с его и отвратительными, и курьезными, и достойными всяческого уважения особенностями. Не многочисленные повести, не романы, не духовные сказы весьма плодовитого автора – а именно «Левша» оказался воротами в тот рай, который Лесков, без сомнения, заслужил.
Дурацкая история о том, как наш умелец подковал иностранную стальную блоху (на Руси дурацкостввсегда любят!), поведанная нарочито изломанно-исковерканным («народным») языком, на деле оборачивается историей Российского отечества со всем хитросплетением и доныне не разрешенных в нем проблем. Самая узнаваемая – вечный идиотизм отношений народа и власти. Проклятому пьянству отводится не последнее место («…левше после представления государю, по платовскому приказанию, от казны винная порция вволю полагалась, то он, не евши, этим одним себя поддерживал…»)… Как и пресмыканию всех и вся перед вышестоящими, перед начальством («Платов боялся к государю на глаза показаться… (…) И вот он хоть никакого в свете неприятеля не пугался, а тут струсил… (…) И велел свистовым, чтобы левше еще крепче локти назад закрутить, а сам поднимается по ступеням, запыхался и читает молитву: „Благого Царя Благая Мати, пречистая и чистая“, и дальше, как надобно. А царедворцы, которые на ступенях стоят, все от него отворачиваются, думают: попался Платов и сейчас его из дворца вон погонят…»). И склонности к «шапкозакидательству» («мои донцы-молодцы без всего этого (без технических достижений. – И. Б.)воевали и дванадесять язык прогнали») да бахвальству («…у нас есть и боготворные иконы и гроботочивые главы и мощи, а у вас ничего, и даже, кроме одного воскресенья, никаких экстренных праздников нет…»). И, при столь явных природных талантах народа, просто патологическому нежеланию серьезно учиться, чтобы догнать, например, англичан («Об этом, – говорит, – спору нет, что мы в науках не зашлись, но только своему отечеству верно преданные»). И, наконец, просто вошедшей в национальный характер преступной беспечности (тот же левша умоляет на смертном одре:«Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни Бог войны, они стрелять не годятся». А в ответ обычное:«…не в свое дело не мешайся: в России на это генералы есть»). Генералы-то, конечно, у нас всегда были, а ведь «чисти мы ружья не кирпичом» перед Великой Отечественной – может быть, не такой кровью вырвали бы победу!
Что тут скажешь! Все наше, узнаваемое,родное до слез, слишком явно слепилось в безымянном герое (это в современных словарях самородок лесковский оказался с большой буквы прописан: «Левша, – и, те.-ой, м. (лит. персонаж; умелец)»), —а автор с ним по-простецки: «косой левша, на щеке пятно родимое, а на висках волосья при ученье выдраны» – вот и все приметы, ни имени, ни отчества! Мало ли на Руси подобных чудаков? Малюсенький сказ по охвату отечественного своеобразия тянет на многотомную сагу о неприкаянной российской истории и, повторимся, настолько современен, что хоть сейчас раздирай на цитаты да иллюстрируй ими любую злободневную тему!
Полемика с преуспевающим Западом? Достаточно пробежать глазами по тем страницам сказа, где описано путешествие в Англию и государя Александра I с верным служакой Платовым («Пожалуйста… не порть мне политики»), и того же ободранного туляка. (Правда, многие современные наши левши от британского гражданства сегодня вряд ли откажутся.) Отношение к народу слуг государевых? Пожалуйста: если сейчас всякие Пла товы нас за чубы не хватают, то ведь еще лет сорок-пятьдесят назад не только волосы драли… Хамство, грубость, наплевательство? Лесковское сказание и в этом про нас. Родная милиция? «Тогда его (левшу. – 14. Б.)сейчас обыскали, пестрое платье (подарок англичан. – 14. Б.)с него сняли и часы с трепетиром (опять-таки подарок. – 14. Б),и деньги обрали…» Отечественные народные больницы? Писано хоть сегодня: «…привезли в одну больницу – не принимают без тугамента (документа. – 14. Б.),привезли в другую – и там не принимают, и так в третью, и в четвертую – до самого утра его по всем отдаленным кривопуткам таскали и все пересаживали, так что он весь избился. Тогда один подлекарь сказал городовому везти его в простонародную Обухвинскую больницу, где неведомого сословия всех умирать принимают…» Отношение к иностранцам и собственным гражданам? «…А тут расклали их на разные повозки и повезли англичанина в посланнический дом на Аглицкую набережную, а левшу – в квартал (полицейский участок. – 14. Б).Отсюда судьба их начала сильно разниться. Англичанина как привезли в посольский дом, сейчас сразу позвали к нему лекаря и аптекаря. Лекарь велел его при себе в теплую ванну всадить, а аптекарь сейчас же скатал гуттаперчевую пилюлю и сам в рот ему всунул… (…) А левшу свалили в квартале на пол…» Примерами можно сыпать до бесконечности – и ведь на каждый подковырный исторический вопросец в коротеньком повествовании сразу же отыщется безыскусный ответ!
И, конечно же, та самая тварь, вокруг которой и завертелось действо. Подковать-то, конечно, подковали, умыть Запад – умыли, только вот скакать и танцевать всякие там дансе и «верояции» она после уже не смогла. Восхищенные виртуозностью гостя англичане, не желая его обидеть, тем не менее открыли истину: «…лучше бы, если б вы из арифметики по крайности хоть четыре правила сложения знали… (…) Тогда бы вы могли сообразить, что в каждой машине расчет силы есть, а то хоша вы очень в руках искусны, а не сообразили, что такая малая машинка, как в нимфозории (блохе. – И. Б),на самую аккуратную точность рассчитана и ее подковок несть не может».
Но, при всем при этом, все-таки теплится в лесковском сказе та самая «человечкина душа», которая согревает даже самого взыскательного критика не особо веселого нашего прошлого и не менее узнаваемой действительности. Этой-то «человечкиной душой» безымянный тульский умелец по-настоящему и хорош.
И, как и полагается дураку, – бессмертен.
Алексей Евдокимов
ПРИКЛЮЧЕНИЕ СО ЩЕДРИНЫМ
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826–1889)
Помню, преподаватель на нашем филфаке, дойдя до Салтыкова-Щедрина, пренебрежительно заметил, что из школьного пантеона классиков этот хуже всех выдержал проверку временем. Мол, сатира на самодержавие, за которую Щедрина привечали в советские времена, особой внеидеологической ценности не имеет; разве что на отдельных исторических виражах заиграет вдруг новыми пародийными параллелями (обнаружатся, скажем, в советских генсеках черты глуповских градоначальников – и появится перестроечная киноагитка Сергея Овчарова «Оно»), но это, мол, еще не повод оставлять ее в золотом фонде отечественной словесности… Дело было в первой половине девяностых, топтаться на могилах прежних иерархий считалось хорошим тоном, и автора сказки о прокормленных мужиком генералах, имевшего несчастье нравиться Ленину, а следом и советскому литературоведению, теперь вместе со всеми ними определили на списание.
Величайший теоретик марксизма, если верить авторам старых предисловий, завещал «вспоминать, цитировать и растолковывать» Щедрина. Цитировать он его и сам любил, костеря политических оппонентов иудушкамии премудрыми пескарями,но беда в том, что растолковать-то щедринские книги Ильичу так никто и не удосужился – иначе б он не стал революцию затевать. Поразительной все-таки слепотой надо было обладать, чтобы не увидеть в этих книгах главного их содержания, диаметрально противоположного идеям радикального преобразования и насильственного переустройства, – но Салтыкову-Щедрину с читателями и интерпретаторами вообще повезло меньше, чем кому-либо из классиков.
Главная нелепость как раз в том, что ему намертво прилепили ярлык сатирика. Хуже того – обличителя-моралиста, и даже Вайль с Генисом, полемизировавшие с советской школьной традицией, написали про «велеречивого обозревателя нравов, смешивающего проповедь с сатирой» [28]28
Речь идет о написанной в 1989 году книге Петра Вайля и Александра Гениса «Родная речь. Уроки изящной словесности» (первое издание – М., 1991), задуманной как остроумный и увлекательный «антиучебник» по русской классической литературе, входящей в школьную программу. – Прим. ред.
[Закрыть]. Амплуа вполне скуловоротное, пыльно-резонерское – а вспомнив мрачный портрет кисти Крамского да стихи Евтушенко: «В постели Щедрин. / Он измученно желт, / и мысль неотвязная / давит и жжет…» [29]29
Строки из поэмы Е. Евтушенко «Казанский университет». – Прим. ред.
[Закрыть](мысль, вестимо, о гражданском воспитании читателя) – получим что-то и вовсе жутенькое, эдакого кощея отечественной словесности, уместного в его собственной глуповской кунсткамере, но непредставимого в актуальном контексте.
И это при том, что зачастую даже в публицистике своей, не говоря про два главных романа, Салтыков-Щедрин – едва ли не самый современный, актуальный и злободневный из великих русских прозаиков позапрошлого века!
Да, на сиюминутные мелочи он, журналист, трудяга, разменивался щедро. Так и называл себя – летописцем минуты; вообще на удивление скромно оценивал свое место в литературе. Несмотря на то что оставил двадцать томов сочинений чуть ли не во всех художественных и публицистических жанрах, включая физиологический очерк, путевые заметки, автобиографию, знаменитые сказки. И в первую голову – два великих маленьких эпоса, фатально для себя опередивших время: фантасмагорическую сагу «История одного города» и страшную семейную хронику «Господа Головлевы».
И тому и другому проще подобрать аналоги по жанру и содержанию в литературе не девятнадцатого, а двадцатого века, иногда даже – второй его половины. А главное: именно сейчас, наглядно убедившись в неизменности основных черт своей национальной психологии и исторической судьбы, мы можем по-настоящему оценить проницательность и трезвость щедринского взгляда. Он ведь исчерпывающе и бескомпромиссно высказался об этой неизменности тогда, когда ни она сама, ни результаты ее еще не казались столь очевидными.
Пожалуй, именно трезвость, не подверженность гипнозу и выделяют его на фоне современников и коллег, включая великих, – отсутствие иллюзий, как революционных, так и почвеннических, чуждость утопическим и патриархальным обольщениям. То, как ясно он все понимал, как точно предсказал, впрямь изумляет – но еще труднее взять в толк, как он умудрялся при такой беспощадности ума, при такой желчной насмешливости быть идеалистом, патриотом и трудоголиком. Ведь помимо написания своих двадцати томов, Салтыков редактировал «Современник» и «Отечественные записки», переводил с французского, двадцать два года провел на административной работе, полтора десятка лет пытался хозяйствовать «на основе вольного труда» в специально приобретенном подмосковном имении…
В позиции его и в судьбе – в том уроке, что нельзя не увидеть в ней, – еще одна причина актуальности этого загадочного писателя. Уроке невеселом, как невесел и щедринский юмор – на редкость черный, если приглядеться. Ведь с хеппи-эндами у него никак, даже в сказках. Ведь и финал его жизни оказался озвучен страшненьким троекратным криком, вырвавшимся при взгляде на главное дело этой жизни – которое, как почудилось под конец, было «не нужно! не нужно! не нужно!».
Михаил Евграфович Салтыков, родившийся 27 (15) января 1826 года, был шестым из девяти детей в семье графа, столбового дворянина, и купеческой дочери. Первые десять лет провел в богатой родовой вотчине в Пошехонье, медвежьем углу на границе Тверской и Ярославской губерний; детские впечатления составят последнюю его книгу «Пошехонская старина», а члены «дикой и нравной семьи, отношения между членами которой (по словам друга писателя известного врача Н. Белоголового) отличались какой-то зверскою жестокостью», отчасти послужат прототипами господ Голов-левых. Отучился два года в Московском дворянском институте и шесть – в Царскосельском лицее, где к тому времени уже мало оставалось от «прекрасных лет первоначальных нравов» (кроме разве что традиции назначать в каждом классе пушкинского «преемника», каковым сделался и Салтыков, начинавший с подражательных стихов). Окончив лицей в 1844-м, поступил внештатным канцеляристом в Военное министерство – и следующие почти четверть века (с перерывом в 1862–1864 годы на редактирование некрасовского «Современника») провел на казенной службе.
Вообще говоря, хрестоматийно-обобщенный русский классик на ней представим плохо. В крайнем случае – на военной, как Михаил Юрьевич или Лев Николаевич: но это как бы служба скорее отечеству, чем царю. Чеканная формула «Служить бы рад – прислуживаться тошно» стала заветом всем приличным людям страны на столетия вперед; и автор ее все-таки ближе к «карбонарию» Чацкому, чем к карьеристу Молчалину, даром что был успешным дипломатом и погиб молодым не на дуэли, а на службе. Но Грибоедов тут и впрямь в меньшинстве – Пушкин, Гоголь, Тургенев чиновничью лямку бросили быстро и не без отвращения, Некрасов вообще ее избежал, Лермонтов накануне гибели надеялся на отставку, Толстой по окончании Крымской войны немедля уволился из рядов.
Отечественная традиция, осмысленная и артикулированная нашей классикой – та, согласно которой личная честь несовместима с лояльностью государству, – пребольно аукнулась в истории, но выводов никого сделать не заставила. Живехонька она и поныне, благо государство российское во всех своих вариациях и инкарнациях – остается, вполне по советской школьной формулировке, «аппаратом насилия в обществе, где есть враждебные классы».
Но тем больше интригуют случаи того же Грибоедова, его коллеги-дипломата камергера Тютчева, цензора Гончарова – и в особенности его превосходительства действительного статского советника Салтыкова: «непримиримый противник самодержавия» закончил карьеру чиновником 4-го класса – то есть в чине, который соответствует званию генерал-майора.
Биография его может служить пособием по устройству российской бюрократии николаевских и александровских времен. Сосланный в 1848-м за первые же напечатанные «Отечественными записками» повести в образцово захолустную Вятку, он начинает там с переписывания бумаг. Через полгода становится чиновником особых поручений при губернаторе. Не будем судить об этой должности по романам Бориса Акунина: Салтыков занимается не маньяками и заговорщиками, а производит дознания о драках, мелких взятках и растратах или, например, полицейских злоупотреблениях при заготовке арестантской одежды. С 1850-го на должности советника при Вятском губернском правлении он лично ревизует уездные учреждения, участвует в организации одной из крупнейших в тогдашней России сельскохозяйственных выставок, ведет следствия по делам раскольников – успевая за шесть лет исколесить по служебной надобности половину центральной России, поволжские и уральские губернии. Вернувшись в 1856-м в столицу, работает в министерстве внутренних дел, через два года отправляется вице-губернатором в Рязань, потом – в Тверь, занимается подготовкой крестьянской реформы 1861-го. С 1864-го он – председатель Пензенской казенной палаты, с 1866-го – управляющий Тульской, а с 1867-го – Рязанской казенной палатой (подведомственным Минфину административно-налогово-контрольным органом) – то есть главный губернский хозяйственник.
Россию – от провинциальной канцелярии до губернаторской резиденции, от голодной деревни до петербургского министерства, со всем ее грязным исподом, дураками, дорогами, взятками, «помпадурами», сектами, бунтами, экзекуциями – Салтыков знал, пожалуй, как никто из коллег-литераторов. И оттого его патриотические формулировки воспринимаются, хочешь не хочешь, иначе, чем аналогичные признания, сделанные из чудного римского далека или во дни тягостных парижских раздумий. Оно, конечно, поди отскреби теперь с его фразы «я люблю Россию до боли сердечной» напластования хрестоматийного глянца – но для человека, чуждого иллюзий и официоза, это чувство и впрямь не могло не быть болезненным. Тем паче что патриотизм казенный в те времена был не менее агрессивен и подл, чем во все остальные. «Среди этой нравственной неурядицы, где позабыто было всякое чувство стыда и боязни, – вспоминал писатель в 1880-е настроения периода Крымской войны, – где грабитель во всеуслышание именовал себя патриотом, человеку, сколько-нибудь брезгливому, ничего другого не оставалось, как держаться в стороне…» Знакомо, правда?
Но и здесь, в ничуть с тех пор не утратившей актуальности ситуации выбора между «своим», безнадежно скомпрометированным идеологами и холуями, и удобным дистанцированием от всего этого, он опять-таки не позволял себе пойти легчайшим путем, отказаться от ответственности. Патриотом Салтыков-Щедрин оставался убежденным и безоговорочным, чему не мешало ни заочное франкофильство времен французской революции 1848-го, ни непосредственные впечатления от Европы во время поездок туда в 1870—1880-х годах, отразившиеся в очерках «За рубежом» – поражающих безжалостной объективностью в сравнении родины с заграницей и жалостливо-субъективным предпочтением первой вопреки всему. Да и само название книги обманчиво – формально выдержанная в жанре путевого дневника, процентов на семьдесят-восемьдесят она не о зарубежье, а о России, которая автору заведомо интереснее и дороже. И содержащийся там знаменитый диалог немецкого Мальчика в штанах и русского Мальчика без штанов замечателен тем, что хотя одетый, чистый и вежливый немец кругом прав, хотя наш с ним не столько спорит, сколько жизнерадостно хамит, – но кто из них симпатичнее автору при всем его лютом сарказме, сомнений не возникает ни на секунду. Правда, с резюме – «немец за грош черту душу продал, а русский задаром отдал» – все куда менее однозначно…
Западничеством Салтыков-Щедрин не страдал совершенно, но славянофильством – еще меньше; двадцать лет провел на госслужбе – и всю жизнь критиковал официальную политику; в сатире его цензура видела крамолу, а радикалы – «невинный юмор»… Понять его можно, лишь полностью избавившись от примитивных дихотомий [30]30
Дихотомия – здесь: принцип деления на две взаимоисключающие части. – Прим. ред.
[Закрыть]нынешнего суженного, деградировавшего интеллектуального обихода. Надо решительно очищать от них сознание – чтобы не удивляться, как любовь к России способна сочетаться с непредвзятым взглядом на нее, с самой ядовитой насмешкой, а добросовестная служба – с независимостью убеждений, высказываний и поведения.
* * *
При этом никак не стоит преувеличивать ни «вегетарианство» тогдашней системы, ни гармонию между нею и Салтыковым. Описать в повести «Запутанное дело» сон героя, увидевшего общество в образе живой пирамиды с собой самим у основания, и опубликовать повесть в год французской революции (1848) – этого напинающему прозаику хватило, чтобы загреметь в Вятку на восемь лет. Согласно немудрящей формулировке – за «вредный образ мыслей». На все прошения о возвращении ему отвечали пренебрежительно-категоричным: «Рано», – а в столицу позволили переехать только после смерти Николая I. Впрочем, ссылка, может статься, спасла его от каторги. В Петербурге Салтыков посещал кружок М. В. Петрашевского – безобиднейшее собрание ученых, литераторов, офицеров, читавших Фейербаха и Фурье и не одобрявших крепостное право. В апреле 1849-го эту компанию тихих утопистов раздавят с демонстративной брутальной беспощадностью, участников кружка законопатят в Петропавловскую крепость; входившего в него Достоевского за чтение письма Белинского к Гоголю и самиздат (домашнюю литографию) приговорят к смерти и заведут на эшафот. Отечественные вертикали традиционно любят показательно мочить идеалистов с их ненасильственными методами, взращивая на свою голову не останавливающихся ни перед чем отморозков, – и, опять-таки, упорно отказываются учиться у истории. Салтыков к началу арестов уже полтора года торчит в Вятке – но и его тащат на допрос, вынуждая оправдываться в том, что сознательного намерения распространять «вред» он не имел.
Из ссылки он привез наброски «Губернских очерков», что были набело написаны за несколько месяцев 1856-го в нумерах на Большой Конюшенной и опубликованы в «Русском вестнике» под псевдонимом Н. Щедрин (взятым у допрошенного когда-то Салтыковым в Казани раскольничьего «лже-попа»). Социально-сатирические рассказы разом делают «надворному советнику Щедрину» литературное имя. В «Современнике» про них пишут аж дважды – Чернышевский и Добролюбов, причем оба восторженно; это несмотря на то что «Очерки» и их автора в частной переписке поначалу стерли в порошок и сотрудничавший в журнале Тургенев («Это грубое глумление, этот топорный юмор, этот вонючий канцелярской кислятиной язык…»), и возглавлявший его Некрасов («Гений эпохи Щедрин – туповатый, грубый и страшно зазнавшийся господин»). Но объявленный таки «гением эпохи», «чем-то, что повыше Гоголя», чуть ли не главой школы (единственным приличным выходцем из которой остался Мельников-Печерский), он получает и рекламу, и эпигонов, и издевки (Достоевский припечатал такую литературу эпитетом «абличительная», предвосхитив «падонковский» новояз). Публикует пьесы, очерки, «сцены», повести – однако о смене поприща не помышляет.
Советские комментаторы напирали на мотивы сугубо личные (женитьба на дочери вятского вице-губернатора обязывала к материальной стабильности, а суровая маменька-помещица «постылому» сыну почти не помогала) – но не стоит недооценивать и общественного энтузиазма тех лет. О которых не зря же написал Лев Толстой: «Кто не жил в пятьдесят шестом году в России, тот не знает, что такое жизнь». Начиналась александровская «перестройка» (между прочим, непереводимое на другие языки слово «гласность» появилось именно тогда – за сто тридцать лет до Горбачева). Впервые в русской истории реформы готовились открыто, по всей империи создавались губернские комитеты, на заседаниях которых «улучшение быта помещичьих крестьян» (псевдоним отмены крепостного права) публично обсуждалось; доходило даже до попыток организовать убийство оппонента под видом дуэли. Возвращались не только декабристы из Сибири, но и их идеи – в общественный обиход: Иван Пущин, к примеру, в 1858-м послал председателю тверского губернского комитета либералу и будущему близкому другу Салтыкова Алексею Унков-скому для использования в работе проект конституции Никиты Муравьева, главы Северного общества.
Смена первого лица для российских демократов всегда была поводом пристально глядеть наверх в ожидании «сигналов» – и во второй половине 1850-х годов «сигналов» хватало. То был краткий период относительной симфонии государства и интеллигенции, обычный у нас для начального этапа реформ, когда власть позволяет себе либеральные жесты, востребует услуги прогрессивной бюрократии, вроде братьев Милютиных и С. Ланского – «изящных демократических чиновников, молодежи из дворянской знати, мечтавшей благоустроить Россию посредством административных новшеств в европейском духе» (как сформулировал друг писателя Павел Анненков). Вице-губернатор Салтыков (прозванный за свой демократический энтузиазм «вице-Робеспьером») погружается в подготовку реформы, разгоняет весь состав рязанского губернского правления, погрязшего во взятках, возбуждает – по «важным и маловажным поводам», как выразился тверской жандармский полковник – дела о жестоком обращении с крестьянами, кипятясь: «Я не дам в обиду мужика! Будет с него, господа… Очень, слишком даже будет!» В прессе выходят его статьи по крестьянскому вопросу, «Сатиры в прозе» (где уже появляется город Глупов), «Невинные рассказы».
Дальнейшее соответствует многократно воспроизводимой отечественной исторической практике. В решительный момент власть пугается собственного либерализма и сдает назад. Демократов отодвигают (распускают Редакционные комиссии Ростовцева и Милютина). Реформы выходят половинчатыми и не удовлетворяют никого. Чернь бунтует, власть отвечает расстрелами. Через два месяца после оглашения Манифеста об отмене крепостного права Салтыков пишет Е. И. Якушкину: «Крестьянское дело в Тверской губернии идет довольно плохо… уже сделано два распоряжения о вызове войск для экзекуции». В «Истории одного города» все вспышки народной активности, вызванные голодом ли, пожаром ли, заканчиваются одинаково – прибытием карательной команды.
Демократам из числа слишком последовательных или не слишком смекалистых быстро указали их место – когда тверские дворяне во главе с Унковским подали царю «всеподданнейший адрес» с предложением предоставить землю крестьянам в собственность и созвать всенародный бессословный совещательный орган, их на полгода упекли в крепость. Карась-идеалист из одноименной щедринской сказки кончает в пасти у щуки. Писатель и сам в немалой степени был такой рыбой – сказка, написанная им за пять лет до смерти, думается, более самокритична, чем принято считать. Там ведь автор примерно поровну поделен между небитым энтузиастом-карасем («А еще ожидаю, что справедливость восторжествует. Сильные не будут теснить слабых, богатые – бедных. Что объявится такое общее дело, в котором все рыбы свой интерес будут иметь и каждая свою долю делать будет») и усталым скептиком-ершом, знающим все наперед («О чем же ты разговариваешь, если даже такой простой истины не знаешь, что каждому карасю впереди уготована уха?»).
За судорожным всплеском реформаторства в России традиционно следует затяжной застой – среди провинциальной «номенклатуры» в зрелые, зарастающие ряской очередной «стабильности» 1860-е либерал-правдолюб с принципами и без административного инстинкта смотрелся все более нелепо. А то и подозрительно. А то и подсудно. Приятель Салтыкова по лицею тогдашний министр финансов М. Рейтерн определяет его по своей линии заведовать казенной палатой то в Пензу, то в Тулу, то в Рязань – всюду с одинаковым результатом. «Не успеет Салтыков где-нибудь прижиться, – трунил современник, – глядь, уже и поссорился с губернатором. Приезжает в Петербург к Рейтерну: „Давай другую палату! Не могу я с этим мерзавцем служить“. Получает новую палату – и опять та же история. Так и переезжает с места на место – до полной отставки». Рязанский губернатор настрочил на нелояльного управляющего палатой донос, на основании которого составили заключение о том, что Салтыков «всегда держал себя в оппозиции к представителям власти в губернии, не только порицая их, но даже противодействуя их мероприятиям».
Спустя четырнадцать лет после отставки в разговоре с историком Семевским он отрежет: «О времени моей службы я стараюсь забыть. Я – писатель, в этом мое призвание».
Самое известное и самое бредовое определение щедринского творчества принадлежит Д И. Писареву: «Цветы невинного юмора». Радикалам из «Русского слова», наскакивавшим в 1860-х на «Современник» с тем большей яростью, что Некрасов и К° были вроде идейно близкими, «левыми», Щедрин казался чуть ли не предателем святого дела, которого необходимо немедля разоблачить. Что Писарев и делал – чувствуя, подобно всем идейным, непримиримым и упертым, за собой априорную правоту, купленную статусом жертвы: антищедринская статья «Цветы невинного юмора» о «Сатирах в прозе» и «Невинных рассказах» написана в петропавловской одиночке, где Дмитрий Иванович оттрубил больше четырех лет, не оставляя журналистской деятельности.
Как водится у нас в отечестве, власть, отстраняя умеренных, провоцировала крайних, при первой же возможности переходя к репрессиям, – награждая тем самым радикалов непогрешимостью в их собственном и общественном мнении. С точки зрения угрюмой этой непогрешимости слишком неоднозначный, слишком чуждый любой оголтелости Щедрин виделся лояльным беззубым юмористом, «смеющимся ради пищеварения», «убаюкивающим и располагающим ко сну» (Писарев). Салтыков же, беззубым вовсе не будучи, отвечал совершенно справедливыми обвинениями в репетиловщине, прямолинейности и сектантстве. Далекий от обоих Достоевский пренебрежительно назвал происходящее «расколом в нигилистах».
С «Современником» Михаил Евграфович сблизился после того, как, в первый раз уйдя с госслужбы, хотел было делать со своими друзьями – тверскими либералами – журнал «Русская правда», но получил запрет министерства народного просвещения. Некрасов первоначальное свое мнение о «туповатом господине» быстро изменил и печатал его в своем журнале уже с конца 1850-х. В 1862-м Салтыков входит в его редакцию и за один только следующий год публикует тут (не считая юмористических приложений к журналу) больше сорока печатных листов в разных жанрах.
Среди прочего он позволил себе недостаточно восторженно отозваться о романе Чернышевского «Что делать?», вышедшем в том же «Современнике» и мигом канонизированном «революционно-демократической» публикой, несмотря на сугубую литературную топорность текста. На последнюю-то чуждый социальным гипнозам Щедрин и позволил себе намекнуть во вполне, в общем, хвалебной рецензии. Но и это было многими сочтено кощунством, включая некоторых коллег по журналу, в свою очередь накинувшихся на Щедрина. Если учесть, что братья Достоевские параллельно наезжали на Салтыкова в почвеннических «Времени» и «Эпохе» как на слишком левого, нетрудно понять, почему он уже на следующий год бросил журналистику.