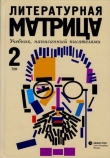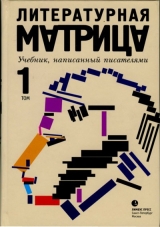
Текст книги "Литературная матрица. Учебник, написанный исателями. Том 1"
Автор книги: Людмила Петрушевская
Соавторы: Татьяна Москвина,Михаил Шишкин,Михаил Гиголашвили,Илья Бояшов,Дмитрий Горчев,Александр Секацкий,Андрей Битов,Елена Шварц,Андрей Левкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 24 страниц)
Тем не менее в глазах широкой общественности все эти критические соображения совершенно ничего не стоили по сравнению с тем, что роман был написан человеком, сидевшим в тюрьме по чрезвычайно сомнительному обвинению. Чувство очевидно нарушенной справедливости вполне естественно заглушало в читательской массе соображения вкуса и литературного здравого смысла. Арест Чернышевского стал наглядным свидетельством срочной необходимости общественных перемен, а его роман – политической программой этих перемен, программой совершенно фантастической и оттого еще более привлекательной: своего рода «сказочкой», которую так советовал ему написать его отец и которые безостановочно сочинял на другом конце Европы ровесник Чернышевского Жюль Берн.
В вину Чернышевскому вменялось составление прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», призывавшей к крестьянскому бунту. Тон жалобного, наставительного занудства, в котором выдержана прокламация, бесконечные повторения и старательная стилизация под просторечие позволяют предполагать, что ее автором действительно мог быть автор модного романа. Тем не менее за те два года, что Чернышевский провел в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, не только следствие не сумело найти или сфабриковать хоть сколько-нибудь внятных доказательств его вины, но даже и более или менее объяснимая практическая необходимость содержания Чернышевского под стражей перестала существовать: количество крестьянских волнений в пореформенной Руси за два года сократилось более чем в двенадцать раз и опустилось ниже уровня 1848 года.
На всем протяжении следствия Чернышевский держался с достоинством абсолютно невинного человека. После знакомства с материалами дела остается такое впечатление, будто Чернышевского арестовали на основании распространившейся по городу сплетни, согласно которой во время петербургских пожаров 1861 года он стоял у окна своей квартиры, озаренный отблесками пламени, и демонически хохотал.
Иными словами, вряд ли будет преувеличением сказать, что его арест явился результатом редкого совпадения интересов трех смежных инстанций. Владельцу «Современника» требовался скандальный критик, своими разнообразными, но всегда самыми злободневными материалами привлекавший к журналу массы читателей. («Всего более в ходу „Современник“; Добролюбов и Чернышевский производят фурор», – сообщал Салтыков-Щедрин из Рязани критику Дружинину. В 1861 году «Современник» выходил рекордным тиражом в 7125 экземпляров.) Критик получал 3000 руб. серебром в год (главные герои его романа «получили уже рублей 80 в месяц; на эти деньги нельзя жить иначе, как очень небогато, но все-таки испытать им нужды не досталось») и был самым настоящим властителем отечественных дум. Тяжеловесной российской власти для убедительного доказательства собственной эффективности нужна была как можно более наглядно сфокусированная персонификация социального зла, «враг Российской империи номер один», как неизменно именовали Чернышевского в служебной переписке.
Результатом этого заказного варварского процесса был приговор – четырнадцать лет каторги, смягченный высочайшей милостью до семи – с последующей ссылкой. Ничего необычного в этом карательном решении власти нет. Наоборот, оно может показаться неожиданно мягким, если учесть, что не так давно отставной инженер-поручик Ф. М. Достоевский был приговорен к расстрелу за чтение сомнительных сочинений и недонесение о них. Еще одним результатом стала долгожданная судебная реформа, случившаяся вскоре после вынесения Чернышевскому приговора: его процесс с пугающей наглядностью продемонстрировал всю варварскую преступность и услужливое убожество российской правовой системы.
В момент гражданской казни, которой ознаменовалось начало исполнения приговора, жизнь настоящего Чернышевского закончилась, и начался его культ. Вскоре после отправки писателя на каторгу во второй раз была издана его диссертация, вызвавшая на этот раз бурю откликов. Роман стал первым в стране бестселлером, был переведен на многие языки, его американское издание в 1883 году разошлось за четыре дня. (Всего роман издавался до начала нового тысячелетия сто сорок два раза на тринадцати языках – то есть, в среднем, чаще, чем раз в год.) Некогда непримиримый противник Чернышевского Толстой спустя почти полвека так отозвался о романе: «Эта книга – проявление силы и величия души, смелый опыт, в котором гармонически соединилось чувство и истинное искусство. Не могу выразить вам того восхищения, которое эта книга вызывает во мне».
Она и вправду стала источником очень основательно аргументированного житейского успеха для всех тех, кто знал жизнь прежде всего по печатным изданиям. Таких становилось с каждым днем все больше. Кроме них роман вызвал к жизни целое поколение террористов-самоубийц, для которых так же, как для автора романа, по-настоящему прекрасная жизнь находилась по ту сторону всякой повседневности. Те же, кто действительно хотел жизни, и жизни если не прекрасной, то, по крайней мере, неплохой, обращались к трудам Чернышевского в последнюю очередь.
В дальнейшем популярность автора – ни в коем случае не живого, но фантастического, созданного массовым воображением, – неуклонно росла. Еще при жизни писателя выдуманный Чернышевский стал куда более реальным и значительным, чем Чернышевский настоящий. Более того – постоянно увеличиваясь в размерах (как тут не вспомнить безудержно экспансивную «кровать из какого-нибудь неслыханно драгоценного дерева»), колоссальный этот призрак вытеснил в конце концов живого человека из той самой жизни, которая, по его же собственному определению, была прекраснее всяких выдумок. Настоящий писатель сидел в ужасающем остроге, сочинял пьески для заключенных, которые над этими пьесками издевались, сочинил роман «Пролог», на который никто не обратил внимания. Только однажды к нему в ссылку наведалась его жена. «Признавай ее свободу так же открыто и формально, и без всяких оговорок, как признаешь свободу твоих друзей чувствовать или не чувствовать дружбу к тебе, – уговаривал читателей Чернышевский в „Что делать?“, – и тогда, через десять лет, через двадцать лет после свадьбы, ты будешь ей так же мил, как был женихом. Так живут мужья и жены из нынешних людей. Очень завидно». Ольга Сократовна побыла со своим мужем четыре дня, и они расстались на семнадцать лет.
Чернышевский переводил, критиковал Флобера и Маркса, писал поэмы и умер от инсульта в своем родном Саратове. Все это не имело никакого значения: ни он, ни его родственники даже не получили при его жизни ни одной копейки за многочисленные публикации его сочинений – вечно вороватые российские издатели вовсю пользовались его вынужденным отсутствием на литературной сцене в то время, как Чернышевский зарабатывал гроши переводами многотомных немецких трудов. Да и то сказать – нужны ли деньги не отцу двоих детей и мужу стареющей, но все еще легкомысленной и ветреной растратчицы, а «гениальному провидцу» и «мученику за веру в светлое будущее человечества»? Ведь «талантливейшим борцом за свободу», «беззаветно преданным идеалам», «отдавшим свою жизнь за всенародное благо», «немыслимо образованным», «с поразительной и дерзновенной ловкостью», «непревзойденным стратегом» был уже не он, а очередной литературный фантом, своего рода массовая галлюцинация, имевшая к настоящему человеку довольно касательное отношение.
Несмотря на эту очередную победу фантасмагории над реальностью, Чернышевский – хотя бы на короткое время – сумел стать на редкость успешным литературным предпринимателем и доказать на практике, что даже самые удивительные домыслы могут быть вполне конвертируемы, если не в прекрасную жизнь, то, во всяком случае, во вполне пристойное существование: нужно только отдаться им вполне и целиком и взяться за дело со всей безоглядностью и энергией делового человека. Головокружительный взлет волжского семинариста и его не менее головокружительное падение были одним из самых расхожих сюжетов эпохи. С убедительностью подлинного артиста Чернышевский сумел на страницах своего романа навсегда сохранить для потомков упоительный вкус этого стремительного успеха и почти совершенно скрыть от них свое унизительное несчастье.
Последний роман Чернышевского, сочиненный им в кошмарных условиях сибирской ссылки, сохранился в пересказе. Название его – «Не для всех» (или «Другим нельзя») – имеет, по-видимому, непосредственное отношение к загадочным словам Христа, приведенным в Евангелии от Матфея (Гл. 19, стих 11): «Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано». Эта реплика представляет собой ответ Иисуса на вопросы учеников, касающиеся семейной жизни и отношения полов: «Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». В XIX веке это высказывание стало основой необыкновенно популярного христианского сексуального мистицизма, достигшего своей кульминации в учении русской секты скопцов, считавших, что реплику Христа нужно понимать буквально и требовавших от своих последователей физической кастрации. На протяжении всей своей литературной деятельности Чернышевский немало времени посвятил разработкам своеобразной светской формы аскетизма, позволявшей не столько отказаться от всякой сексуальной жизни во имя Бога, сколько совместить принципиально несовместимые вещи: романтическую свободу связей и еще более романтическую идеальную любовь. В глубине души он давно решил для себя эту странную проблему самым что ни на есть мистическим образом: в понимании Чернышевского совершенным существом, подлинным человеком будущего должен стать гермафродит, самодостаточный, автономный андрогин. «Когда-нибудь будут на свете только „люди“; ни женщин, ни мужчин не останется на свете. Тогда люди будут счастливы», – писал он.
Основа его последнего романа – это стандартная коллизия автора: очередное столкновение очередной свободной семьи из трех человек и условно консервативной морали. Первоначально такая семья оказывается, по мнению Чернышевского, возможной только на необитаемом острове. Жюль Берн этим бы и ограничился: его герои счастливы быть изгоями, обитателями подводной лодки, кометы, дома на колесах, влекомого механическим слоном, или искусственного куска суши, плавающего по морям на манер круизного лайнера. Для Чернышевского подлинная независимость возможна только в рамках развитого, цивилизованного общества: его герои перебираются в Лондон. Однако и Лондон, по мнению Чернышевского, который видел столицу Великобритании только мельком, во время трехдневного визита к Герцену, оказывается не готовым к таким радикальным проявлениям нравственной свободы. Героям романа приходится эмигрировать дальше – разумеется, в США, в Новый Свет, в ту обетованную и совершенно неизвестную автору землю, где возможно все то, чего никак нельзя достичь в обыкновенной, повседневной жизни в Саратове, Петербурге или Москве. Эмиграции были посвящены многие страницы сочинений Чернышевского, однако самые знаменитые его персонажи – главные действующие лица романа «Что делать?» – все-таки вернулись в Россию после многолетнего пребывания за океаном. Герои последнего романа Чернышевского из этой воображаемой Америки не возвращаются никогда.
Илья Бояшов
«ЧЕЛОВЕЧКИНА ДУША»
Николай Семенович Лесков (1831–1895)
Вдали от созвездия отечественных писателей одиноко горит звезда Лескова.
Его не особо любили при жизни: нрава он был упрямого и неуживчивого. Ничего не скажешь – настоящий орловец: они все там такие. Живут особняком. Гнут свою линию.
Биографии интересны у авантюристов. Николай Семенович Лесков прожил обыкновенную жизнь обыкновенного русского человека – ничего особо выдающегося. Были свои трагедии. Были радости. Все, вроде бы, как у всех. Или, иначе говоря, «как у людей». И умер обыкновенно. В своей постели.
Можно назвать Орловщину центром России. Или почти центром – кому как угодно. Первые впечатления? Пожалуйста: мать, бабушка, деревенские избы. Речки. Пруды. Ребятишки, купающиеся летом в пыли. Сенокос. Жужжащие насекомые. Разодранные коленки. Впечатляющая осень. Затем – не менее великолепная зима. Печь, ветер, поземка. Страшные сказки, чай с вареньем. Разумеется, боялся бабы-яги! Конечно, проказничал – и получал свое. Любил, сердешный, присесть на крылечке вечерком с ломтем хлеба, на который густо намазан мед. А кто не любит? И небеса. И облака. И любопытство – что там? Господь? Богородица? Иконы по красным углам. Обязательный «Отче Наш…» Пьяные мужики возле кабака – бабы, ругаясь, тянут мужей по домам. Скачет табун, а на одной особо строптивой кобылке – лихой соседский паренек: голый, стервец, но в неизменном картузе. Детство такое, каким ему быть и полагается!
Дед Николая был священником. Отец, Семен Дмитриевич, служил. Заседатель Орловской палаты уголовного суда – вот полное название должности! 16 (4) февраля 1831 года жена, Марья Петровна, из дворянского рода Алферьевых (все той же Орловской губернии), подарила ему сыночка. Родила она Николая в селе Горохове, где в свое удовольствие прозябала посреди бесконечных отечественных пространств за самоваром и пряниками ее многочисленная родня. Там Лесков и пробегал первые свои восемь лет.
Особых денег у супругов не водилось: потому и пришлось полагаться на родственников жены. В их доме вместе с маленьким Колей прыгало и скакало еще шесть чертенят – двоюродные братья и сестры. Родственники не бедствовали – детишкам были наняты учителя: русский, немец и, как полагается в порядочных семьях, настоящая француженка-гувернантка!
И вот здесь-то начались первые житейские неприятности! Не полюбили Колю подросшие двоюродные братья. Судя по всему, сестры его тоже не полюбили. То ли слишком хорошо учился. То ли задавался. То ли, напротив, тушевался перед ними. Возможно – все тот же проклюнувшийся неуживчивый характерец. Сам Лесков вспоминал позже, что именно тогда остро ощутил отношение к себе как к плебею, «семинарскому отродью», и «почувствовал уколы самолюбия и гордости». Дело дошло до скандалов. И кончилось тем, что по убедительной просьбе самого Коленьки сердобольная бабушка отписала отцу: забирайте сынка, и поскорее.
Бывает такое в детских садах. И в школах. Появляется мальчик, который не ладит со всеми – то ли слишком робеет, то ли, напротив, выставляется (зачастую из-за собственной же неуверенности). И в итоге всегда остается один. Забегая вперед, скажем – почти всю жизнь затем Лескову пришлось прожить таким вот «мальчиком». Грустно, однако ничего не попишешь.
Семен Дмитриевич забрал горемыку и увез его к себе в губернский город Орел, в дом, что на Третьей Дворянской улице. Впрочем, вскоре семья переехала в именьице Панино. Отец, выйдя в отставку и засучив рукава, занялся натуральным хозяйством: сам сеял, косил, жал, работал в саду и на мельнице.
А Колю отдали в Орловскую губернскую гимназию, где случился очередной конфуз. Некоторые биографы сообщают: учился наш гимназистик легко и свободно, но только – вот незадача! – через пять лет обучения отказался от какой-то переэкзаменовки и получил вместо аттестата позорную справку. Это внук-то священника! Опять характерец? Стоит, кстати, два слова сказать о тогдашней гимназии. Это не нынешняя школа: с учащихся драли сразу несколько шкур. Окончить гимназию в Российской империи XIX века – не поле перейти! Латынь. Греческий. Немецкий. Французский (английский тогда особо не ценился). Математика. Геометрия. Правописание. Литература. География. Гимнастика… От одного перечисления предметов голова идет кругом. И каждый год – экзамены. Образование давалось действительно классическое. Увы, плодов его вкусить юному Лескову не удалось – упрямца безжалостно вышибли.
Куда в России деваться без мамы и папы? Мать, как могла, утешила. Отец повздыхал (а может быть, и покричал, не исключено, что и выпорол) и пристроил незадачливого ученика в родную Орловскую палату уголовного суда одним из писцов – что-что, а писать Коленька умел. Судя по всему – бойко. И, надо же, делал карьеру: в семнадцать с половиной лет был определен помощником столоначальнике;' Сам писец далеко не прочь был вариться в питательном бульоне местного «офисного планктона» и дальше (в чем впоследствии сам признавался). Однако вмешались трагические обстоятельства – умер отец. Финансовые дела семьи, и без того не ахти как успешные, мгновенно срываются в штопор, и безутешная матушка отправляет сынка опять-таки к своим родственникам. Дядюшка, известный киевский профессор и практикующий терапевт С. П. Алферьев, не только принял у себя ершистого юношу, но и помог Лескову устроиться «помощником столоначальника рекрутского стола ревизского отделения Киевской казенной палаты».
В 1853 году Лесков произведен в коллежские регистраторы, затем, почти немедленно, назначен на должность столоначальника, а в 1857-м сделался губернским секретарем.
Оказавшийся в центре студенческо-профессорской жизни, жадный до разговоров и умных книжек (государственный служащий зачитывается не только беллетристикой, но и далеко не безобидной философией), Лесков ко всему прочему неожиданно объявляет матери о намерении создать семью. Протесты родни в расчет совершенно не принимаются. Внезапное помрачение рассудка закончилось поспешной женитьбой на дочери местного коммерсанта. Разумеется, ничего хорошего из этого брака не вышло. Вскоре после того, как любовная лодка разбилась о быт, выяснилось: крутой нрав губернского секретаря, часто бывающего в разъездах, а по вечерам закрывающегося от всего мира у себя в кабинете наедине с кипой бумаг и перьями (Лесков уже тогда вымучивает свои первые публицистические опыты), никак не мог устраивать избалованную дочь киевского дельца. После смерти первенца Мити (дети тогда, к сожалению, умирали очень часто) отношения между супругами, похожими друг на друга, примерно как Марс и Луна, совершенно разладились.
Но все это случилось позже, а тогда, в 1857 году, перспективный чиновник Казенной палаты выкинул еще один финт (о котором впоследствии пожалел неоднократно) – бросил казенную службу. Новая должность Лескова – торговый агент коммерческой фирмы «Шкотт и Вилькинс». Что касается основателя фирмы, англичанина А. Я. Шкотта, женатого на тетке Лескова (вновь родственные связи!), то самоуверенный джентльмен, явившийся в Россию со сколоченным ранее капитальцем, оказался полным ослом, «затрачивая капитал с глупейшей самоуверенностью», как выразился впоследствии сам Лесков, с грустью наблюдавший за всеми реалиями российского бизнеса. Говорят, «что русскому здорово, то немцу карачун». Очевидно, справедливо и обратное: будущий автор знаменитой «Железной воли» неоднократно имел возможность наблюдать, как вполне успешно работающие на Западе идеи и новации, стоит только перенести их на российскую почву, мгновенно, словно по мановению волшебной палочки, превращаются в полную свою противоположность, и не только не работают,но и еще более усугубляют положение. Возможно, практический опыт уже тогда несколько поколебал западно-либеральные взгляды Лескова, которому по делам службы пришлось целых три года мотаться по безграничным пространствам среднерусской равнины от Одессы до «чухонских скал». И без того с детства знающий жизнь «с изнанки», Лесков столкнулся здесь с таким потрясающим опытом, который было просто преступно не использовать в очерках и статьях. Итак, с тех пор агент фирмы Шкотта в постоянных разъездах – иногда на поезде, но чаще всего в тарантасе, с трудом находящем свою колею в бороздах, которые только русский с присущей ему добродушной наглостью может величать дорогой. Пудовая грязь, вместе с червями прилипающая к сапогам (единственный в мире, жирный, славный курский чернозем!). Почтовые станции, способные вызвать приступ мизантропии даже у самого отъявленного оптимиста. Гостиницы, в номерах которых хочется не отдохнуть, а повеситься. Свирепствующие клопы. Трактиры (в суповых тарелках то и дело бессмысленно тонут тараканы). Совершеннейшая глушь (какой-нибудь Саратов), и вечера в компании с унылым свечным огарком и осточертевшими финансовыми документами. Но одновременно с этим: удивительные людские типажи, лица, сценки, нелепейшие и забавные случаи – все то, что впоследствии безвозмездно даст Лескову самый горючий материал для его жаркого и в высшей степени своеобразного творческого костра.
Вдохновленный первыми успехами (статьи его уже печатаются в «Современной медицине», «Указателе экономическом, политическом и промышленном» и, что самое лестное, в «Санкт-Петербургских ведомостях»), Николай Семенович рвет с прежней и порядком осточертевшей ему службой и перебирается в столицу (благо накопленные за годы работы в фирме деньги давали такую возможность). Честолюбивый и цепкий орловец, преисполненный мечтаний о будущей творческой карьере, моментально востребован столичной журналистикой и рассыпает по страницам газет свои многочисленные псевдонимы: Стебницкий, Горохов, Понукалов, Пересветов, Протозанов, Фрейшиц, священник Касторский, Псаломщик, Человек из толпы (и многие другие) и, наконец, самый уж экзотичный – Любитель часов. Круг изданий весьма солиден, достаточно упомянуть «Отечественные записки», «Русский вестник» и «Северную пчелу».
Однако не к добру поселился именно в это время во взбудораженной столице нахватавшийся дорожного опыта самоуверенный начинающий литератор. Страну раздирали исключительные противоречия. Веками складывавшимся политическим устоям (крепостное право и прочая аракчеевщина) после позора Крымской кампании определенно наступал тот самый давно ожидаемый карачун.На кону стоял вопрос об освобождении задерганного и замученного крестьянства. Нигилисты и прочие революционеры плодились, как грибы после дождя, и были преисполнены ненависти к оконфузившемуся царизму. Молодежь бредила социалистическими миражами. Все еще склоняющийся, несмотря на свой житей-ско-кочевнический опыт, к либерализму (молодость брала свое) Николай Семенович неожиданно оказался в центре бурлящего котла. С одной стороны – правые, которые приходили в дикий ужас от одной мысли о будущих реформах, с другой – будущие Нечаевы, Фигнеры, Желябовы и прочие ненавистники власти, только и мечтающие о том, чтобы метнуть в нее бомбу потяжелее.
События не заставили себя долго ждать. В 1862 году в Петербурге вспыхнули таинственные пожары, перепугавшие обывателей. Общество переполошилось. Слухи не ползали и даже не бегали, а летали с реактивной скоростью: одни свидетели утверждали – поджоги дело рук истосковавшихся по действию революционеров, другие все сваливали на власть, которая-де специально наняла поджигателей, чтобы обвинить затем ни в чем не повинных университетских студентиков. И вот здесь-то публицист Лесков (уже поднабравший вес в столичных журналах) показал себя в полном блеске. Крутой орловский характер сказался: статья была оглушительна. От бывшего торгового агента досталось и тем, и этим. Провинциал требовал (требовал!) от правительства либо немедленных публичных подтверждений того факта, что злосчастный Апраксин двор жгли именно нигилисты, либо покаянных опровержений.
Моментально восстановить против себя как левый, так и правый политические лагеря, да еще и в начале литературной карьеры – это надо было постараться! Г-н Стебницкий (под этим псевдонимом статья появилась в «Северной пчеле») справился с почти невозможным – на него обрушился шквал негодования как со стороны дворцовых консерваторов, так и со стороны воинствующих либералов. Левые разозлились за то, что он посмел даже теоретически допустить,будто опасное хулиганство совершили «юноши бледные со взором горящим». Правые возмутились прямым и недвусмысленным предложением к государственным мужам «выложить карты на стол». Хотел или не хотел того Лесков (скорее всего, не хотел!), но он явился катализатором столь долго готовящейся разборки. И выяснение отношений после статьи немедленно началось. Причем виновного в этом пожаре страстей искать не приходилось. Не поносил «провокатора» разве что самый ленивый.
Травля шла грандиозная. Со всех сторон Лескова обложили флажками: с азартом действовали и загонщики из «Современника», и егеря из «Нашего времени». После подобной критики обычно стреляются, однако не таков был наш орловский русак. Обозлившись (до конца своей жизни) на потенциальных бомбистов, коммунаров и прочих народовольцев, Лесков, вынужденный даже бежать от всеобщего хора проклятий в Европу (скитания, впрочем, длились недолго), создал там первый свой романный «кирпич», прозорливо названный им «Некуда», в котором с достаточным сарказмом обрисовал деятельность поборников будущего социалистического общества. Базаровы скакали в ярости. Критик Писарев бесновался. Почитатели Чернышевского объявили Лескова теперь уже политическим агентом знаменитого Третьего отделения. Несмотря на то что «провокатор» в романе помимо всяческих революционных идиотов вывел и довольно симпатичных персонажей, от клейма «предателя народного дела» Лескову долго было не отмыться. Газеты призывали «не подавать ему руки». При появлении опального «борзописца» в издательствах некоторые Робеспьеры демонстративно брали шляпу и уходили.
Еще раз напомним: упрямство – отличительная лесковская черта. Затравленный и клейменный полемист начиняет порохом новый заряд – роман «На ножах». Крах революционной мечты – вот главная тема очередной «провокации». И опять там основные герои – нигилисты и прочие фантазеры земли русской… В пылу преследования (ату его!) все (и левые, и правые) критики как-то проскочили мимо повести «Леди Макбет Мценского уезда», оказавшейся на обочине возбужденной полемики и никем тогда не замеченной.
Забегая вперед, вздохнем: ушли в небытие тогдашние бунтари и мечтатели. Растворились в воздухе миражные идеи «братства и равенства». Первые «антиреволюционные романы» задиристого Лескова, как и полагается темам «на злобу дня», забавляют сегодня разве что историков да филологов. А неприметная история про русскую бабу, решившуюся на всеради сущей пустяковины – любви – и сейчас живее всех живых! Где-нибудь во Франции подобная жемчужина сразу бы вывела писателя на литературный Олимп: но мы – не гасконцы! Еще долгое время борец с революционностью продолжает барахтаться в болоте всеобщего презрения.
Он не потонул – не таков! Плевки критиков, несомненно, пошли ему только на пользу. После романа «На ножах» Лесков теряет интерес к злободневным памфлетам (счастье для нашей литературы!) и окончательно переходит к тому замечательнейшему бытописательству незаметнойотечественной жизни, которое его и обессмертило.
Неторопливая хроника «Соборяне» – вот он, теперь уже истинный Лесков со всей его литературной изощренностью, которая так покоряет и очаровывает! Это вам не издерганный, кричащий о себе на всех углах нигилизм! Эту-то сторону жизни едва ли кто понимал так, как Лесков, – досконально, до мельчайшей черточки, до едва уловимой вибрации! Вся объезженная им вдоль и поперек на поездах, телегах и тарантасах разнесчастная наша родина с ее неприметными местечками и совершенно обычными людьми, с ее говором, пьянством, теплотой, березами, церквушками, гнусью и праведностью, – здесь, как пушинка на ладони. Российское духовенство – его тема, уж ее-то внук священника Лесков знает как никто другой!
Слава богу, «Соборян» заметили и наконец-то обласкали. Поначалу – правые. В 1874 году автор вышеупомянутого произведения назначается членом учебного отдела Ученого комитета Министерства народного просвещения, основная функция которого – «рассмотрение книг, издаваемых для народа» (то есть самая обыкновенная цензура). Похвалы автору «Соборян» замечены и дворцом. Императрица Мария Александровна прочла повествование – и граф П. А. Валуев (министр государственных имуществ) тотчас назначает бытописателя Лескова ко всему прочему еще и членом учебного отдела своего министерства. Что ни говори, государственная служба совершенно не желала забывать бывшего секретаря Киевской казенной палаты. Даже левые после появления хроники как-то притихли. А ведь за «Соборянами» наконец-то предстали перед читающей публикой истинные литературные шедевры, повествующие о неприметной российской жизни,космически далекой от столичного революционного и прозападного либерального бреда, – «Запечатленный ангел» и «Очарованный странник». (И конечно, уже ждет своего часа исключительно нашенский,подобный «Коньку-Горбунку», «Левша», о котором речь еще впереди!)
Реабилитированный Лесков верен себе: одиночество – и житейское, и литературное (орловец по-прежнему даже как литератор продолжает стоять особняком) – обласканный властью цензор воспринимает теперь уже данностью. А непредсказуемость автора постоянно заставляет почитателей его неторопливого творчества чесать затылки. После целой череды христианских сказов и сказок (повесть «О богоугодном дровоколе», «Легендарные характеры» и проч.), когда, казалось бы, течение в литературном русле, по которому отныне станет продвигаться певец отечественной глубинки и отечественного же православия («Мелочи архиерейской жизни» никого тогда особенно не насторожили), окончательно обретает плавность и спокойствие, – оно вновь внезапно натыкается на речной порог!
Лесков порвал со столь обстоятельно (и любовно, несмотря на некоторый скептицизм) описанным им отечественным православным укладом, заинтересовался протестантизмом и в итоге принялся сочинять гимны внеконфессиональному христианству. Отсюда и до Ясной Поляны рукой подать – сближение с толстовским «еретичеством» казалось делом совершенно решенным (не случайно воодушевленный такой поддержкой Лев Николаевич назначил Лескова «писателем будущего»). А для того чтобы обрести окончательную внутреннюю свободу, Николай Семенович оставляет опостылевшую службу: в 1880 году прощается с Министерством государственных имуществ. В 1883 году – избавляется от должности цензора и продолжает свои литературные и духовные опыты («Тупейный художник», «Человек на часах», «Час воли Божьей» и многие, многие, многие другие рассказы, памфлеты и повести).
Увы, но даже такие бойцы не вечны! Автора многочисленных русских хроник все больше подводит здоровье. Не слишком-то уютный петербургский климат с его постоянно моросящим дождем и туманами, он, ко всему прочему, еще и известный провокатор легочных болезней, не последняя из которых – астма. Кислородная подушка теперь постоянный спутник Лескова. Дышать ему все труднее. В конце жизни он уже почти не выходил из дома. Однако накануне кончины взял и прокатился по вегерку, нараспашку – словно нарочно! Рядом с кроватью угасающего мастера до последнего дня был сын Андрей, оставивший впоследствии о своем отце интереснейшие воспоминания.