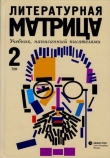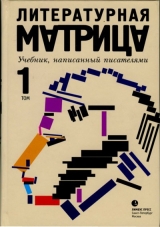
Текст книги "Литературная матрица. Учебник, написанный исателями. Том 1"
Автор книги: Людмила Петрушевская
Соавторы: Татьяна Москвина,Михаил Шишкин,Михаил Гиголашвили,Илья Бояшов,Дмитрий Горчев,Александр Секацкий,Андрей Битов,Елена Шварц,Андрей Левкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 24 страниц)
Все это писал человек, знающий, что говорит. Просто у него не было никакого желания прислуживать социальному направлению и его иллюзиям. Он не мог мириться с тем, что адепты этого направления упражняются в «упорном непонимании самых простых вещей».
Так вот, если все сложить вместе – очень много противоречий. Был Шеншин – стал Foeth. То богатый наследник – то иностранец без прав и собственности. Вот он армейский офицер – и в это же время лирический поэт. А потом – помещик, вынужденный упорно работать, чтобы поэт Фет мог писать стихи. Вот он рассуждает о практических делах и тут же – о цветах в усадьбе. Вот собственная поэзия, а тут же – переводы классиков и немецких философов. Как это все сложить вместе? Да тут и четырех человек не хватит, чтобы раздать им все эти дела.
Кто же он на самом деле, если оказывается, что не очень-то наш герой зависел от фамилии и происхождения, от рода собственных занятий и от общественной идеологии? Тут и разница между Фетом и Шеншиным мало что значит – все куда круче: что ж такое есть в нем самом постоянное, что не зависит ни от каких жизненных обстоятельств? Значит, это и есть та часть человека, которая свободна от всех перемен его участи.
Сам он, кстати, прекрасно все это понимал. Поэтому и завершил свое стихотворное послание к одному из приятелей словами «Хоть подпишу Шеншин,а все же выйдет Фет»…
Дмитрий Горчев
ГИСТОРИЯ О ЛИТЕРАТОРАХ И ШАЛОПАЯХ, А ТАКЖЕ О ДИРЕКТОРЕ ПРОБИРНОЙ ПАЛАТКИ
Алексей Константинович Толстой (1817–1875)
Однажды, когда ночь покрыла небеса невидимою своею епанчою, знаменитый французский философ Декарт, у ступенек домашней лестницы своей сидевший и на мрачный горизонт с превеликим вниманием смотрящий, – некий прохожий подступил к нему с вопросом: «Скажи, мудрец, сколько звезд на сем Небе?» – «Мерзавец! – ответствовал сей, – никто необъятного обнять не может!»
Сии, с превеликим огнем произнесенные, слова возымели на прохожего желаемое действие.
«Гисторические материалы Федота Кузьмича Пруткова (деда)»
Ученые литературоведы, профессия которых состоит в том, чтобы препарировать жизнь и произведения давно умерших людей, подобно тому, как нигилист Базаров препарировал лягушек, считают Алексея Константиновича Толстого писателем второстепенным.
Да оно и немудрено: попробуй-ка быть первостепенным в XIX веке, когда кругом все сплошь гении, которые, как крейсеры и линкоры, грозно возвышаются над прочими утлыми лодочками. Тут Александр Сергеевич Пушкин, там Николай Васильевич Гоголь, слева Федор Михайлович Достоевский, а справа вообще пятнадцати-палубный Лев Николаевич… На фоне этой эскадры Алексей Константинович гляделся легкомысленной лодочкой под несерьезным белоснежным парусом. Но ведь в такой компании и «второстепенным» не грех побыть.
Лев Николаевич, кстати, приходился Алексею Константиновичу троюродным дядей, или, если по-простому, седьмою водой на киселе. Они как-то раз даже встретились, но родственных чувств друг к другу не испытали. Что, впрочем, у всех Толстых обычное дело.
Предок их общий, Петр Андреевич, был, говорят, человеком непростым – именно он обманом заманил непослушного сына Петра I Алексея в Россию из Неаполя для отеческой беседы с грозным отцом, каковая закончилась для этого сына весьма печально. И рассказывают, что будто бы, вися на дыбе, царевич проклял весь род Толстых до двадцать пятого колена включительно. Впрочем, вряд ли покойный царевич был таким уж могущественным волшебником. Если судить по живописной картине кисти художника Ге, на которой царь Петр царевича допрашивает, на Гэндальфа Алексей Петрович вовсе не тянул. Так что если и случались с потомками Петра Андреевича неприятности, то с кем они не случаются?
Невзирая на все проклятия, жизнь А. К. Толстого с самого ее начала складывалась как нельзя лучше. Правда, совсем-совсем самое начало, когда Алексею Константиновичу было шесть недель от роду, получилось не очень удачным: матушка его, красавица Анна Алексеевна, внезапно и очень громко рассорилась с Константином Петровичем Толстым, за которого совсем недавно вышла замуж, и вместе с младенцем убыла из Петербурга в Черниговскую губернию.
Впрочем, этот брак и без того вызвал много разговоров. Анна Алексеевна была красива, умна, остра на язык и, по воспоминаниям близких, «не признавала никаких границ своей воле, чему способствовало ее огромное состояние». (Рассказывали, например, что она нарочно появлялась при дворе в нарядах, которые в точности повторяли туалеты императрицы.) А отставной полковник Константин Петрович был, скажем мягко, вовсе не так уж блестящ. Кроме того, в свете поговаривали о том, что он иной раз слишком уж увлекался французскими винами. Но это всё слухи и сплетни, а мы не станем гадать, что же такое натворил Константин Петрович для того, чтобы его немедленно покинула жена с младенцем. Однако факт есть факт: более Константин Петрович в жизни своего сына ни разу не появился.
Но на младенца это происшествие вряд ли произвело слишком большое впечатление: всю последующую жизнь Алексей Константинович вспоминал свое детство, прошедшее в Черниговской губернии, с большой нежностью.
За неимением отца воспитанием юного графа занимался дядя Алексей Алексеевич. Дядя не просто увлекался литературой, но и печатал свои произведения под псевдонимом «Антоний Погорельский» – и, помимо вещей взрослых и серьезных, написал однажды специально для племянника (а во многом и о нем) сказку «Черная курица, или Подземные жители». Сказка вышла довольно мрачной и даже, можно сказать, готичной, но тогда это было модно, поэтому она имела большой успех. А ныне, кстати, ее изучают на уроках внеклассного чтения в младшей школе – с целью, как пишут в методичках, «формирования нравственных ориентации на распознавание истинных и ложных ценностей, а также воспитания чувства честности, доброты, умения нести ответственность за свои поступки». М-да-с…
На юного Алексея Константиновича эта сказка, судя по всему, произвела огромное впечатление, потому что ранние его литературные опыты были тоже весьма готичны: повести «Семья вурдалака» (1838) и «Упырь» (1841).
Произведений этих сам Алексей Константинович впоследствии, кажется, несколько стеснялся и даже в собрания своих сочинений не включал. Хотя бывают тексты и похуже. А описанные Толстым похождения отечественной нежити и нечисти вполне достойны стать сюжетом какого-нибудь голливудского триллера. Как вам, например, такое: «Тысячи безумных и ужасных образов, кривляющихся личин преследовали меня. Сперва Георгий и брат его Петр неслись по краям дороги и пытались перерезать мне путь. Это им не удавалось, и я уже готов был возрадоваться, как вдруг, обернувшись, увидел старика Горчу, который, опираясь на свой кол, делал прыжки, подобно тирольцам, что у себя в горах таким путем переносятся через пропасти. Горча тоже остался позади. Тогда его невестка, тащившая за собой своих детей, швырнула ему одного из мальчиков, а он поймал его на острие кола. Действуя колом, как пращой, он изо всех сил кинул ребенка мне вслед. Я уклонился от удара, но гаденыш вцепился – не хуже настоящего бульдога – в шею моего коня, и я с трудом оторвал его»…
«Семью вурдалака» и в самом деле несколько раз экранизировали: в 1963 году по этой повести была снята одна из новелл итало-франко-американского фильма «I tre volti della paura» («Три лица страха»; в американском прокате – «Black Sabbath»), а в СССР – фильмы «Семья вурдалаков» (1990) и «Папа, умер Дед Мороз» (1991). А сюжет «Упыря» вдохновил режиссера Евгения Татарского, снявшего «иронический фильм ужасов с элементами мелодрамы» «Пьющие кровь» (1991), – с Мариной Влади и Донатасом Банионисом в главных ролях.
Но это все будет позже. А пока юный граф жил в, как это тогда называлось, Малороссии.
Денег в семье хватало, и маленькому Толстому нанимали самых лучших учителей. Так что мальчик уже к шести годам, вместо того чтобы лазить по заборам и воровать у соседей яблоки и груши, выучил английский, немецкий и французский языки, увлекся русской поэзией и даже сам сочинил какие-то стихи, которые оказались впоследствии безвозвратно утерянными, чему повзрослевший Алексей Константинович был только рад.
Сам Толстой вспоминал эти годы с большой нежностью. «Мое детство, – писал он много позже, – было очень счастливо и оставило во мне одни только светлые воспоминания. Единственный сын, не имевший никаких товарищей для игр и наделенный весьма живым воображением, я очень рано привык к мечтательности, вскоре превратившейся в ярко выраженную склонность к поэзии. Много содействовала этому природа, среди которой я жил; воздух и вид наших больших лесов страстно любимых мною, произвели на меня глубокое впечатление, наложившее отпечаток на мой характер и на всю мою жизнь и оставшееся во мне и поныне».
Матушка в Алешеньке души не чаяла, и дядюшка от сестры не отставал. Так, например, однажды он прислал из путешествия в подарок племяннику живого лося, в сопроводительном письме наказав, впрочем, к этому лосю близко не подходить. Что лишний раз подтверждает, насколько нетривиальной личностью был этот дядюшка. Позже, из другого путешествия, он собирался прислать племяннику «маленького верблюденка, осленка и также маленькую дикую козу», а в придачу «маленького татарчика», но как-то у него не получилось.
О судьбе же лося никаких исторических сведений не сохранилось – надо надеяться, что он был просто отпущен на волю в ближайший лес.
Но однажды сельская идиллия внезапно закончилась, и юный граф вместе с маменькой спешно отбыли в Москву. Оказывается, дядюшка очень хвалил племянника своему большому другу и поэту Василию Андреевичу Жуковскому. А Василий Андреевич состоял в ту пору в должности воспитателя престолонаследника (ставшего позже императором Александром II), дабы привить мальчику благородство мыслей и гуманное отношение к будущим подданным.
Жуковский относился к своим обязанностям очень серьезно и потому решил, что нечего будущему императору болтаться все время среди придворных, которых, как известно, занимают сплошь одни интриги, лесть и зависть. Поэтому он стал подбирать цесаревичу товарищей для игр из самых лучших мальчиков империи. В число этих мальчиков и попал юный Алексей Константинович – понятное дело, по протекции своего дяди.
По особым дням избранных мальчиков приводили к будущему императору, и там они под внимательным присмотром воспитателей играли в оловянные солдатики. (Однажды даже сам император Николай I, папа цесаревича, посетил эти игры и сам вдруг принялся играть в солдатики с таким увлечением, что некоторые придворные даже забеспокоились, не тронулся ли батюшка император умом.) В остальное же время Алеша вместе с маменькой и дяденькой тихо жили у бабушки Марьи Михайловны. В гости к ним иногда заглядывал Александр Сергеевич Пушкин, тогда еще вполне живой.
Вот так начиналась блестящая карьера графа Алексея Константиновича Толстого.
Кроме того, в перерывах между играми с цесаревичем мальчик Алеша вместе с маменькой и дядей объездил всю Германию, где посетил самого Иоганна Вольфганга Гете. Могучий старик, растрогавшись, позволил Алеше посидеть у себя на коленях и подарил ему безделушку – кусок бивня мамонта с лично выцарапанным на нем изображением фрегата.
Затем юный граф все в той же компании объехал всю Италию, где великий русский живописец Карл Павлович Брюллов, автор эпического полотна «Последний день Помпеи», что-то такое черкнул в его детском альбоме.
Позже, уже в Москве, Карл Павлович даже написал портрет юного графа в архалуке и с ружьем. Дядюшка тогда заказал великому живописцу портреты всех членов семейства, для чего, хорошо зная нравы художников, запер Карла Павловича в доме бабушки и не позволял ему выходить на улицу до тех пор, пока все портреты не будут готовы. Однако же приятели Карла Павловича (тоже все живописцы: Тропинин, Маковский и прочие) как-то ухитрялись просачиваться в строго охраняемый дом… Дядюшка гневался, но все напрасно: кое-как дописав портрет самого дядюшки и так и не приступив к портрету маменьки Анны Алексеевны, Брюллов сбежал, даже не забрав своих чемоданов.
В Москве юный Алексей Константинович продолжал образование и выучил еще три языка: итальянский, греческий и латынь.
Дядюшка же, хотя и очень часто бывал в разъездах, попечения о племяннике не прекращал и писал ему чуть ли не ежедневно пространнейшие письма. Так, однажды, когда Алеша решил продать через дядю свою коллекцию медалей (в педагогических целях маменька очень строго ограничивала наследника в карманных деньгах), дядя разразился из-за границы обширнейшим письмом. Вот только один абзац из него: «До сих пор я не успел еще их продать, потому что живу на даче; я тебе больше бы прислал денег за медали, но у меня самого мало. Ты видишь, милый Ханчик, по опыту, как нужно беречь деньги, оттого-то и говорится пословица: береги копейку на черный день; когда у тебя были деньги, ты их мотал по пустякам, а как пришел черный день, т. е. нужда в деньгах, так у тебя их не было. Не надобно никогда предаваться тому, что желаешь в первую минуту: ты сам уже испытал, и не один раз, что когда ты купишь чего-нибудь, чего тебе очень хотелось, то и охота к тому пройдет, и деньги истрачены по-пустому. Хорошо еще, что случайно у тебя есть медали, а если бы их не было, ты бы и оставался без денег. Деньги прожить легко, а нажить трудно. Вообрази себе, что еще с тобой случиться могло бы! Например, ты истратишь свои деньги на пустяки, которые надоедят тебе на другой день: вдруг ты увидишь какого-нибудь бедного человека, у которого нет ни платья, ни пищи, ни дров, чтоб согреться в холодную зиму, и к тому еще дети, умирающие с голоду. Ты бы рад ему помочь, тебе его жаль; – и Бог велит помогать ближнему – но у тебя нет ни копейки! Каково же тебе будет, если вспомнишь, что ты мог избавить его от несчастья, когда бы накануне не истратил деньги свои на пустяки!» Ни один нынешний подросток не осилил бы из этого абзаца даже и двух предложений, но юный Толстой очень любил своего дядюшку и поэтому читал все письма целиком и очень внимательно. Что, однако, не помешало ему в конце жизни практически полностью разориться, но это случится еще через много-много лет.
Что ж, всякое детство однажды кончается, и вот уже не юного, но молодого графа отдают на государственную службу.
У потомственного дворянина в те времена было всего два варианта жизненного пути: пойти на военную службу или же на статскую. Алексей Константинович начал свое жизненное поприще со службы статской: в архиве министерства иностранных дел в Москве. Какая служба может быть менее интересной для поэтического юноши, даже вообразить трудно. Но, впрочем, от всего бывает польза: в архиве хранилось множество документов, которые впоследствии очень пригодились Толстому при написании исторических романов и пьес. Да и вообще, блестящая карьера нередко начинается с какой-нибудь скучной должности в канцелярии – и только потом, постепенно поднимаясь в чинах благодаря усердию и трудолюбию, бывший коллежский регистратор получает возможность заняться чем-либо значительным и увлекательным.
Увы! Молодой граф вовсе не проявлял ни усердия, ни трудолюбия в роли «архивного юноши». На службе он появлялся хорошо если раз в неделю на часок-другой, а то и вовсе не бывал там месяцами. Трудолюбие и усердие проявлял разве что при написании стихов и повестей, а также очень прилежно ходил на балы, хотел даже научиться играть на флейте и мандолине, но из этого, несмотря на многочисленные таланты в других искусствах, ничего не вышло. Впрочем, Алексей Константинович не очень расстроился и, как и положено молодому человеку в его возрасте, продолжал влюбляться в каждую встреченную на балу барышню.
Однако даже и такая необременительная служба юного графа тяготила, и вскоре он подал прошение об отставке. Родные и близкие, конечно же, бросились его отговаривать, маменька плакала, были задействованы все высокие связи, и прошению был дан обратный ход. Алексей Константинович сначала противился, но, следуя воле дядюшки, умиравшего тогда в варшавской гостинице от грудной болезни, согласился продолжить службу.
А дядюшка Алексей Алексеевич действительно умер, и молодой граф рыдал у его постели. Он и в самом деле очень любил своего воспитателя, несмотря на все его чудачества и занудство.
Дядюшка умер в начале июля, а в Москву Алексей Константинович вернулся уже поздней осенью. Несмотря на столь долгое отсутствие, его не только не прогнали со службы, но даже, можно сказать, повысили в чине (если раньше он числился при архиве «студентом», то есть чем-то вроде младшего подмастерья, то теперь сделался коллежским регистратором), а позже назначили к миссии во Франкфурте-на-Майне, «сверх штата». Каковой Франкфурт-на-Майне Алексей Константинович посетил лишь единожды, через год после назначения, проездом, да и то лишь для того, чтобы повидаться там с Николаем Васильевичем Гоголем.
Великий русский писатель встретил будущего не столь великого русского писателя в подштанниках и завернутым в простыню: гостиничный слуга со всей немецкой пунктуальностью исполнил данное ему накануне поручение отправить вещи Николая Васильевича далее по маршруту. Так что гений словесности остался без штанов, не говоря уже о сюртуке, манишке, галстухе, воротничке и цилиндре, без которых в те времена просто невозможно было себе представить приличного господина. Впрочем, уже и в то время во Франкфурте нашлось множество соотечественников, которые на следующий день одолжили Николаю Васильевичу все необходимые предметы гардероба…
Но это всё в сторону, как писал позднее сам Алексей Константинович в ремарках к своим знаменитым пьесам.
Уже в Петербурге Толстой встретил первую свою любовь: давно ему знакомая юная княжна Мещерская внезапно, как это часто случается с девочками-подростками, превратилась в прекрасную барышню, и Алексей Константинович, как тонкий ценитель всего прекрасного, просто не мог немедленно не предложить ей руку и сердце. Но увы! Любящая мать встала стеной, легла крестом, и молодой граф, скрепя сердце, вынужден был предложение аннулировать. Ведь мать свою он тоже очень любил – намного больше, чем даже покойного дядюшку.
Страдал ли он? Еще как! Мог ли не страдать такой романтический и поэтический юноша? Не мог. Ведь верно говорил герой одного французского романа, Кола Брюньон: «Первая, кого любишь, это и есть настоящая, подлинная, та, кого должен был полюбить; ее сотворили светила, чтобы нас утолить. И, должно быть, потому, что я ее не испил, меня мучит жажда, вечная жажда, и будет меня мучить всю жизнь».
Но ни единым словом никогда Алексей Константинович не упрекнул впоследствии матушку, не оставил об этой своей любви ни единой записи – может даже показаться, что он мгновенно забыл юную княгиню навсегда.
А служебная карьера Толстого меж тем, несмотря на полное к ней небрежение, продолжала быть блестящей. Так, к двадцати трем годам он уже стал «делопроизводителем в Собственной Его Императорского Величества Канцелярии», что было весьма завидной должностью, – но и на этой должности Алексей Константинович не проявлял никакого рвения. Впрочем, в послужном списке Толстого распоряжения о повышении по службе следуют каждый год: «пожалован в коллежские секретари», «пожаловано звание камер-юнкера», «пожалован в коллежские асессоры – со старшинством», «пожалован в Надворные советники». И, наконец, «Высочайше пожалован церемониймейстером двора». Всё это были звания почетные, но совершенно формальные. Зато ни одного бала Алексей Константинович (он жил тогда уже в Петербурге) по-прежнему добросовестно не пропускал.
В общем, был молодой граф, скажем прямо, шалопаем и повесой. Все, знавшие его в те времена, единодушно отмечали впоследствии, что был он к тому же необычайно умен, благороден, остроумен и красив. Немудрено, что светские барышни влюблялись в него толпами. Ведь, несмотря на нежную свою наружность, Алексей Константинович легко сворачивал в трубочку пятаки, пальцем загонял в стены гвозди, завязывал узлом кочергу и ходил в одиночку на медведя. Да еще и стихи писал. Ну как такого красавца не полюбить?
Но увы – барышням ничего не светило: Алексей Константинович был уже пылко влюблен в Софью Андреевну Миллер. Знакомство Толстого с Софьей Андреевной произошло, как не трудно догадаться, на балу – на балу-маскараде. Этой встрече посвящено всем известное стихотворение:
Средь шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суеты,
Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты.
Лишь очи печально глядели,
А голос так дивно звучал,
Как звон отдаленной свирели,
Как моря играющий вал.
Мне стан твой понравился тонкий
И весь твой задумчивый вид,
А смех твой, и грустный и звонкий,
С тех пор в моем сердце звучит.
В часы одинокие ночи
Люблю я, усталый, прилечь —
Я вижу печальные очи,
Я слышу веселую речь;
И грустно я так засыпаю,
И в грезах неведомых сплю…
Люблю ли тебя – я не знаю,
Но кажется мне, что люблю!
Стихи эти настолько популярны (в том числе и благодаря романсу, написанному Чайковским), что их автором, между прочим, многие считают и вовсе Пушкина… Так что еще большой вопрос, стоит ли числить графа Толстого «второстепенным поэтом».
Стихи стихами, а в жизни все было против счастия влюбленных. Мало того, что муж Софьи Андреевны, с которым она уже давно жила порознь, никак не хотел давать ей развода, так еще и мать Толстого категорически не одобряла такого выбора. Она, впрочем, всегда очень спокойно смотрела на краткие амуры своего ненаглядного сыночка (которому, заметим, к моменту знакомства с Софьей Миллер было уже тридцать лет и три года), но как только тем чутьем, каким обладают лишь безоглядно любящие женщины, ощущала, что дело приобретает серьезный оборот, вставала за сына грудью и все расстраивала. Такова сила материнской любви…
Тогда Алексей Константинович, отчасти из патриотических соображений, а может быть, для того, чтобы погибнуть, собрался на Крымскую войну, которая была тогда в самом разгаре. Он собрал полк из самых лучших ополченцев и двинулся в Крым. Все предвещало грядущие подвиги на поле боя. Но до боев, к несчастью или же к счастью, дело так и не дошло, потому что какой-то штабной болван расквартировал его полк в тифозной деревне неподалеку от Одессы, и практически все его бойцы умерли от тифа. Самого же Алексея Константиновича спасло железное здоровье – провалявшись две недели на койке в бреду, он очнулся.
Наградой ему, впрочем, стало то, что, открыв глаза, он увидел возле своей кровати Софью Андреевну, которая специально приехала за ним ухаживать. Ради этого стоило немного и приболеть.
Тут, как принято было говорить про коронованных особ, внезапно почил в бозе император Николай I, и новым императором стал друг детства графа Толстого цесаревич Александр, а Алексей Константинович по старой дружбе был тут же назначен флигель-адъютантом. Должность была не очень обременительная: флигель-адъютант был обязан изящно носить аксельбанты во время торжественных приемов, а больше никаких обязанностей не было.
Вскоре, впрочем, прибавилась еще одна должность: егермейстер, то есть начальник императорской охоты. Но Алексей Константинович сам был заядлым охотником, так что эти обязанности его не слишком тяготили.
Надо сказать, что император Александр II действительно очень хорошо относился к Алексею Константиновичу, который выгодно отличался от многих друзей детства различных правителей хотя бы тем, что был абсолютно бескорыстен – никогда ничего для себя не просил. За все время дружбы с императором он если о чем-то его и попросил, то не для себя. Например, однажды во время охоты заикнулся было об освобождении Чернышевского, но император отказал, из-за чего друзья детства чуть не рассорились. Потом просил за Тургенева и Аксакова, уже более удачно – этих крамольников император вернул из ссылки в их родовые поместья, где они томились, коротая время за охотой на вальдшнепов и рябчиков.
И все равно Алексею Константиновичу при дворе было тоскливо. Увлечение балами и прочей светской чепухой уже прошло, и ему гораздо интереснее стало заниматься тем, чем он был увлечен с самого детства, – сочинительством.
Нелишне заметить, что уже первые литературные опыты Толстого обратили на себя внимание главнейшего в те времена критика, Виссариона Григорьевича Белинского, который весьма благосклонно отозвался о повести «Упырь», напечатанной в 1841 году крошечным тиражом под псевдонимом Краснорогский (Толстой назвался так по месту своего жительства, имению Красный Рог). Критик по-отечески подбодрил начинающего автора, усмотрев в нем «признаки еще молодого, но тем не менее замечательного дарования, которое нечто обещает в будущем». К сожалению, великий критик не уточнил, что же он имел в виду под словом «нечто»… Но увидел «во всем отпечаток руки твердой, литературной» и нашел в авторе «решительное дарование». А попутно заметил, что молодость – «это самое соблазнительное и самое неудобное время для авторства: тут нет конца деятельности, но зато все произведения этой плодовитой эпохи в более зрелый период жизни предаются огню, как очистительная жертва грехов юности».
Тут «неистовый Виссарион», между прочим, попал пальцем в небо: во-первых, плодовитой в смысле литературных занятий эпохой молодые годы А. К. Толстого никак не назовешь – во всяком случае, в 1840-е годы он опубликовал всего лишь пару очерков, два-три прозаических произведения и одно стихотворение (еще два десятка стихов, написанных в эту пору, были напечатаны много позже); а во-вторых, сочиненное в 1840-е стихотворение «Колокольчики мои, / Цветики степные! / Что глядите на меня, / Темно-голубые?» сам автор не только не счел «грехом юности», но и называл одной из своих самых удачных вещей. Тогда же, кстати, была написана Толстым и баллада «Василий Шибанов», одна строчка из которой и поныне у всех на слуху – благодаря статье Маяковского «Как делать стихи», в которой Владимир Владимирович обосновывает любимую идею о том, что, мол, непременно нужно записывать стихотворные строчки «лесенкой», и приводит курьезный пример из толстовской баллады: «Все-таки все читают стих Алексея Толстого:
Шибанов молчал. Из пронзенной ноги
Кровь алым струилася током… —
как
Шибанов молчал из пронзенной ноги…»
Для футуриста Маяковского, впрочем, сбрасывать классиков с парохода современности – дело святое, да и не о нем сейчас речь.
Однако похоже, что и сам молодой граф к литературным штудиям своим относился пока еще не слишком всерьез. Развлечений и без того хватало. Вместе с двумя своими двоюродными братьями Жемчужниковыми (тоже веселыми и блестящими молодыми людьми) Алексей Константинович регулярно учинял в городе Петербурге всяческие безобразия – как выражаются биографы, «невинного, но все-таки вызывающего свойства». Например, посылали приезжих, искавших квартиру, на Пантелеймоновскую, 9, где, мол, помещения сколько угодно, – и гости столицы, проследовав по заданному маршруту, стучались прямехонько в ворота жутковатого III Отделения. Мемуаристы рассказывают, как один из кузенов объездил ночью в мундире флигель-адъютанта главных петербургских архитекторов, сообщив им, что провалился Исаакиевский собор, и приказал от имени государя явиться утром во дворец, и как был раздражен, узнав об этом, Николай I. Архитекторы эти все утром спешно явились к императору, и, что любопытно, никто из них по дороге не удосужился взглянуть на вышеупомянутый купол, который и по сей день пребывает в полном порядке.
Особенно отличался в шалостях Александр Жемчужников. Так, ему пришла фантазия ежедневно подлавливать на прогулке тогдашнего министра финансов Вронченко и, проходя мимо Вронченко, с которым он лично не был знаком, останавливаться, снимать шляпу и громко объявлять: «Министр финансов, пружина деятельности», – а затем шествовать далее… Развлечение закончилось лишь после того, как затравленный Вронченко пожаловался обер-полицмейстеру, и Жемчужникову под страхом высылки «вменено было его высокопревосходительство министра финансов не беспокоить»… Историк литературы (бывают и такие) Н. Котляревский писал, что проделок, которые кузенам приписывались, «столь много и так они экстравагантны, что если Толстой и Жемчужниковы во всех этих шалостях и неповинны (а это возможно), то один тот факт, что такие проделки им приписывались, уже показывает, какого о них были мнения».
Но и эти невинные забавы молодым разгильдяям вскоре прискучили, и тогда они придумали Козьму Пруткова и от его имени печатали в очень серьезном журнале «Современник» дурацкие, на первый взгляд, стишки и афоризмы. Алексей Константинович и его кузены задумывали Козьму Пруткова как пародию: тупой чиновник вдруг начинает писать стихи и изрекать прописные истины.
Вот что писали в некрологе этому вымышленному персонажу его же авторы, к тому времени уже повзрослевшие и остепенившиеся: «Он в большей части своих афоризмов или говорит с важностью „казенные“ пошлости, или вламывается с усилием в открытые двери, или высказывает такие „мысли“, которые не только не имеют соотношения с его временем и страною, но как бы находятся вне всякого времени и какой бы ни было местности. При этом в его афоризмах часто слышится не совет, не наставление, а команда. Его знаменитое „Бди!“ напоминает военную команду: „Пли!“ Да и вообще Козьма Прутков высказывался так самодовольно, смело и настойчиво, что заставил уверовать в свою мудрость. По пословице „Смелость города берет“, Козьма Прутков завоевал себе смелостью литературную славу. Будучи умственно ограниченным, он давал советы мудрости; не будучи поэтом, он писал стихи и драматические сочинения; полагая быть историком, он рассказывал анекдоты, не имея ни образования, ни хотя бы малейшего понимания потребностей отечества, он сочинял для него проекты управления. – „Усердие все превозмогает!“»
Литературная деятельность Козьмы Петровича Пруткова продолжалась двенадцать лет: началась она с водевиля «Фантазия», в январе 1851 года поставленного на сцене Александрийского театра и запрещенного цензурой после первого же представления, а закончилась публикацией в апреле 1863 года упомянутого некролога и двух посмертных произведений. За это время вымышленный персонаж приобрел массу поклонников, оброс биографией и накопил немалый творческий багаж – в собрание сочинений Пруткова (оно только с 1884 по 1917 годы переиздавалось двенадцатикратно) вошли басни, эпиграммы, стихотворные посвящения, «переводы», драматические произведения, афоризмы и знаменитейший проект «О введении единомыслия в России», в котором обоснована актуальная и по сей день идея о необходимости установления в нашем отечестве «единообразной точки зрения на все общественные потребности и мероприятия правительства» в противодействие «пагубной наклонности человеческого разума обсуждать все происходящее»…