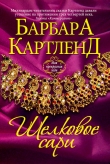Текст книги "Покойный Маттио Паскаль"
Автор книги: Луиджи Пиранделло
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)
Подбегая к указанному месту, я был уверен, что самоубийца, простертый на траве, – именно он. Однако вместо испанца я увидел того бледного юношу, который, напуская на себя сонный и безразличный вид, вытаскивал из карманов панталон золотые и, не глядя, ставил их.
Здесь, посреди аллеи, он казался меньше ростом. Он лежал в спокойной позе, сдвинув пятки, словно сам опустился на землю, чтобы не ушибиться при падении. Одну руку он прижал к телу, другую чуть-чуть откинул в сторону, сжав кулак и вытянув указательный палец, словно все еще спускал курок. Около этой руки лежал револьвер и – несколько поодаль – шляпа. Мне сначала показалось, что пуля вышла через левый глаз: из него на лицо вытекло много теперь уже запекшейся крови. Но нет, кровь, правда, брызнула и оттуда, равно как из ноздрей и ушей, но большая часть ее вылилась из дырочки в правом виске прямо на желтый песок аллеи, который весь пропитался ею. Вокруг жужжала целая дюжина ос; некоторые особенно подлые садились прямо на глаз. Стоявшие вокруг люди не догадались прогнать их. Я вынул из кармана платок и закрыл им жестоко изуродованное лицо несчастного. Никто из присутствующих не почувствовал ко мне признательности за это: я отнял у них самую интересную часть зрелища. Я убежал из сада, вернулся в Ниццу и в тот же день уехал. У меня было около восьмидесяти двух тысяч лир.
Я мог себе представить все на свете, за исключением того, что в тот же день вечером и со мной случится нечто подобное.
7. Я пересаживаюсь в другой поезд
Я думал так:
«Выкуплю Стиа, поселюсь в деревне, сделаюсь мельником. Человеку лучше жить поближе к земле; под ней – может быть, еще лучше.
Каждое ремесло в конце концов дает известное утешение. Даже ремесло могильщика. Мельник может утешаться стуком жерновов и мукой, летающей в воздухе и покрывающей его с ног до головы.
Уверен, что сейчас на мельнице даже дырявого мешка не найдешь. Но как только мельница будет моя… «Синьор Маттиа, нужна новая задвижка! Синьор Маттиа, сломался подшипник! Синьор Маттиа, полетели зубцы на шестерне».
Все будет так, как при покойной матушке, когда наши дела вел Маланья.
И пока я буду присматривать за мельницей, управляющий будет красть урожай с полей; а если я примусь следить за управляющим, мельник начнет воровать помол. Словом, мельник, с одной стороны, и управляющий – с другой, будут как бы раскачивать качели, а я, находясь между ними, буду наслаждаться полетом.
А может быть, лучше вынуть из почтенного сундука моей тещи один из старых костюмов Франческо Антонио Пескаторе, которые вдова хранит в нафталине и перце как священные реликвии, надеть его на Марианну Донди и послать ее в Стиа и в качестве мельника, и как наблюдателя за управляющим.
Деревенский воздух, несомненно, окажется полезен моей жене. Конечно, при появлении тещи листья на иных деревьях, вероятно, свернутся, а птицы онемеют, но источник, будем надеяться, все-таки не пересохнет. А я останусь один-одинешенек библиотекарем в Санта-Мария Либерале».
Так размышлял я, а поезд безостановочно шел вперед. Стоило мне закрыть глаза, как передо мной с невероятной отчетливостью немедленно представал труп юноши в аллее, казавшийся таким маленьким и тихим под большими деревьями, неподвижными в свежем утреннем воздухе. Поэтому я вынужден был отвлекать себя другим видением, не менее кошмарным, но не столь кровавым в буквальном смысле слова, – я вспоминал о моей теще и жене. И я наслаждался, представляя себе сцену моего возвращения после тринадцати дней таинственного отсутствия.
Я был уверен (мне казалось, что я вижу все это как наяву), что обе они при моем появлении изобразят самое презрительное равнодушие и едва бросят на меня взгляд, словно говоря: «А-а, ты опять здесь? И ты не свернул себе шею?»
Молчат они, молчу и я.
Но немного погодя вдова Пескаторе, без сомнения, начнет плеваться желчью и заговорит о службе, которую я, наверно, уже потерял.
Действительно, я увез с собой ключи от библиотеки; при известии о моем исчезновении квестура, вероятно, распорядилась взломать дверь. Не найдя в часовне моего тела и не получая обо мне никаких сведений, чиновники муниципалитета, видимо, ждали моего возвращения три, четыре, пять дней, неделю, а потом отдали мою должность какому-нибудь другому бездельнику.
Так что же это я рассиживаюсь? Я снова, по своей собственной вине, выброшен на улицу. Там мне и место. Две бедные женщины не обязаны содержать лентяя, каторжника, который исчезает неизвестно для каких новых подвигов, и т. д., и т. д.
А я молчу.
Постепенно из-за моего презрительного молчания желчь у Марианны Донди разливается, кипит, хлещет через край, а я все сижу и молчу. Наконец наступает минута, когда я вынимаю из нагрудного кармана бумажник и начинаю отсчитывать на столе мои тысячи: вот, вот, вот и вот.
У Марианны Донди и у жены широко раскрываются глаза и рты.
Потом:
– Где ты их украл?
…Семьдесят семь, семьдесят восемь, семьдесят девять, восемьдесят, восемьдесят одна; пятьсот, шестьсот, семьсот; десять, двадцать, двадцать пять; восемьдесят одна тысяча семьсот двадцать пять лир и сорок чентезимо в кармане.
Я спокойно собираю деньги, кладу их в бумажник и встаю:
– Вы не хотите, чтобы я жил с вами? Ну что ж, весьма благодарен! Всего наилучшего, я ухожу.
Я смеялся, думая об этом.
Мои спутники наблюдали за мной и тоже исподтишка смеялись.
Тогда, чтобы придать себе более серьезный вид, я начинал думать о кредиторах, которым мне придется раздать эти банковские билеты. Скрыть их я не смогу. Да и зачем мне они, если их нужно прятать?
Истратить их для собственного удовольствия эти собаки мне, конечно, не позволят. Чтобы восстановить свои права на мельницу в Стиа и на доходы с имения, придется заплатить также и властям, которые сдерут с меня долги в двойном размере (за мельницу с меня тоже возьмут в двойном размере) – ведь в противном случае они должны будут ждать уплаты еще бог знает сколько лет. Впрочем, теперь, предложив им наличные, я, быть может, сумею отделаться от них на более сходных условиях. И я пустился в подсчеты:
«Столько-то этому сукину сыну Реккьоне, столько-то Филиппе Бризиго – ах, с каким удовольствием я оплатил бы этими деньгами расходы по его похоронам: он по крайней мере перестал бы сосать кровь из бедняков… Столько-то Чикину Лунаро, туринцу, столько-то вдове Липпани… Кому еще? Ну, кредиторов хватает: делла Пьена, Босси, Марготтини. Вот и весь мой выигрыш.
Но разве для них я выигрывал в Монте-Карло? Какая обида, что эти два дня я проигрывал. Не будь этого, я снова был бы богат, да, богат».
Тут я начал так вздыхать, что мои спутники заулыбались еще откровеннее. Но я не мог успокоиться. Наступал вечер, воздух стал пепельно-серым, и дорожная тоска сделалась окончательно невыносимой.
На первой итальянской станции я купил газету в надежде, что чтение усыпит меня. Я развернул ее и при свете электрической лампочки начал читать. Я имел счастье узнать, что замок Балансе, вторично пущенный с аукциона, достался синьору графу де Кастеллане за два миллиона триста тысяч франков. Прилегающие земли составляют две тысячи восемьсот гектаров; это самое обширное поместье во Франции.
«Почти совсем как Стиа».
Я узнал, что германский император принял в Потсдаме в полдень марокканскую миссию и что на приеме присутствовал статс-секретарь барон Рихтхофен. Потом миссия была представлена императрице и приглашена на завтрак. И обжиралась же, наверно, там эта миссия!
Русские царь и царица приняли в Петергофе чрезвычайную тибетскую миссию, которая привезла их императорским величествам дары от далай-ламы.
«Дары от далай-ламы? – спросил я себя, задумчиво закрыв глаза. – Что это за дары?»
Вероятно, это был опий, потому что я уснул. Но опий этот действовал слабо, – я скоро проснулся от толчка: поезд остановился на очередной станции.
Я посмотрел на часы: было четверть девятого. Значит, через часок приеду.
Газета все еще была у меня в руках, и я перевернул ее в надежде найти на второй странице что-нибудь получше, чем дары далай-ламы. Взгляд мой упал на заголовок, набранный крупным шрифтом:
САМОУБИЙСТВО
Я подумал сперва, что речь идет о самоубийстве в Монте-Карло, и торопливо начал читать, но удивленно остановился на первой же напечатанной петитом строчке: «Нам телеграфируют из Мираньо…»
Мираньо?
Кто же покончил с собой в моем городке? Я прочитал:
«…вчера, в субботу 28-го, в мельничном шлюзе был замечен сильно разложившийся труп…»
Внезапно туман застлал мне глаза; мне показалось, что я вижу на следующей строке название моего бывшего поместья; а так как мне трудно было читать мелкий шрифт одним глазом, я встал и подошел поближе к свету.
«…разложившийся труп. Мельница расположена в имении Стиа, примерно в двух километрах от нашего городка. Когда на место прибыли судейские власти и другие должностные лица, труп был извлечен из шлюза на предмет освидетельствования и отдан под охрану. Позже он был опознан и оказался телом нашего…»
К горлу у меня подступил ком, и я как безумный посмотрел на моих спящих спутников.
«…На место прибыли… извлечен… под охрану… опознан и оказался телом нашего библиотекаря…»
Моим?
«…Прибыли на место… позже… телом нашего библиотекаря Маттиа Паскаля, исчезнувшего несколько дней назад. Причина самоубийства – денежные затруднения».
Я?
«Исчезнувшего… опознан… Маттиа Паскаль…»
Много раз подряд с дикой злостью и смятенным сердцем перечитал я эти несколько строк. В первую минуту все мои жизненные силы взбунтовались и запротестовали, словно это известие, раздражающее своей бесстрастной лаконичностью, могло быть правдой и для меня. Но что из того, что для меня оно – ложь? Для других-то оно правда. Уверенность в моей смерти, которою со вчерашнего дня прониклись все мои сограждане, невыносимо угнетала и давила меня… Я вновь посмотрел на моих спутников, и мне показалось, что и они уснули здесь, на моих глазах, с этой же уверенностью. Меня так и подмывало растрясти скорчившихся в неудобных позах пассажиров, растолкать их, разбудить и крикнуть им, что это неправда.
Возможно ли?
И я еще раз перечитал ошеломляющее известие.
Я не мог больше сидеть неподвижно. Мне хотелось, чтобы поезд остановился или рухнул в бездну; его монотонное движение, жестокое, глухое, тяжелое, автоматическое, все больше и больше усиливало мою взволнованность. Я непрерывно сжимал и разжимал пальцы, впиваясь ногтями в ладони; я мял газету и разглаживал ее, снова и снова перечитывал известие, в котором уже знал наизусть каждое слово.
«Опознан»! Но возможно ли, что меня опознали?…
«…Сильно разложившийся…» Фу!
На мгновение я увидел себя в зеленоватой воде шлюза, грязного, распухшего, отвратительного. Инстинктивным движением я скрестил руки на груди и принялся тискать и ощупывать себя пальцами.
«Нет, нет, это был не я… Но кто же это? Он, конечно, походит на меня… Может быть, у него такая же борода, такое же телосложение… И они меня опознали… «Исчезнувшего несколько дней назад». Ну и ну! Хотел бы я знать, кто это так поторопился опознать меня! Возможно ли, что этот несчастный так похож на меня? Одет как я? Совсем одинаково? Может быть, это она виновата, она, Марианна Донди, вдова Пескаторе? О, она меня тотчас же нашла, тотчас же опознала! Можно себе представить, до чего же она была поражена! «Это он, это он! Мой зять! Ах, бедный Маттиа! Ах, бедный мой сынок!» И она, наверно, даже заплакала, даже встала на колени перед трупом этого бедняги, который не может пнуть ее ногой и крикнуть: «Убирайся отсюда, я тебя не знаю».
Я весь дрожал. Наконец поезд остановился на очередной станции. Я открыл дверь и выбежал, смутно сознавая, что я немедленно должен что-то сделать – лучше всего послать телеграмму-молнию с опровержением.
Прыжок из вагона спас меня: он как бы вытряхнул из моей головы глупую навязчивую мысль, и я на мгновение увидел… да, увидел свое освобождение, новую, свободную жизнь.
У меня восемьдесят две тысячи лир, и я никому не должен отдавать их! Я мертв! Мертв! У меня нет долгов, жены, тещи… никого! Я свободен, свободен! Чего мне еще надо?
Я, вероятно, производил очень странное впечатление, когда размышлял обо всем этом, сидя на станционной скамейке. Вокруг меня толпились какие-то люди и что-то мне кричали, наконец один из них толкнул меня, потряс и крикнул еще громче:
– Поезд уходит!
– Пусть уходит! Пусть уходит, дорогой синьор! – крикнул я в ответ. – Я пересаживаюсь!
И тут меня охватило сомнение: а не будет ли опровергнуто сообщение о моей смерти? Наверно, в Мираньо уже поняли, что произошла ошибка, наверно, родные мертвеца уже объявились и опознали истинную его личность.
Прежде чем радоваться, надо как следует удостовериться, получить точные и подробные сведения. Но как добыть их?
Я пошарил в карманах, ища газету, но оказалось, что я забыл ее в поезде. Я посмотрел на пустынное полотно железной дороги, которое, сверкая, тянулось в молчании ночи, почувствовал себя словно затерянным в пустоте на этой жалкой, маленькой промежуточной станции, и сомнение охватило меня с еще большей силой: а вдруг все это мне просто приснилось?
Но нет:
«Нам телеграфируют из Мираньо: вчера, в субботу 28-го…»
Да я могу слово в слово повторить всю телеграмму. Нет никаких сомнений! И все же этого слишком мало, это никак не может удовлетворить меня. Я посмотрел на здание станции, она называлась Аленга.
Найду ли я здесь другие газеты? Я вспомнил, что сегодня воскресенье. Значит, сегодня утром в Мираньо вышла «Фольетто», единственная газета, печатавшаяся там. Во что бы то ни стало я должен раздобыть этот номер. В нем я найду все нужные мне подробности. Но разыскать «Фольетто» в Аленге вряд ли удастся. В таком случае я телеграфирую от чужого имени в редакцию газеты. Я был знаком с ее издателем Миро Кольци, Жаворонком, как называли его все жители Мираньо, с тех пор как он, еще совсем мальчиком, опубликовал под этим милым заголовком свою первую и последнюю книгу стихов.
Но ведь просьба прислать экземпляр газеты в Аленгу, несомненно, покажется Жаворонку чем-то из ряда вон выходящим. Кроме того, самое интересное известие на прошлой неделе и, следовательно, «гвоздь» воскресного номера – мое самоубийство. Так не рискую ли я возбудить подозрение, обращаясь в редакцию с таким необычным требованием?
«Полно! – успокаивал я себя. – Жаворонку даже в голову не придет, что я не утопился. Он подумает, что причина запроса – какое-нибудь другое важное сообщение, опубликованное в сегодняшнем номере. Он уже давно и мужественно борется с муниципалитетом за водо– и газопровод. Скорее всего, он решит, что просьба прислать газету связана с поднятой им кампанией».
Я вошел в здание станции.
К счастью, кучер единственного здешнего экипажа – почтовой повозки – задержался на станции, чтобы поболтать с железнодорожными служащими; езды до поселка было примерно три четверти часа, и дорога все время шла в гору.
Я влез в эту разболтанную, дребезжащую повозку без фонарей – и вперед, в ночной мрак!
Мне нужно было многое обдумать; время от времени при мысли о том сильном потрясении, которое вызвало во мне столь близко касавшееся меня известие, я испытывал чувство мрачного, неведомого мне доныне одиночества, и мне, как давеча, при виде безлюдного железнодорожного полотна, на мгновение показалось, что я очутился в пустоте; я был беспощадно вырван из прежней жизни, пережил самого себя и в совершенной растерянности стоял перед лицом новой, посмертной жизни, не зная, как она сложится.
Чтобы отвлечься, я спросил у извозчика, есть ли в Аленге газетный киоск.
– Как вы сказали? Нет, синьор.
– А разве в Аленге не продаются газеты?
– Продаются, синьор. Ими торгует аптекарь Гроттанелли.
– А гостиница у вас есть?
– Есть трактир Пальментино.
Извозчик слез с повозки, чтобы хоть немного помочь старой кляче, которая сопела от натуги и чуть ли не тыкалась носом в землю. Я едва видел его в темноте. Когда он раскуривал трубку, я на мгновение различил черты его лица, контуры фигуры и подумал: «Если бы он знал, кого везет!..»
И немедленно задал этот же вопрос самому себе:
«Кого он везет? Но ведь я и сам не знаю этого. Кто же я теперь? Надо поразмыслить. По крайней мере надо сейчас же придумать себе имя, которым можно подписать телеграмму, какое-нибудь имя, чтобы не растеряться, если в трактире спросят, как меня зовут. Покамест достаточно придумать имя. Ну, так как же меня зовут?»
Я никогда бы не подумал, что выбор имени и фамилии будет стоить мне такого труда. Особенно фамилии. Я наугад нанизывал слоги – получались разные фамилии: Строццани, Парбетти, Мартони, Бартузи, но все они лишь еще больше раздражали меня. Я не видел в них никакого значения, никакого смысла. Как будто фамилия должна что-то означать… Ладно, выберу первое, что придет на ум. Например, Мартони… А почему бы и нет? Карло Мартони. Ну вот и готово. Но через минуту я уже отвергал его. Пусть лучше будет Карло Мартелло… И мучение начиналось снова.
Я доехал до поселка, так и не выбрав себе имени. К счастью, аптекарю, который совмещал обязанности фармацевта, телеграфиста, почтового чиновника, продавца канцелярских товаров, газетчика, мошенника и не знаю еще кого, имени не понадобилось. Я купил номера тех немногих газет, которые он получал, – генуэзские «Каффаро» и «XX век» – и осведомился, не найдется ли у него «Фольетто» из Мираньо.
У аптекаря Гроттанелли была совиная голова и круглые, словно стеклянные глаза, на которые он время от времени с видимым усилием опускал хрящеватые веки.
– «Фольетто»? Не знаю такой.
– Это провинциальная еженедельная газетка, – пояснил я. – Мне хотелось бы получить ее. Само собой разумеется, сегодняшний номер.
– «Фольетто»? Не знаю такой, – твердил он.
– Ну ладно. Знаете вы ее или нет, неважно Я заплачу за телеграфный запрос в редакцию, можно ли получить десять-двадцать экземпляров завтра же или, во всяком случае, как можно скорее? Это осуществимо?
Аптекарь не отвечал и, устремив незрячий взгляд в пространство, все повторял: «Фольетто»? Не знаю такой…» Наконец он согласился сделать под мою диктовку телеграфный запрос с обратным адресом на свою аптеку. На другой день, после бессонной ночи, взбудораженный бурным потоком мыслей, я получил в трактире Пальментино пятнадцать экземпляров «Фольетто».
В двух генуэзских газетах, которые я прочитал, как только остался один, я не нашел ни малейшего намека на свое самоубийство. У меня дрожали руки, когда я развернул «Фольетто». На первой странице – ничего. Я стал искать на развороте, и мне в глаза немедленно бросилась траурная рамка вверху третьей страницы, а в ней большими буквами мое имя:
МАТТИА ПАСКАЛЬ
«Уже несколько дней мы не имели о нем сведений. Это были дни страшной скорби и невыразимой тревоги за несчастную семью, скорби и тревоги, разделяемой лучшей частью наших сограждан, которые уважали и любили Паскаля за душевную доброту, веселость и прирожденную скромность – черты характера, позволявшие ему, обладателю многих других достоинств, терпеливо и без всякой приниженности переносить удары враждебной судьбы, ибо в последнее время бездумное довольство сменилось для него весьма стесненными обстоятельствами.
Когда после первого дня необъяснимого отсутствия мужа его взволнованная семья направилась в библиотеку Боккамаццы, где он весьма усердно трудился, проводя там целые дни и стараясь обогатить свой живой ум серьезным чтением, дверь оказалась запертой; эта замкнутая дверь немедленно породила черное и мучительное подозрение, которое вскоре, однако, было заглушено надеждой, теплившейся несколько дней и постепенно слабевшей, – надеждой, что Маттиа Паскаль уехал из родного города по каким-то своим тайным соображениям.
Увы, действительность опровергла эти упования!
Недавняя единовременная утрата обожаемой матери и единственной дочери, последовавшая за потерей наследственного состояния, глубоко потрясла душу нашего бедного друга. Еще около трех месяцев тому назад он пытался прервать свои скорбные дни в шлюзе той самой мельницы, которая напоминала ему о прежнем процветании его дома и счастливом прошлом.
Нам, всхлипывая над распухшим, разложившимся трупом, поведал об этом заплаканный старый мельник, верный и преданный слуга прежних хозяев. Наступила мрачная ночь. Близ трупа, охраняемого двумя чинами королевской полиции, был поставлен красный фонарь, и старый Филиппо Брина (называем его имя в назидание всем добрым людям) говорил и плакал вместе с нами. В ту печальную ночь ему удалось помешать несчастному осуществить свое безумное намерение, но в этот раз другого Филиппо Брины, который вторично воспрепятствовал бы страшному замыслу, не нашлось, и Маттиа Паскаль пролежал всю ночь, а может быть, и половину следующего дня в мельничном шлюзе.
Мы не будем даже пытаться описывать душераздирающую сцену, которая разыгралась позавчера под вечер, когда неутешная вдова предстала перед неузнаваемыми жалкими останками любимого друга жизни, ушедшего вслед за их дочуркой.
Весь городок принял участие в ее горе и пожелал выразить ей сочувствие, проводив в последний путь ее супруга, над телом которого произнес краткую прочувствованную речь коммунальный советник кавалер Помино.
Мы выражаем самое глубокое соболезнование погруженной в траур семье несчастного и брату его Роберто, живущему вдали от родного Мираньо, и в последний раз с растерзанным сердцем говорим нашему доброму Маттиа: «Vale, [21]21
Прощай (лат.).
[Закрыть]возлюбленный друг, vale!».М.К.»
Даже без этих инициалов я догадался бы, что некролог принадлежит перу Жаворонка.
Должен прежде всего признаться, что мое имя, напечатанное под черной чертой, хоть я и ожидал этого, не только не обрадовало меня, но даже вызвало у меня отчаянное сердцебиение; поэтому, прочитав несколько строк, я вынужден был прервать чтение: «страшная скорбь» и «невыразимая тревога» моей семьи, равно как любовь и уважение сограждан к моим добродетелям и служебному усердию, отнюдь не рассмешили меня. Сначала я удивился тому, как неожиданно и мрачно связалось с фактом моего самоубийства воспоминание о самой несчастной в моей жизни ночи, которую я провел в Стиа после смерти матери и дочурки и которая стала теперь, пожалуй, наиболее убедительным подтверждением моего самоубийства; потом я почувствовал себя униженным и начал испытывать угрызения совести. Нет, я не покончил с собой из-за смерти мамы и дочурки, хотя в ту ночь у меня, вероятно, была такая мысль. Я действительно в отчаянии бежал из родного городка, но теперь я возвращался из игорного дома, где мне самым неожиданным образом улыбнулась судьба, которая, как видно, продолжала благоволить ко мне; вместо меня с собою покончил другой, какой-нибудь чужестранец, которого я лишил сочувствия далеких родных и друзей и – какая ирония! – обрек на то, что адресовалось совсем не ему: на притворные сожаления и даже похвальное надгробное слово напудренного кавалера Помино.
Таково было мое первое впечатление от некролога в «Фольетто».
Но потом я подумал, что этот бедный человек умер, конечно, не из-за меня и что, объявившись живым, я все равно его не воскрешу, тогда как, воспользовавшись его смертью, я не только не обманываю его родных, но даже приношу им пользу: раз для них мертв я, а не он, они могут считать его пропавшим без вести и питать надежду рано или поздно увидеться с ним.
Оставались моя жена и теща. Как я мог поверить, что они горюют о моей смерти, испытывая ту «невыразимую и страшную скорбь», которую расписывал Жаворонок в своем сенсационном некрологе. Ведь им нужно было только тихонько приоткрыть несчастному один глаз, чтобы убедиться, что это не я; право же, не имея на то желания, женщине не так уж легко принять постороннего человека за своего мужа.
Почему они так поторопились опознать меня в этом мертвеце? Уж не надеется ли вдова Пескаторе, что Маланья, взволнованный моим ужасным самоубийством и, возможно, даже почувствовавший угрызения совести, придет на помощь бедной вдове? Ну что ж, если довольны они, то я и подавно.
Умер? Утопился? Поставить на всем крест, и больше говорить не о чем! Я встал, потянулся и вздохнул с глубоким облегчением.