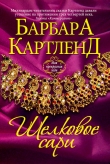Текст книги "Покойный Маттио Паскаль"
Автор книги: Луиджи Пиранделло
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
4. Было так
Однажды на охоте я в странном волнении остановился перед низеньким толстеньким стогом, из которого торчал шест, увенчанный горшком.
– Я тебя знаю! – сказал я. – Я тебя знаю… – Потом внезапно воскликнул: – Ты же Батта Маланья!
Схватив лежавшие на земле вилы, я с такой страстью воткнул их стогу в брюхо, что горшок чуть не свалился с шеста. Ну вылитый Батта Маланья, когда он, потея и отдуваясь, надевает шляпу набекрень!
Он как-то весь скользил: скользили вверх и вниз по длинному лицу брови и глаза; скользил нос над нелепыми усами и подбородком, скользили плечи, скользил дряблый живот, свисавший почти до земли, потому что портной, видя, как висит брюшко над толстенькими ножками, вынужден был скроить их владельцу самые необъятные брюки, и издали казалось, будто вместо штанов на Батте Маланье надет длинный сюртук.
Не могу понять, как при подобном лице и телосложении Маланья мог быть таким вором. По-моему, даже воры должны иметь какой-то вид, а у него и вида-то никакого не было. Он ходил тихо, покачивая животом, заложив руки за спину и с большим трудом выдавливая из себя мягкие, мяукающие звуки. Хотелось бы мне знать, как примирял он со своею совестью все те кражи, которые совершал в ущерб нам. Как я уже говорил, оправдываться перед нами у него не было надобности, но должен же он был хотя бы для самого себя придумать какую-нибудь причину, какое-нибудь извинение. Может быть, бедняга крал просто для того, чтобы развлечься.
Его действительно страшно подавляла жена, одна из тех женщин, которые требуют уважения к себе.
Он сделал ошибку, выбрав жену из более высокого круга, чем его собственный, очень низкий. Выйди эта женщина за ровню, она не была бы такой тщеславной; Маланье же она, естественно, при малейшей возможности стремилась напомнить, что она из хорошей семьи и что у них дома поступали так-то и так-то. И Маланья, чтобы походить на синьора, послушно поступал так, как требовала жена. Но это стоило ему дорого и всегда вгоняло его в пот.
К тому же вскоре после свадьбы синьора Гуенальдина заболела неизлечимым недугом, исцелиться от которого она могла лишь ценой непосильной для нее жертвы – не более не менее, как отказа от дорогих ее сердцу пирожков с трюфелями и тому подобных лакомств, а в особенности от вина. Разумеется, она пила не много – она же была из хорошей семьи, но вина ей не следовало даже в рот брать.
Когда мы с Берто были мальчиками, нас иногда приглашали к Маланье обедать. Было очень занятно слушать, как он с соответственными подходами читал жене проповедь о воздержании, в то время как сам не то, что ел, а сладострастно пожирал самые сочные блюда.
– Не понимаю, – говорил он, – как это ради мгновенного наслаждения, которое испытываешь, проглатывая кусочек вроде этого (и он глотал кусок), человек идет на то, чтобы потом целый день болеть. Ну что тут особенно вкусного, а? Уверен, что, поддавшись такому соблазну, я чувствовал бы себя после этого глубоко униженным. Розина! (Он подзывал служанку.) Дай-ка мне еще немножко. И вкусный же, однако, этот майонез!
– Майонез? – яростно взрывалась жена. – Довольно! Смотри, бог даст, ты еще поймешь, что такое больной желудок. Вот тогда ты научишься быть внимательным к жене.
– Как, Гуенальдина! Разве я не внимателен к тебе? – восклицал Маланья, подливая себе вина.
Вместо ответа жена поднималась, вырывала у него из рук стакан и выплескивала его за окно.
– Ну зачем же так? – стонал бедняга, не вставая с места.
– Затем, что для меня это яд! Ты же видишь, что я налила и себе глоточек. Так вот, возьми и вылей его за окно, как сделала я, понятно?
Маланья, обиженно улыбаясь, поочередно смотрел на Берто, на меня, на окно, на стакан, а потом говорил:
– Боже мой, но разве ты ребенок? Чтобы я?… Насильно?… Нет, дорогая, ты сама должна надеть на себя узду рассудка…
– Но как? – кричала жена. – У меня же вечно соблазн перед глазами. Я вижу, как ты нарочно пьешь, смакуешь, рассматриваешь вино на свет, чтобы раздражать меня. Убирайся, я тебе говорю. Другой бы муж, чтобы не мучить меня…
Маланья пошел и на это: он отказался от вина, чтобы подать жене пример воздержанности и не мучить ее. Зато он крал. Ну и что? Нужно же было и ему что-нибудь делать.
Однако несколько позже он узнал, что синьора Гуенальдина пьет потихоньку от него. Получалось так, что вино не причиняет ей вреда, лишь бы муж не знал об этом. Тогда и он, Маланья, начал пить, но вне дома, чтобы не раздражать жену.
Правда, красть он все же продолжал. Я знаю, что Маланья всем сердцем желал, чтобы жена вознаградила его за те бесконечные огорчения, которые она ему доставляла, и наконец произвела на свет ребенка. Тогда его воровство имело бы цель, оправдание – чего не сделаешь для блага детей!
Между тем жене день ото дня становилось хуже, и Маланья не смел даже высказать ей свое пламенное желание. А вдруг она бесплодна от рождения? Больную надо беречь: не дай бог, она еще умрет от родов… Кроме того, всегда есть и другой риск: что, если она не доносит ребенка?
Поэтому Маланья примирился со своей бездетностью.
Искренне ли? Достаточно ли он доказал это после смерти синьоры Гуенальдины? Он оплакивал ее, о, горько оплакивал и всегда вспоминал с такой почтительной преданностью, что даже не пожелал взять на ее место другую синьору – да, да, не пожелал, хотя преспокойно мог бы это сделать, так как стал теперь не только толст, но и очень богат, – а женился на здоровой, цветущей, крепкой и веселой дочери одного деревенского арендатора, и то лишь для того, чтобы никто не усомнился в его способности иметь желанное потомство. Правда, он немного поторопился, но ведь надо принять во внимание, что он был уже не юноша и не мог терять время.
Оливу, дочь Пьетро Сальвони, нашего арендатора из Дуэ-Ривьере, я знавал еще девочкой.
Благодаря ей моя мать уже начала надеяться, что я образумился и приобрел вкус к деревенской жизни. Бедняжка была вне себя от радости! Но однажды зловредная тетя Сколастика открыла ей глаза:
– И ты не видишь, дурочка, что он постоянно ходит в Дуэ-Ривьере?
– Да, ходит – на сбор оливок.
– Одной оливки, одной, одной-единственной, идиотка!
Тогда мама задала мне славный нагоняй: я, мол, собираюсь совершить смертный грех – ввести во искушение и навсегда погубить бедную девушку, и т. д., и т. д.
Но это мне не грозило. Олива была добродетельна, несокрушимо добродетельна, потому что отлично сознавала, какой вред причинит себе, уступив мужчине. Это избавляло ее от глупой робости и притворной стыдливости, делало смелой и развязной.
Как она смеялась! Губы – две вишни! И какие зубки! Однако с этих губ не удавалось сорвать ни одного поцелуя. Если я брал Оливу за руку и не соглашался отпустить, пока не поцелую хотя бы ее волосы, она, чтобы наказать меня, пускала в ход зубы.
Вот все, что я от нее видел.
А теперь эта девушка, такая красивая и свежая, стала женой Батты Маланьи… Ну что ж! У кого хватит мужества отказаться от богатства? Олива отлично знала, каким толстосумом стал Маланья. Как-то раз она наговорила мне о нем бог знает сколько плохого, а затем, только ради денег, взяла и вышла за него замуж.
Прошел год после свадьбы, прошло два, а детей все не было.
Маланья, еще много лет назад уверовавший в то, что у него не было детей от первой жены только из-за ее бесплодия и непрерывных болезней, даже отдаленно не подозревал, что причиной этого мог быть он сам. И он начал злиться на Оливу:
– Ничего?
– Ничего…
Он выждал еще один год – третий. Напрасно! Тогда он принялся открыто бранить вторую жену и в конце концов, потеряв всякую надежду и совершенно отчаявшись, стал беззастенчиво притеснять ее. Он кричал, что она обманула его, да, обманула своим цветущим видом, хотя только ради того, чтобы иметь ребенка, он и возвысил ее до положения своей супруги, до места, которое раньше занимала настоящая синьора, чьей памяти он никогда не нанес бы такого оскорбления, если бы не эта надежда.
Бедная Олива не находила слов для ответа. Она часто приходила к нам, ища сочувствия у моей матери, и та утешала ее добрым словом, уверяя, что Олива еще может надеяться, так как она молода, очень молода.
– Вам двадцать?
– Двадцать два.
Ну, значит, все в порядке! Бывают случаи, когда дети рождаются через десять, даже через пятнадцать лет после свадьбы.
Через пятнадцать? Но ведь Маланья уже стар, и если…
Еще на первом году супружества Олива заподозрила, что – как бы это сказать? – виновата не она, а муж, хотя он упорно это отрицал. Не попробовать ли?… Но нет! Выходя замуж, Олива поклялась самой себе быть честной и не хотела нарушать клятву даже для того, чтобы обрести покой.
Как я узнал об этом? Да очень просто – я ведь уже сказал, что она приходила искать утешения в наш дом; сказал я также, что знал ее еще девочкой; теперь, видя, как она плачет от дурного обращения, от глупых и беззастенчивых придирок мерзкого старикашки, я… Но неужели я должен договаривать? Словом, я получил отказ, вот и все.
Я быстро утешился. В голове у меня бродило много разных мыслей, или (это одно и то же) казалось, что бродит. Водились у меня и деньги, а они, не говоря уже обо всем прочем, наталкивают на такое, до чего без них и не додумаешься. Просаживать их мне помогал Помино Джероламо Второй, который, ввиду мудрой отцовской скупости, вечно сидел на мели.
Мино был нашей тенью – то моей, то Берто, поочередно. Он менялся с удивительной обезьяньей ловкостью в зависимости от того, с кем водился – с Берто или со мной. Стоило ему прицепиться к Берто, как он тотчас же становился франтом, и тогда его отец, сам не чуждый притязаний на элегантность, чуточку отпускал шнурки кошелька. Но с Берто нельзя было дружить подолгу. Когда мой брат видел, что ему подражают даже в походке, он, вероятно из боязни показаться смешным, терял терпение, начинал третировать Помино и даже прогонял его. Тогда Мино возвращался ко мне, а его отец затягивал шнурки кошелька. У меня терпения было больше, потому что Мино развлекал меня. Потом я часто раскаивался в этом, сознаваясь самому себе, что из-за него я сильно перебарщивал в разных своих затеях, поступал наперекор своей натуре или слишком бурно выражал свои чувства – и все это с единственной целью: удивить приятеля или поставить его в затруднительное положение, следствием чего, естественно, были неприятности также и для меня.
Так, однажды на охоте Мино, которому я рассказал о супружеских подвигах Маланьи, признался мне, что он тоже приглядел себе девушку – дочку кузины нашего управляющего, ради которой готов наделать глупостей. Он был на это вполне способен, тем более что девушка не казалась недоступной. Однако до сих пор ему не удавалось даже поговорить с ней.
– Сознайся, что у тебя просто не хватает смелости, – рассмеялся я.
Мино запротестовал, но что-то уж слишком сильно, покраснел.
– Со служанкой я все-таки поговорил, – торопливо добавил он. – И знаешь, я узнал от нее занятные вещи! Она говорит, что ваш Маланья торчит у них в доме и, судя по его виду, замышляет что-то скверное, а эта старая ведьма кузина поддакивает ему.
– Что же он замышляет?
– Он плачется на свою беду: у него, мол, нет детей. А злобная старуха ворчит, что это ему поделом. Похоже, что она после смерти первой жены Маланьи задумала женить его на своей дочери и пускалась ради этого на все. А когда ничего не добилась, стала болтать всякие пакости насчет этой скотины Маланьи, врага своей семьи, предавшего своих кровных, и так далее. Заодно бранила она и дочку за то, что та не сумела завлечь дядю. А теперь, когда старикан так кается, что не осчастливил племянницу, кто знает, какую еще предательскую штуку придумала эта ведьма.
Я заткнул уши руками и крикнул Мино:
– Замолчи!
В ту пору я был, в сущности, очень наивен, хотя и не казался таким. Тем не менее, узнав о сценах, которые происходили и происходят в доме Маланьи, я подумал, что подозрения служанки могут быть в известной мере оправданы, и мне захотелось для блага Оливы попробовать хоть немного улучшить их положение. Я попросил Мино дать мне адрес этой ведьмы. Мино забеспокоился насчет девушки.
– Не бойся, – ответил я, – ее я оставлю тебе.
На следующий день под тем предлогом, что сегодня истекает срок одного из векселей, о чем мне якобы случайно сказала мама, я отправился искать Маланью в дом вдовы Пескаторе.
Я нарочно бежал бегом и ворвался в дом, разгоряченный и весь в поту:
– Маланья, вексель!
Если бы даже я раньше не знал, что совесть у него нечиста, я понял бы это в тот день, увидев, как он, бледный, с искаженным лицом, вскочил и забормотал:
– Ка… какой вексель?
– Тот, срок которого истекает сегодня. Меня послала за вами мама – она очень встревожена.
Батта Маланья упал на стул и в долгом «А-а!» излил страх, который на мгновение охватил его.
– Но это же улажено!.. Все улажено!.. Черт возьми, как ты меня перепугал! Я его переписал, понятно? На три месяца, включая проценты, разумеется. И ты в самом деле бежал из-за такого пустяка? – И он закатился смехом, от которого у него долго содрогался живот; затем он указал мне на стул и представил меня дамам: – Маттиа Паскаль. Марианна Донди, вдова Пескаторе, моя кузина. Ромильда, моя племянница.
Тут же он предложил мне чего-нибудь выпить – после такого бега меня, наверно, мучит жажда.
– Ромильда, не затруднись…
Он распоряжался здесь как в собственном доме.
Ромильда встала, переглянулась с матерью и, несмотря на мои протесты, вскоре возвратилась с небольшим подносом, на котором стояли стакан и бутылка вермута. Увидев это, мать ее с недовольным видом поднялась и бросила:
– Да нет, не этот! Дай-ка сюда!
Она выхватила у дочери подносик и немного спустя вернулась с другим подносом, лакированным и сверкавшим новизной, на котором стоял великолепный ликерный прибор – посеребренный слон со стеклянной бочкой на спине, увешанный множестврм слегка позванивавших рюмок.
Я предпочел бы вермут, но пить мне пришлось ликер. Маланья и его кузина выпили вместе со мной. Ромильда отказалась.
На этот раз я задержался недолго; мне нужен был предлог, чтобы прийти сюда снова. Я объявил, что тороплюсь успокоить маму насчет векселя и что на днях надеюсь подольше насладиться обществом милых хозяек.
Судя по виду, с которым попрощалась со мной Марианна Донди, вдова Пескаторе, ее не слишком обрадовало сообщение о моем вторичном визите: она опустила глаза, поджала губы и нехотя протянула мне руку, ледяную, сухую, жилистую и желтую. Зато дочь одарила меня ласковой улыбкой, обещавшей радушный прием, и нежным взглядом грустных глаз, которые с самого начала произвели на меня большое впечатление. У этих глаз, затененных длинными ресницами, был какой-то странный зеленый цвет, да и смотрели они как-то слишком мрачно и пристально. Темные, как ночь, глаза девушки и волосы цвета воронова крыла, двумя волнами спускавшиеся на лоб и виски, особенно разительно подчеркивали ослепительную белизну кожи.
Дом был очень скромен, но среди старой мебели уже виднелись новые приобретения, претенциозные и смешные в своей вызывающей новизне, например: две большие майоликовые, еще ни разу не зажигавшиеся лампы с матовыми стеклянными колпаками вычурной формы, стоявшие на непритязательном столике с доской из пожелтевшего мрамора, на которой было укреплено потускневшее зеркало в круглой, кое-где облупившейся раме, напоминавшей разинутый рот голодного. Перед расшатанным диванчиком стоял столик на четырех позолоченных ножках с фарфоровой доской, расписанной ярчайшими цветами, чуть поодаль – стенной шкафчик японского лака и прочие сокровища. Глаза Маланьи с явным удовольствием останавливались на всех этих новых вещах, равно как на ликерном приборе, триумфально внесенном в комнату его кузиной, вдовой Пескаторе.
Стены почти сплошь были увешаны старыми, хотя отнюдь не безобразными гравюрами; некоторыми из них Маланья предложил мне полюбоваться, утверждая, что это произведения Франческо Антонио Пескаторе, его кузена, замечательного гравера (скончавшегося в Турине, в сумасшедшем доме, добавил он тихо); он пожелал также показать мне его автопортрет:
– Написан собственноручно, перед зеркалом.
Только что, глядя на Ромильду, а затем на ее мать, я решил: «Наверно, она походит на отца». Теперь, глядя на портрет, я не знал, что и думать.
Я не осмеливался делать оскорбительные предположения. Я считал Марианну Донди, вдову Пескаторе, способной на все, но как представить себе мужчину, да к тому же еще красивого, который мог бы в нее влюбиться, если, конечно, он не умалишенный, еще более умалишенный, чем ее покойный муж?
Я сообщил Мино впечатление от своего первого визита. Я говорил ему о Ромильде с таким пылким восхищением, что он сейчас же зажегся, радуясь, что мне она тоже очень понравилась и что я одобряю его выбор.
Тогда я спросил, какие у него намерения. Мать, конечно, совершенная ведьма, но дочка, я готов в этом поклясться, честная девушка. И я не сомневаюсь, что Маланья задался какой-то низкой целью; следовательно, нужно любой ценой и как можно скорее спасти бедняжку.
– Но как? – спросил меня Помино, ловивший каждое мое слово как зачарованный.
– Как? Подумаем. Нужно прежде всего все проверить, проникнуть в суть всех отношений, хорошо все изучить. Понимаешь, решение нельзя принимать вот так, на ходу. Предоставь действовать мне, я тебе помогу. Это приключение мне нравится.
– Да… но… – робко возразил Помино, который, увидя мое воодушевление, начал уже чувствовать себя не в своей тарелке. – Может быть, считаешь – жениться на ней?
– Пока я ничего не считаю. А ты, чего доброго, не боишься?
– Нет. С чего ты взял?
– С того, что ты чересчур уж торопишься. Не спеши, обдумай все хорошенько. Если мы убедимся, что она такая, какой кажется, – добрая, умная, порядочная (в том, что она красива и нравится тебе, нет сомнения, верно?), и если она из-за низости матери и этого негодяя подвергается серьезной опасности, обречена на позор, на омерзительную самопродажу, неужели ты остановишься перед таким достойным и святым поступком, как спасение ближнего?
– Я-то нет… Нет! – пробормотал Помино. – Но мой отец?…
– Он будет возражать? Из-за чего? Из-за приданого, не правда ли? Да, только из-за этого. Знаешь, она ведь – дочь художника, выдающегося художника, умершего… ну, в общем, честно умершего в Турине. Но ведь твой отец богат, и ты у него один; значит, тебе хватит на жизнь и без приданого! А если уж его не удастся убедить, тоже не бойся: улетишь из гнезда, и все устроится. Помино, неужели у тебя сердце из пакли?
Помино засмеялся, и я как дважды два четыре доказал ему, что он прирожденный муж, как иные бывают прирожденными поэтами. Я описал ему самыми живыми и соблазнительными красками его семейное счастье с Ромильдой, привязанность, заботы, благодарность, которыми она окружит своего спасителя. И в заключение объявил:
– Теперь ты должен найти способ и возможность привлечь ее внимание, поговорить с ней или написать ей. Видишь ли, для нее, опутанной этим пауком, твое письмо может стать якорем спасения. А я покамест буду почаще бывать у них в доме, чтобы следить за происходящим, улучу момент и представлю тебя. Понятно?
– Понятно.
Почему мне так захотелось выдать Ромильду замуж? Да просто так: я любил удивлять Помино. Я говорил и говорил, и все трудности словно исчезали. Я был пылок и ко всему относился легкомысленно. Может быть, именно поэтому женщины и любили меня в те дни, несмотря на мое легкое косоглазие и нескладную фигуру. На этот раз, признаюсь, я воспламенился еще больше из-за желания разорвать мерзкую паутину, сплетенную грязным стариком, оставить его с носом и помочь бедной Оливе, а также – почему бы и нет? – сделать добро девушке, которая действительно произвела на меня большое впечатление.
Разве я виноват, что Помино слишком робко выполнял мои предписания? Разве я виноват, что Ромильда влюбилась в меня вместо Помино, хотя я постоянно твердил ей о нем? Виноват ли я, в конце концов, что хитрая Марианна Донди, вдова Пескаторе, убедила меня, будто я в самое короткое время сумел преодолеть ее недоверчивость и даже сотворить чудо – несколько раз рассмешить ее своими странными выходками? Постепенно она начала складывать оружие; меня стали принимать хорошо. Я думал, что, видя у себя в доме богатого юношу (я тогда еще считал себя богатым), который по всем признакам явно влюблен в ее дочь, вдова Пескаторе в конце концов отказалась от своего низкого замысла, если, конечно, он когда-нибудь вообще приходил ей в голову. Признаюсь, в конце концов я сам стал сомневаться в этом.
Конечно, я должен был бы обратить внимание на то, что мне больше не приходилось встречаться с Маланьей у нее в доме и что не без причины же она принимала меня только по утрам. Но разве стоило придавать этому значение? Казалось, так естественно, что, желая чувствовать себя посвободней, я каждый раз предлагал прогуляться по окрестностям именно утром – это всегда приятней. К тому же я и сам влюбился в Ромильду, хотя продолжал постоянно рассказывать ей о любви Помино; да, влюбился как сумасшедший в эти прекрасные глаза, в носик, в рот, во все, даже в маленькую бородавку на затылке, в почти незаметный шрам на руке, который я так самозабвенно целовал… от имени Помино.
И все же ничего серьезного, вероятно, не произошло бы, если бы однажды утром Ромильда (мы были в Стиа и оставили мать любоваться в одиночестве мельницей) внезапно не прервала мои затянувшиеся шутки о далеком робком поклоннике, не разразилась судорожными рыданиями и не бросилась мне на шею, дрожа и заклиная меня пожалеть ее и увезти, но только подальше, подальше от дома, подальше от ненавистной матери, от всех, сейчас же, сейчас же.
Подальше? Но как я мог сделать это сейчас же?
Несколько дней спустя, еще опьяненный ею и решившись на все, я принялся искать способ уладить все no-честному. И я уже начал подготавливать свою мать к мысли о моей скорой и по долгу совести неизбежной женитьбе, когда неожиданно получил от Ромильды крайне сухое письмо, в котором она, не входя ни в какие объяснения, просила меня ни в коем случае не заботиться о ней, не появляться больше у них в доме и считать наши отношения навсегда разорванными. Ах, так? Но почему? Что случилось?
В тот же самый день к нам вся в слезах прибежала Олива и сообщила маме, что она самая несчастная женщина на свете, что спокойствие ее дома навеки нарушено. Ее муж получил доказательства, что детей у них нет не по его вине, и торжествующе заявил ей об этом.
Я присутствовал при этой сцене. Не знаю, что дало мне сил сдержаться. Вероятно, уважение к матери. Задыхаясь от гнева и отвращения, я убежал, заперся и, схватившись за волосы, долго спрашивал себя, как Ромильда могла опуститься до такой мерзости после всего, что было между нами. А-а! Достойная дочь своей матери! Они вдвоем гнусно обманули не только старика, но и меня, меня… Значит, и мать, и она бесчестно воспользовались мной для своих низких целей, для своих злодейских замыслов. А бедная Олива обездолена и погублена.
Вечер еще не наступил, а я уже, весь дрожа, бежал к дому Оливы. В кармане у меня лежало письмо Ромильды.
Заплаканная Олива собирала вещи: она решила вернуться к отцу, которому до сих пор из осторожности даже намеком не дала понять, сколько ей пришлось выстрадать.
– Что мне теперь остается? – сказала она. – Все кончено! Может быть, сойдись он с какой-нибудь другой…
– Ах, значит, ты знаешь, с кем он сошелся? – спросил я.
Она несколько раз кивнула, разрыдалась и закрыла лицо руками.
– Девушка! – воскликнула она, всплеснув руками. – А мать-то, мать! Она обо всем знала, понимаешь? Родная мать!
– И ты говоришь это мне? На, читай! – ответил я и протянул ей письмо.
Ошеломленная Олива посмотрела на листок, потом взяла его и осведомилась:
– Что это значит?
Она читала только по печатному, поэтому взгляд ее как бы спрашивал, стоит ли ей тратить столько усилий в такой момент.
– Читай, – настаивал я.
Тогда она вытерла глаза, развернула листок и медленно-медленно, по складам начала разбирать письмо. После первых же слов она взглянула на подпись, потом, широко раскрыв глаза, перевела их на меня:
– Так это ты?
– Дай сюда, – сказал я. – Я тебе прочту все целиком.
Но Олива прижала листок к груди.
– Нет, – закричала она, – я тебе его не отдам! Оно мне еще пригодится.
– Как оно может пригодиться? – спросил я, горько улыбаясь. – Покажешь мужу? Но в письме нет ни одного слова, которое разуверило бы Маланью в том, чему он так хочет верить. Как видишь, тебя ловко околпачили!
– Ах, верно! Верно! – простонала Олива. – Он явился ко мне, размахивая руками и крича, чтобы я остерегалась сомневаться в честности его племянницы!
– А что из этого следует? – сказал я с язвительным смехом. – Понимаешь, ты ничего не добьешься, если будешь отрицать. Напротив, будь осторожна и соглашайся со всем, подтверждай, что это правда, чистейшая правда, что он может иметь детей… Ясно?
Вот почему примерно месяц спустя Маланья в ярости побил жену, а потом с пеной у рта ворвался к нам в дом, крича, что он требует немедленного удовлетворения, что я обесчестил и погубил его племянницу, бедную сиротку. Он добавил, что, не желая скандала, он согласился молчать. Из жалости к бедняжке он хотел взять ребенка, когда он родится, и усыновить его, поскольку у него, Маланьи, нет своих детей. Но теперь, когда господь послал ему в утешение законное дитя от собственной жены, он уже не может, по совести не может назвать себя отцом другого ребенка, который родится у его племянницы.
– Это сделал Маттиа. Пусть Маттиа и поправляет, – закончил он, дрожа от ярости. – И немедленно! Пусть немедленно сделает все, что я сказал. Не ждите, пока я наговорю лишнего или натворю безумств.
Раз уж мы дошли до этого момента, давайте поразмыслим. В жизни я видел еще и не такое. В конце концов, выглядеть болваном… или даже чем-нибудь похуже – беда не слишком большая. И если, дойдя до этого момента, я все-таки хочу поразмыслить, то делаю это только ради логики.
Мне кажется совершенно бесспорным, что Ромильда не сделала ничего плохого, по крайней мере не старалась ввести дядю в заблуждение. Вот почему Маланья избил жену за измену и обвинил меня перед моей матерью в том, что я обесчестил его племянницу.
Ромильда действительно утверждала, что через некоторое время после нашей прогулки в Стиа мать вырвала у нее признание в любви, которая теперь неразрывно нас связывала; старая ведьма, невероятно разъярясь, кричала ей в лицо, что никогда не позволит дочери выйти замуж за бездельника, находящегося почти на краю пропасти. А поскольку Ромильда навлекла на себя самую худшую беду, какая только может произойти с девушкой, ее заботливой матери остается одно – извлечь из случившегося возможно больше пользы. Какая польза имелась в виду – догадаться нетрудно. Когда Маланья в обычный час явился к ним, мать под каким-то предлогом ушла и оставила Ромильду наедине с дядей. Тогда девушка, как она сама рассказывала, вся в слезах бросилась к его ногам, поведала о своем горе и о том, чего требовала от нее мать; она просила его вмешаться и принудить мать к более честному поведению, потому что она, Ромильда, принадлежит другому и хочет остаться ему верной.
Маланья растрогался, разумеется, до известного предела. Он сказал Ромильде, что она еще несовершеннолетняя, а потому покамест находится под властью матери, которая при желании может начать против меня судебное дело, что он сам, по совести говоря, не может одобрить брачный союз племянницы с шалопаем и безмозглым расточителем вроде меня и поэтому не вправе дать подобный совет ее матери; он добавил, что она должна кое-чем пожертвовать, дабы успокоить справедливый и естественный материнский гнев, и что эта жертва впоследствии принесет ей счастье; закончил он заявлением, что в конце концов в его силах сделать лишь одно – позаботиться (при условии, конечно, строжайшего соблюдения тайны) о новорожденном, даже заменить ему отца, так как у него самого нет детей, а он давно хочет иметь ребенка. «Можно ли, – спросил я себя, – поступить честнее?»
В самом деле, он намерен возвратить ребенку то, что украл у его отца.
Разве он после этого виноват, что я по неблагодарности и легкомыслию сам все расстроил?
Двое? Нет! Двоих он не хочет, черт возьми!
Ему казалось, что двое – это слишком много, и казалось, вероятно, потому, что Роберто, как я уже говорил, выгодно женился. Видимо, Маланья решил, что не так уж сильно навредил моему брату, чтобы платить за двоих.
В конце концов, имея дело с такими хорошими людьми, я не мог не понять, что причина всех зол – я один. Следовательно, мне за все и расплачиваться.
Сначала я презрительно отказался. Потом, уступая мольбам матери, которая видела, что наш дом рушится, и надеялась, что я спасу себя браком с племянницей своего врага, я уступил и женился.
Над моей головой висел грозный гнев Марианны Донди, вдовы Пескаторе.