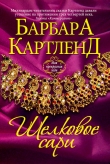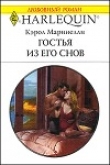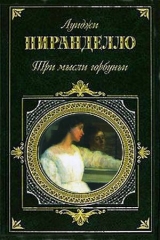
Текст книги "Покойный Маттио Паскаль"
Автор книги: Луиджи Пиранделло
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 17 страниц)
Но я возразил ему, что, в сущности, не узаконил своего существования и не возвратился к своим частным личным обстоятельствам. Моя жена теперь жена Помино, и я не могу в точности сказать, кто же я, собственно, такой.
На кладбище в Мираньо, на могиле неизвестного бедняги, покончившего с собой в Стиа, еще лежит плита с надписью, составленной моим приятелем Жаворонком:
ПОТЕРПЕВ ОТ ПРЕВРАТНОСТЕЙ СУДЬБЫ,
МАТТИА ПАСКАЛЬ,
БИБЛИОТЕКАРЬ.
БЛАГОРОДНОЕ СЕРДЦЕ, ОТКРЫТАЯ ДУША, ЗДЕСЬ ДОБРОВОЛЬНО УПОКОИЛСЯ.
ТЩАНИЕМ ЕГО СОГРАЖДАН ПОЛОЖЕНА СИЯ ПЛИТА.
Я отнес на могилу, как и намеревался, венок из цветов и теперь иногда прихожу сюда поглядеть на себя – умершего и погребенного. Какой-нибудь любопытный следит за мной издалека и, хорошенько разглядев меня, спрашивает:
– Но вы-то кто ему будете?
Я пожимаю плечами, прищуриваюсь и отвечаю:
– Ах, дорогой мой… Я ведь и есть покойный Маттиа Паскаль.
1904
Послесловие
О Щепетильных соображениях творческой фантазии [39]39
Первоначально Пиранделло опубликовал это послесловие в виде эссе в газете «Идеа национале» от 22 июня 1921 года как ответ на критическую статью, и с того времени оно включалось во все издания романа.
[Закрыть]
Господин Альберт Хейнц из Буффало в Соединенных Штатах, раздираемый любовью, с одной стороны, к своей жене и, с другой – к некоей двадцатилетней девице, почел за благо пригласить и ту и другую на совет, дабы принять какое-то согласованное решение.
Обе женщины и господин Хейнц в назначенное время являются в условленное место. Они долго обсуждают вопрос и в конце концов приходят к соглашению.
Все трое решают покончить с собой.
Госпожа Хейнц возвращается домой, стреляется из револьвера и умирает. Тогда господин Хейнц и влюбленная в него двадцатилетняя девица, видя, что со смертью госпожи Хейнц отпали все препятствия к их счастливому соединению, соображают, что у них нет больше никаких причин для самоубийства, и решают остаться в живых и пожениться. Однако судебно-следственные власти расценили все совершенно иначе и арестовали их.
Какой тривиальный исход дела!
(См. нью-йоркские утренние газеты от 25 января 1921 года.)
Допустим, какому-нибудь злополучному драматургу придет в голову никудышная мысль изобразить подобный случай на сцене.
Можно с уверенностью сказать, что его творческая фантазия прежде всего проявит щепетильное стремление какими-либо героическими средствами исправить нелепость самоубийства госпожи Хейнц, дабы сделать его хоть сколько-нибудь правдоподобным.
Но с такой же уверенностью можно утверждать, что, к каким бы героическим средствам ни прибегал драматург, девяносто девять театральных критиков из ста заявят, что самоубийство это нелепо, а сюжет пьесы неправдоподобен.
Наша благословенная жизнь полна самых бесстыдных нелепостей, и малых и больших, но она обладает тем бесценным преимуществом, что совершенно спокойно обходится без глупейшего правдоподобия, которому искусство считает себя обязанным подчиняться.
Нелепости, происходящие в жизни, не нуждаются в том, чтобы казаться правдоподобными, так как они на самом деле происходят – в противоположность нелепостям в искусстве, которым необходимо быть правдоподобными для того, чтобы показаться истинными. И вот, достигнув правдоподобия, они зато перестают быть нелепостями.
Случай из жизни может быть нелепым. Произведение искусства, если оно действительно произведение искусства, не может себе это позволить.
Отсюда следует, что глупо утверждать, будто то или иное произведение нелепо и неправдоподобно с точки зрения требований жизни.
С точки зрения требований искусства – да; с точки зрения требований жизни – нет.
В природе есть мир, населенный животными и потому изучаемый зоологией.
В число населяющих его животных включается и человек.
Зоолог может, говоря о человеке, сказать, например, что он животное не четвероногое, а двуногое и что, не в пример обезьяне, или, скажем, ослу, или павлину, у него нет хвоста.
С человеком, о котором говорит зоолог, никогда не может случиться такое несчастье, как, допустим, потеря ноги и замена ее деревянной, потеря живого глаза и замена его стеклянным. Человек, изучаемый зоологом, всегда обладает двумя ногами, и ни одна из них не деревянная; у него всегда два глаза, и ни один из них не стеклянный.
Спорить с зоологом невозможно: если вы покажете ему человека с деревянной ногой или со стеклянным глазом, он ответит вам, что это его не касается, так как это не человек вообще, а некий определенный человек. Правда, мы, со своей стороны, можем ответить зоологу, что человека, с которым он имеет дело, не существует, но зато существуют человеки,из которых ни один не тождествен другому и у которых, на их беду, бывают деревянная нога или стеклянный глаз.
Тут мы задаем себе вопрос: надо ли рассматривать как зоологов или как литературных критиков тех господ, кои, вынося суждение о романе, рассказе или пьесе, осуждают тот или иной персонаж, то или иное изображение событий и чувств не с точки зрения искусства, что было бы совершенно справедливо, а с точки зрения человечества, каковое они, видимо, очень хорошо знают, словно оно и впрямь существует в некоем абстрактном мире, то есть за пределами бесконечно разнообразной совокупности людей, способных творить все те пресловутые нелепости, которым незачем казаться правдоподобными, ибо они и без того вправду происходят?
Между тем по своему личному опыту в отношении подобной критики я считаю весьма примечательным следующее обстоятельство. Зоолог считает, что человек отличается от прочих животных тем, что он мыслит, в то время как животные не мыслят. Однако способность мыслить (иначе говоря, то, что свойственно именно человеку) столько раз представлялась господам критикам не своего рода избытком человечности, а, напротив, ее нехваткой у многих моих невеселых персонажей. Для этих критиков, надо полагать, человечность есть нечто более относящееся к области чувства, чем разума. Но если уж говорить отвлеченно, как это делают критики, то, может быть, окажется верным и то, что человек никогда не мыслит так страстно (разумно или неразумно – это ничего не меняет), как тогда, когда страдает, потому что он ведь стремится узнать причину своих страданий, выяснить, кем они ему даны и справедливо ли даны. А когда он наслаждается, то упивается наслаждением, не рассуждая, словно наслаждение – его право.
Судьба животных – страдать, не рассуждая. Тот, кто страдает и в то же время мыслит (именно потому, что страдает), для этих господ критиков не человечен.И вот получается так, что тот, кто страдает, должен быть подобен животному, и человеченон только тогда, когда уподобляется животному.
Однако недавно я встретил критика, которому весьма благодарен.
Он спрашивает других критиков, откуда они берут критерий для того, чтобы говорить о моей нечеловечнойи, видимо, неизлечимой «рассудочности», о парадоксальной неправдоподобности моих сюжетов и персонажей и с этих позиций судить о моем творчестве?
«Из так называемой нормальной жизни? – задает он вопрос. – Но что она такое, как не просто система отношений, которые мы выбираем из хаоса повседневных событий и произвольно именуем нормальными». И свое рассуждение он заканчивает так: «Мир, созданный искусством художников, можно судить только по критерию, почерпнутому из самого этого мира».
Должен добавить в похвалу этому критику по сравнению с другими критиками, что, взяв меня как бы под защиту, он, несмотря на это и даже именно поэтому, все же неодобрительно отозвался о моем произведении. По его мнению, я не сумел придать своему повествованию и своим персонажам общечеловеческое значение и смысл. Не сумел настолько, что тот, кто стал бы высказываться о моей вещи, неизбежно задал бы себе недоуменный вопрос: не сознательно ли я поставил перед собой ограниченную задачу – изложить некоторые любопытные случаи, своеобразные психологические состояния?
Но что, если общечеловеческое значение и смысл моих сюжетов и персонажей, в которых, как выражается названный критик, противопоставлены реальность и иллюзия, индивидуальность и ее общественное лицо, что, если это общечеловеческое значение заключается именно в значении и смысле такого первичного противопоставления? И что, если само противопоставление реальности и иллюзии по содержанию своему всегда оказывается переменчивым, поскольку всякая сегодняшняя реальность неизбежно представится нам завтра иллюзией, однако иллюзией тоже неизбежной, а вне ее для нас никакой реальности не существует? Что, если этот общечеловеческий смысл в том и состоит, что какой-то мужчина и какая-то женщина, поставленные волей других людей или же собственной волей в положение тягостное, ненормальное с общественной точки зрения и, если угодно, нелепое, остаются в нем, терпят его и не скрывают от других то ли по своей слепоте, то ли по своему исключительному простосердечию, пока не увидят его сами? Ибо, едва они его увидят, словно в зеркале, возникшем перед ними, они уже не смогут его терпеть, ощутят весь его ужас и выйдут из него или, если выйти из него для них невозможно, будут испытывать смертную муку. А может быть, общечеловеческий смысл в том и состоит, что мы принимаем положение ненормальное с общественной точки зрения, даже если видим это положение, как в зеркале, которое в данном случае кажется нам нашей иллюзией? Тогда мы словно играем на сцене, но при этом испытываем настоящие муки до тех пор, пока еще возможно играть под удушающей нас маской, которую мы сами на себя надели, которую нам навязали другие люди или жестокая необходимость, до тех пор, пока под этой маской какому-нибудь слишком уж живому нашему чувству не будет нанесена такая глубокая рана, что мы открыто восстанем, сорвем маску и растопчем ее.
«Тогда внезапно, – говорит уже упоминавшийся критик, – волна живой человечности захлестывает эти персонажи, марионетки становятся существами из плоти и крови, и из уст их вырываются слова, опаляющие душу, терзающие сердце».
Еще бы! Наше живое, неповторимое лицо выступило из-под этой маски, делавшей нас марионетками в наших собственных руках или в руках других людей, заставлявшей нас казаться жесткими, деревянными, угловатыми, незавершенными, неотделанными, сложными и напыщенными, как все то, что делается и заводится не само собою, а под давлением обстоятельств в положении ненормальном, невероятном, парадоксальном – одним словом, таком, что под конец мы уже не в силах терпеть и восстаем против него.
Следовательно, если возникает путаница, то она устроена сознательно, если чувствуется хитрая выдумка, то она тоже вполне сознательна. Но не я придумываю и запутываю, а сам сюжет, сами персонажи. И все это, в сущности, раскрывается внезапно: часто перипетии действия слагаются в одно целое тут же на месте и выставляются напоказ зрителям в тот самый момент, когда возникают и комбинируются. Здесь уже заключено все: маска для одного единичного спектакля; комбинации ролей; то, чем мы бы хотели или должны были быть; то, чем мы кажемся другим, в то время как сами лишь до известной степени понимаем самих себя; грубая, неясная метафора нашего подлинного существа; сложное нередко сооружение, которое мы делаем из самих себя или которое из нас делают другие. Да, это действительно сложная выдумка, где каждый, повторяю, сознательно оказывается своей собственной марионеткой до тех пор, пока наконец всему этому балагану не наносится сокрушительный удар.
Думаю, что могу только порадоваться успехам моего воображения: отличаясь крайней щепетильностью, оно сумело представить в качестве вполне реальных жизненных неурядиц те, что оно само придумало, то есть недостатки в том искусственном сооружении, которое мои персонажи воздвигали над собой и над своей жизнью или которое воздвигли для них другие – словом, недостатки маски,пока она вдруг не оказывается сорванной.
Но еще большее утешение я почерпнул в самой жизни или, вернее, в хронике происшествий через двадцать лет после издания моего романа «Покойный Маттиа Паскаль», который сейчас снова выходит в свет.
Когда он появился в первый раз, то в почти единодушном хоре его критиков не было, пожалуй, ни одного голоса, который не упрекнул бы его за неправдоподобие.
Так вот, сама жизнь соблаговолила дать мне доказательство его истинности, притом доказательство исключительно полное, вплоть до некоторых характернейших подробностей, в свое время изобретенных моей фантазией без чьей-либо подсказки.
Вот что напечатано было в «Коррьере делла сера» от 27 марта 1920 года:
«ЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК ВОЗЛАГАЕТ ВЕНОК НА СВОЮ СОБСТВЕННУЮ МОГИЛУ
На днях обнаружился удивительный случай двоемужества, оказавшийся возможным вследствие того, что первый муж был признан умершим, но на самом деле оказался живым.
Изложим вкратце предысторию данного происшествия. В декабре 1916 года в районе Кальвайрате несколько крестьян вытащили из канала «Пять шлюзов» труп мужчины в фуфайке и коричневых брюках. О происшествии дано было знать в полицию, которая предприняла расследование. Вскоре после этого труп был опознан некоей Марией Тедески, моложавой женщиной лет сорока, а также некими Луиджи Лонгони и Луиджи Майоли и оказался телом электротехника Амброджо Казати ди Луиджи, рождения 1869 года, мужа Тедески. Утопленник действительно был очень похож на Казати.
Показания опознавших, как выяснилось, отнюдь не были бескорыстными, что в особенности относится к Майоли и Тедески. Настоящий Казати был, оказывается, жив! Он с 21 февраля предшествовавшего года находился в тюремном заключении за присвоение чужой собственности и еще до того разошелся со своей женой, хотя они не разводились юридически. По истечении положенных семи месяцев Тедески вышла вторым браком за Майоли, не наткнувшись ни на какие бюрократические препоны. Казати отбыл срок наказания 8 марта 1917 года и только тогда узнал, что он… умер, а его жена вторично вышла замуж и выехала неизвестно куда. Все это выяснилось, когда он отправился в адресный стол на площади Миссори за справкой на предмет получения вида на жительство. Чиновник в окошечке беспощадно объявил ему:
– Но вы же умерли! Ваше законное местожительство на кладбище Музокко, общий участок, могила № 550…
Все возражения человека, требовавшего, чтобы его признали живым, оказались тщетными. Но Казати намеревается добиться своего права… на воскресение из мертвых, и когда в актах гражданского состояния будет сделано соответствующее исправление, второй брак его предполагаемой вдовы окажется аннулированным.
Однако это удивительное происшествие отнюдь не огорчило Казати. Наоборот, он, по-видимому, пришел в отличное расположение духа и, стремясь изведать новые ощущения, отправился на свою собственную могилу, чтобы в знак уважения к своей собственной памяти возложить на надгробный холмик охапку душистых цветов и возжечь над ним лампадку».
Предполагаемое самоубийство в канале; труп, вытащенный из воды и опознанный женой и другим человеком, вскоре на ней женившимся; возвращение живого покойника и, наконец, возложение цветов на собственную могилу! Все фактические данные те же, разумеется, без всего того, что придавало единичному факту общечеловеческие значимость и смысл.
Не могу предположить, что синьор Амброджо Казати, электротехник, прочитал мой роман и принес цветы на свою могилу в подражание Маттиа Паскалю.
Между тем в жизни с ее великолепным презрением ко всякой правдоподобности могут найтись такой священник и такой муниципальный чиновник, которые соединят законным браком синьора Майоли и синьору Тедески, не позаботившись проверить один факт, о котором легко было навести справку, а именно: что первый муж, синьор Казати, находится не в могиле, а в тюрьме.
Воображение писателя, разумеется, оказалось бы слишком щепетильным, чтобы этим пренебречь. Теперь оно торжествует, вспоминая об упреке в неправдоподобии, который ему тогда бросали, и имея возможность показать всем и каждому, на какое вполне реальное неправдоподобие способна жизнь даже в романе, где она, сама того не сознавая, подражает искусству.
«Маски» и «лица» персонажей Пиранделло
Луиджи Пиранделло (1867–1936) была присуждена Нобелевская премия по литературе в 1934 г. за драматургию и прозу. Выступив новатором в жанре новеллы и романа, писатель наибольших успехов добился в области театрального искусства. Он стал создателем в Италии в начале XX в. новой философской драмы. Но путь к этому был долгим.
«Я вышел из хаоса», «Я сын хаоса», – любил повторять Пиранделло. В год, когда он родился на Сицилии, там разразилась эпидемия холеры и семья будущего писателя укрылась от нее в небольшом загородном доме в окрестностях Агридженто. Место это называлось «Хаос». «Итак, я сын хаоса, – вспоминал Пиранделло, – и не аллегорически, а в самом прямом смысле, потому что я родился за городом, в том месте, которое находится возле густого леса и обитателями Джирдженти [40]40
В 1927 г. было восстановлено старинное название города Агридженто (от древнегреческого Акрагант).
[Закрыть]на местном наречии называется «Хаос». Однако, называя себя «сыном хаоса», Пиранделло подразумевал и нечто большее – состояние Сицилии и всей Италии, недавно вышедшей из кровопролитной национально-освободительной борьбы (Рисорджименто), в которой участвовал и его отец. Отдельные области Италии, находившиеся прежде под властью итальянских или иностранных правителей, превратились в единое государство. Однако их население продолжало придерживаться старинных обычаев и традиций, заботиться о местных нуждах и говорить на своих диалектах. Это тоже был хаос, из которого еще только предстояло создать единую Италию.
Правящие круги страны проводили жесткую унитарную политику, не учитывая своеобразия местных условий, что вело к обострению отношений между разными частями Италии. На Сицилии в силу ее вековой экономической и культурной отсталости противоречия итальянской действительности ощущались более остро, так как новые социальные отношения приспосабливались здесь к традициям и нормам жизни, существовавшим еще с феодальной поры. Все это приводило к усилению оппозиционных настроений и неприятию политики «итальянцев из Рима», как говорили на Сицилии. И как представление о мире, утратившем гармонию и находящемся в процессе становления, в сознании Пиранделло возник образ хаоса.
Отец будущего писателя, состоятельный арендатор серных копей, хотел, чтобы сын получил техническое образование, но юный Пиранделло настоял на занятиях филологией сначала в университете в Палермо, а затем в Риме. Здесь он работает под руководством известного лингвиста Э. Моначи, по совету которого завершает свое образование в Германии. В 1891 г. Пиранделло заканчивает Боннский университет, написав работу о диалекте родной провинции. Вернувшись в Италию, он сотрудничает в журналах, с 1897 г. начинает преподавать итальянскую литературу в Римском университете, а с 1908 г. становится профессором этого университета.
Свою литературную деятельность Пиранделло начал не с поэзии, как принято думать, а с прозы. В 17 лет он написал небольшую новеллу из сицилийской жизни под названием «Домишко» (1884). Но это была лишь проба пера, о которой автор скоро забыл, обратившись к более трудному жанру, каким считалась поэзия. В 1889 г. выходит в свет его сборник стихов «Радостная боль», в котором Пиранделло обращается к античным мифам и образам. В его стихах чувствуется стремление к пантеистическому слиянию с природой, олицетворяющей царство чистоты и покоя, а также горькая насмешка над настоящим. В Бонне Пиранделло пишет две другие книги стихов: «Пробуждение Геи» и «Рейнские элегии», опубликованные в 1891 и 1895 гг., уже после его возвращения в Италию. В первой из этих книг культ языческой богини земли, связанный с прославлением природы и земных радостей, противостоит аскетическому идеалу смирения и умерщвления плоти. В «Рейнских элегиях» темы любви и природы переплетаются с прошлым и настоящим величественного Рейна. В 1896 г. выходит в свет перевод Пиранделло «Римских элегий» Гёте, который был духовно близок Пиранделло и своими языческими увлечениями.
Хотя Пиранделло и признавался, что вплоть до 1892 г. ему казалось невозможным писать иначе чем стихами, его настоящим призванием стала проза. Совет попробовать свои силы в прозе дал Пиранделло Л. Капуана, один из основателей и теоретиков веризма, нового литературного направления в Италии. Веризм (от слова «vero» – истинный, правдивый) возник после завершения национально-освободительного движения и создания единого государства как отражение нового умонастроения эпохи. [41]41
Термин появился около 1870 г. для обозначения искусства, близкого к природе. Из изобразительных искусств он проник в литературу и с конца 1870-х гг. стал употребляться наравне с понятиями «реализм» и «натурализм».
[Закрыть]Веристский кружок, куда входили видные писатели, литературные критики и журналисты Дж. Верга, Л. Капуана, Л. Стеккетти, Ф. Камерони, образовался в Милане около 1878 г. Выступая с критикой искусства Рисорджименто, ориентировавшегося главным образом на прошлое, веристы ставили своей задачей создание современной литературы, способной показать итальянское общество на новом этапе его развития.
Веристское движение возникает на базе позитивизма и опирается на теоретические труды и художественное творчество французских натуралистов, и прежде всего Э. Золя. Главным для веристов становится требование объективного изображения действительности. Вслед за своими французскими собратьями по перу веристы придают важное значение собиранию и использованию в произведении искусства жизненных фактов, или «человеческих документов». Другим не менее важным требованием веристской эстетики является изучение «среды», которую писатели понимают достаточно широко, включая в это понятие все, что окружает человека и воздействует на него, в том числе и природу. Придерживаясь принципа детерминизма – причинной обусловленности человеческого поведения, веристы полагали, что наряду с внешними причинами психология формируется и под влиянием причин внутренних – особенностей данного организма, т. е. физиологии. «Жизнь души» рассматривалась ими как некая функция организма и вместе с тем ставилась в прямую зависимость от условий существования. Пороки отдельного человека они объясняли неблагополучным состоянием общества и его негативным воздействием на индивида. Таким путем писатели пытались вскрыть общественные причины социального зла.
В своем творчестве веристы обратились к жанру наброска, зарисовки с натуры, который они заимствовали из живописи и который полностью отвечал их требованию объективного изображения действительности. В «наброске» («боццетто») в сжатой форме описывалось какое-либо событие или давалась психологическая зарисовка нравов. Он заключал в себе «человеческий документ», который, по мнению веристов, своей горькой правдой сильнее, чем вымысел, воздействует на душу. Веристская новелла и роман тесно связаны с «боццетто». Новелла отличается краткостью, лишена занимательной интриги и трагической концовки, представляя собой жизненный факт или «ломоть действительности». Роман складывается из многих «ломтей действительности», являя собой серию картин или набросков с натуры. Писатели-веристы полагали, что осуществить объективное, «научное» изучение действительности можно в рамках романа из современной жизни, который они провозгласили всеобъемлющим литературным жанром нового времени.
В духе такого классического в своей форме веризма и написана новелла Пиранделло «Домишко», которая носит подзаголовок «Сицилийский набросок» и по своей проблематике близка к сицилийским новеллам Дж. Верги из сборника «Жизнь полей» (1880). Рассказ Пиранделло состоит из пяти «боццетто», в которых на фоне живописного пейзажа рассказывается о любви молодого батрака к дочери его хозяина, о побеге влюбленных и о бессильной ярости ее отца, сжигающего свой домишко. Герои Пиранделло неотделимы от «среды» и так же вписаны в пейзаж, как и персонажи Верги.
Однако очень скоро эта отчетливая ориентация на классический веризм сменяется поисками новых путей в искусстве. Пиранделло увлекается поэзией, а затем в Германии погружается в изучение немецкой литературы и философии. Он интересуется философскими и эстетическими проблемами в тесной связи с психологией, о чем свидетельствуют заметки из его «Боннской записной книжки». В этих записях и статьях конца 1880-х – начала 1890-х гг. Пиранделло говорит о том, что современной прозе не хватает непосредственности выражения, а следовательно, и жизненности. Он утверждает, что новое поколение утратило гармонию, которой в полной мере обладали лишь древние греки, имевшие «четкое представление о жизни и человеке». Пиранделло приходит к заключению, что в последнее десятилетие наблюдается «большой сдвиг идеалов» и что позитивная философия уже не может разрешить волнующих его поколение вопросов.
В 1890-е гг. Пиранделло знакомится в Риме с Л. Капуаной, который становится его «другом и наставником», и начинает посещать литературный кружок, собиравшийся в его доме. Он принимает участие в обсуждении стихов, рассказов, статей членов кружка, а также читает то, что пишет сам. В это время Пиранделло стоит ближе к Капуане, чем к Верге, восприняв интерес Капуаны к изучению странных психологических «казусов». Свой первый роман «Марта Айала» (1893) о судьбе женщины, которую предрассудки общества едва не приводят к гибели, Пиранделло написал под влиянием Капуаны, который сам разработал эту тему с трагической развязкой в романе «Джачинта» (1879), посвященном Золя. Опубликованный в журнале роман получил более общее название – «Отверженная» (1901), а в отдельном издании 1908 г. он посвящен Капуане. Как будто роман Пиранделло развивается в традициях веризма: здесь есть «среда» – провинциальный сицилийский город, где сознание людей особенно цепко держится за старые традиции и нравственные нормы. Есть и «факт»: муж, обвинив жену в измене на основании одного лишь подозрения, изгоняет ее из дома. Однако Пиранделло показывает случайность, даже иллюзорность «факта», который не соответствует реальному положению вещей, ибо Марта не изменяла мужу. Но, раз возникнув, факт измены влияет на судьбу персонажей. Весь город ополчается против опозоренной женщины, когда же происходит ее настоящее падение и она ждет ребенка от другого мужчины, муж прощает ее и возвращает под родной кров, а сограждане возвращают ей свое уважение.
Конфликт веристского романа, заключавшийся в столкновении личности и общества (например, в романе «Джачинта»), заменяется в «Отверженной» проблемой несоответствия реального облика героини и представлений о ней окружающих, поэтому и разрешение этого конфликта у Пиранделло не трагическое, а, скорее, комическое. Сам Пиранделло называл свой роман юмористическим и жаловался, что критика не уловила этой направленности книги. Ирония и юмор не были чужды веристскому искусству. Капуана использовал иронию в «Джачинте», чтобы, как и Флобер в «Мадам Бовари», снизить трагическую развязку. У Пиранделло смысл иронии – в утверждении взгляда на жизнь как на некую игру человеческих судеб, идей или, вернее, иллюзий. В «Отверженной» писатель дал, по сути дела, новое понимание важнейших веристских постулатов.
Отход Пиранделло от веризма, отказ от изображения «среды» и ее определяющего воздействия на человека, взгляд на жизнь как на столкновение трагических и комических случайностей, внимание к подсознательным импульсам, влияющим в большей степени на психологию, чем сознание, еще более явственно обнаружились в сборнике рассказов «Любовь без любви» (1894) и в небольшом романе «Очередь» (1902).
В конце XIX – начале XX в. Пиранделло уже стоял на пороге выработки нового художественного метода, получившего впоследствии название «юморизма». Первую попытку определить свое изменившееся отношение к действительности и дать оценку состояния искусства того времени он предпринял в статье «Искусство и современное сознание» (1893), в которой более подробно говорит о кризисе идеалов, переживаемом молодым поколением, о его безверии и разочарованности. Подвергая критике позитивизм за его неспособность в новых условиях объяснить быстро меняющийся мир, Пиранделло все же не отказывается от науки, выделяя психиатрию, которая одна, по его мнению, помогает понять внутреннюю жизнь человеческого «я». Пиранделло ссылается при этом на труды по психиатрии Б.О. Мореля, М. Нордау, на книги Ч. Ломброзо. Позднее он назовет и книгу А. Бине «Изменения личности» (1892), которая произвела на него глубокое впечатление. Пиранделло заинтересовался также работой итальянского ученого Дж. Маркезини «Уловки души» (1905), посвященной той же проблеме. Эти труды как будто подтвердили мнение Пиранделло о том, что не существует «единой души», а следовательно, и единой психологии, которую изучали веристы. На ее место Пиранделло ставит комбинацию случайных и непрочных душевных состояний, составляющих, по его убеждению, психическую жизнь индивида. В этих мыслях получил отражение новый взгляд на личность.
На рубеже XIX–XX веков личность рассматривается уже не как нечто стабильное, зависимое от условий существования, а как меняющееся и непостоянное. Философское обоснование изменчивости личности находили в теории относительности Эйнштейна, из которой заимствовались лишь самые общие положения. Это вело к отрицанию закономерностей развития и причинной обусловленности явлений. В действительности видели проявление самых общих законов, содержание которых легко могло изменяться. Заменив детерминизм понятием относительности и случайности, освободили и личность от всех общественных связей. Личность получила подвижность; в ней принялись исследовать не объективные закономерности эпохи, а субъективно понятую психическую жизнь. Этому способствовало также распространение фрейдистских идей. Новый взгляд на личность формируется у Пиранделло не без влияния и его семейной драмы – разорение отца и тяжелая психическая болезнь жены, – что лишний раз как будто подтверждало мысль об изменчивости и нестабильности человеческой судьбы.
Свое новое отношение к проблеме личности и ее воплощению в искусстве Пиранделло изложил в книге «Юморизм» (1908). Жизнь в представлении писателя – бесконечный поток, постоянно изменяющийся вокруг нас и в нас самих, и в том, что «мы называем душою и что составляет все живое, этот поток продолжается незаметно… образуя наше сознание, конструируя нашу личность». Этот поток, составляющий глубинную жизнь индивида, не прекращается ни на минуту и получает отражение, или фиксируется, как говорит Пиранделло, в отдельных «формах». Затем он назовет эти «формы» «масками». Это – наши представления о нас самих и об окружающих, которые могут выразить лишь часть кроющейся в нас глубинной жизни. «Формы», т. е. наша сознательная жизнь, непостоянны и временны и легко могут быть разрушены мощным жизненным потоком.
Ставя «жизнь души» в зависимость от подсознания, Пиранделло утверждает, что в одном человеке сосуществует много душ и что наше «я» многолико. Так человеческая личность теряет свои четкие контуры и раздваивается. О комическом раздвоении собственной личности Пиранделло писал еще в 1890-е гг. в письме к своей будущей жене Антониетте Портулано: «Во мне заключены как бы два человека. Ты уже знаешь одного, другого даже я сам не знаю хорошенько. Я имею обыкновение говорить, что во мне живет «Я» большое и «я» маленькое. Эти два синьора почти постоянно ведут между собою войну, так как один испытывает неприязнь к другому. Первый молчалив и постоянно погружен в свои мысли, второй – легко ведет беседу, шутит и не прочь посмеяться и посмешить… Я полностью разделен между этими двумя лицами».