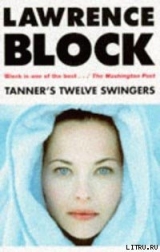
Текст книги "Бросок в Европу"
Автор книги: Лоуренс Блок
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)
Лоуренс Блок
Бросок в Европу
Глава первая
На третий день пребывания в Афинах я сидел за маленьким квадратным столиком в кафе аэропорта и наблюдал, как реактивный лайнер «Эйр Индия» выруливает на взлетную полосу, разгоняется, начинает резко набирать высоту, пробивает облачный слой и исчезает из виду. Один из семидесяти девяти пассажиров, направлявшихся в Лондон, поднялся на борт самолета по паспорту Ивена Майкла Таннера, американца.
Паспорт лгал. Я – Ивен Майкл Таннер, американец, и теперь, сидя за столиком, я испытывал смешанные чувства, наблюдая, как мой паспорт начинает собственную жизнь.
Сидящий напротив меня Георгиос Мелас поднял свой стакан, салютуя отбывшему самолету. Я последовал его примеру и пригубил узо. Греческая водка оставляла на языке вкус лакрицы и обжигала горло.
– Ты печален, – заметил Георгиос.
– Скорее нет, чем да.
– Ив такой великолепный день!
Облачный день.
– Несколько облаков...
– Холодает. Думаю, пойдет дождь.
– Ага, ты волнуешься о Пандаросе. Он благополучно доберется до Лондона, не тревожься. В Лондоне он будет в полной безопасности.
Конечно, я не мог признать, что Пандарос волнует меня исключительно как временный владелец моего паспорта. Этот молодой грек с острова Андрос недавно выразил свое недовольство политикой греческого правительства, бросив самодельную бомбу в автомобиль, в котором ехал министр обороны. Бомба не взорвалась, однако полиция и служба безопасности встали на уши. Так что Пандароса разыскивали по всей Греции.
А поскольку Пандарос был членом Панэллинского общества дружбы, а его сносный английский мог убедить англичанина, что он – американец, я просто не мог не ссудить ему свой паспорт. Он в свою очередь поклялся могилой своей матери, что паспорт вернется в мою квартиру в Нью-Йорке.
– Он прибудет домой раньше тебя, – не раз и не два говорил он мне. Хотелось бы верить.
Я вновь глотнул узо, успокоил себя мыслью о том, что в ближайшее время паспорт мне не понадобится. После пересечения границы Югославии он мог принести только вред. Если бы меня опознали, то незамедлительно повесили бы. Однажды я начал в Югославии революцию, а за такие деяния человек становится persona non grata практически в любой стране.
Георгиос махнул рукой официанту, чтобы тот принес еще по стаканчику узо.
– Ты совершил благородный поступок, Ивен, – очень серьезно сказал он. – Панэллинское общество дружбы никогда этого не забудет.
– За Общество, – я выпил вновь. Если бы не Панэллинское общество дружбы, мой паспорт не летел бы в Лондон отдельно от меня. Если бы не Латвийская армия в изгнании, я бы не направлялся сейчас в Латвию. Если бы не Македонская революционная организация, я бы не рассчитывал при первой возможности нелегально пересечь границу с Югославией.
Однако я не мог не признать, что это не вся правда. Так уж вышло, но я направлялся в Латвию главным образом потому, что не хотел лететь в Колумбию, а Карлис Миеловисиас был моим другом. Карлис был еще и латышом, а латыши – неисправимые романтики. Карлис-латыш жил в городе Провиденсе, штат Род-Айленд, а сердце его находилось в Риге, столице Латвии.
Вот почему я направлялся в Латвию.
Ехал я через Македонию не потому, что это самый кратчайший, самый безопасный или самый благоразумный путь в Латвию.
В Македонии мне хотелось повидать своего сына.
В доме Георгиоса на окраине Афин мы вновь пили узо, пока его жена готовила обед. После обеда перешли на кофе. За окном лило, как я и предполагал. Мы грелись перед камином, я открыл плоскую кожаную папку и достал маленький рисунок карандашом.
На листке бумаги нарисовали здоровенького крепенького младенца. Фотоаппараты в Македонии были редкостью, так что технический прогресс не вытеснял художников с рынка. Свою задачу они видели в сохранении максимального соответствия рисунка и оригинала. Этот неизвестный мне художник рисовал младенца, вот и на рисунке я видел младенца.
– Прекрасный ребенок, – воскликнул я.
Георгиос и его жена всмотрелись в рисунок и согласились со мной.
– Он похож на тебя, – заметила Зоя Мелас. – Глазами и, пожалуй, изгибом губ.
– Он пухлый, как его мать.
– Он в Нью-Йорке?
– Он в Македонии.
– Ага, – кивнула Зоя. – И ты хочешь с ним повидаться?
– Отправляюсь этим вечером.
– Этим вечером! – она бросила на Георгиоса тревожный взгляд, потом вновь повернулась ко мне. – Но путешествие это долгое, а ты не спал с раннего утра. Уже сидел у камина, когда я встала. И прошлой ночью ты не выспался.
Я вообще не спал в прошлую ночь. Не спал последние семнадцать лет, с тех пор как осколок северокорейского снаряда угодил мне в голову и уничтожил так называемый центр сна, чем привел в замешательство всех армейских врачей, которые никак не могли понять, почему я бодрствую двадцать четыре часа в сутки. Поскольку этот феномен ставил в тупик не только врачей, но и простых смертных, я не стал ничего объяснять Зое и Георгиосу. Лишь сказал, что не чувствую усталости и хочу как можно быстрее попасть в Македонию.
– Я могу достать машину, – сказал Георгиос.
– Буду тебе очень признателен.
– У Общества много друзей. Довезти тебя до границы – не проблема. А вот перейти через нее...
– Я справлюсь.
– Граница охраняется.
– Я знаю.
– Тебе уже приходилось пересекать ее?
Я кивнул. Я уже выходил из Югославии в Грецию за несколько месяцев до рождения моего сына. Я полагал, что и на этот раз никаких проблем у меня не возникнет.
– Тебе нужна теплая одежда, – заметил Георгиос. – Может, тебе вообще лучше одеться как крестьянину?
– Пожалуй.
– И тебе понадобится еда, – добавила Зоя. – Еду я соберу. Копченое мясо, сыр и хлеб.
– Буду признателен.
– И бренди, – вставил Георгиос.
Уехал я незадолго до полуночи. В башмаках на толстой подошве, ватных штанах, нескольких свитерах и поношенной кожаной куртке. Между свитерами я засунул кожаную папку. На коленях лежал полотняный мешочек с едой, упакованный Зоей, в кармане куртки – плоская бутылка с метаксой.
Водителя, молчаливого плотного грека, более всего интересовал запас прочности его маленького «Фольксвагена». Дороги к северу от Афин не имели ничего общего с американскими автострадами, но он гнал по рытвинам и проходил повороты с решимостью человека, абсолютно уверенного в своем бессмертии. В Тессалии мы въехали в горы. Дорога вилась по краю пропасти. В окно я старался не смотреть. Когда становилось совсем плохо, я доставал из кармана бутылку метаксы и прикладывался к горлышку.
Приехали мы к рассвету, как и рассчитывал мой водитель. Он остановился у маленькой фермы в нескольких милях от Велвендоса, городка в греческой части Македонии. У фермера, также члена Общества, он собирался поесть, поспать, а уж потом возвращаться в Афины. Мы допили остатки метаксы и обменялись крепким рукопожатием. Он поспешил под крышу фермерского дома, а я сквозь серый и дождливый рассвет зашагал к югославской границе.
Шагал несколько часов и все больше входил в роль. Последние три дня я говорил и думал на греческом, но теперь мне предстояло перейти на македонский диалект болгарского языка. Несколько лет назад я говорил на нем совершенно свободно и не сомневался, что память меня не подведет. Языки всегда давались мне легко, а чем больше языков знает человек, тем легче ему добавить к своей коллекции еще один. На это требуется лишь время.
А времени как раз у меня хватало. Бессонница приносила мне не только пожизненную пенсию от министерства обороны. Я получил в свое полное распоряжение все двадцать четыре часа в сутки вместо обычных шестнадцати. Избыток времени позволял мне выучивать новые языки и участвовать в деятельности многочисленных организаций, ставящих перед собой благородные, но недостижимые цели.
Последние несколько дней я провел среди членов Панэллинского общества дружбы, а вот теперь направлялся на встречу с членами Македонской революционной организации. Панэллины мечтали о восстановлении Греческой империи, тогда как товарищи из МРО отдавали жизнь ради свободной и независимой Македонии, свободной не только от Югославии, но и от Греции. Так что мои панэллинские братья и мои братья по МРО с радостью перерезали бы друг другу глотки.
К середине утра дождь полностью прекратился. В македонском я попрактиковался на крестьянах, каждый из которых подвозил меня на несколько миль на телегах, запряженных ослами. Каждому я подавал знаки, свидетельствующие о членстве в МРО. Один или двое предпочли знаки проигнорировать, но в конце концов пастух с бычьей шеей и густыми каштановыми усами подал ответный знак, и я сказал ему, кто я и что мне нужно.
– Ивен Таннер, – повторил он. – Тот самый, что устроил революцию в Тетово?
– Да.
– Тодор Пролов порадуется твоему приезду.
– Тодор умер, защищая революцию. Когда сербские войска вошли в Тетово, Тодора убили.
– Но его сестра Миса жива...
– Его сестру зовут Анналия.
– Ага. Поскольку раньше я тебя никогда не видел, без проверки не обойтись. Ты на меня не сердишься?
– Я не из тех, кто пренебрегает осторожностью.
Он достал кругляк козьего сыра из мешка, который лежал на телеге, отрезал нам по сегменту. Сыр мы запили вином. Он вытер рот тыльной стороной ладони и шепотом спросил, не собираюсь ли я начинать новую революцию.
– Сейчас не время, – ответил я.
– Согласен. Мы должны копить силы. Кому-то, возможно, не терпится вступить в открытую борьбу с диктатурой Белграда, но пока мы должны втыкать шипы в ее бока. Диверсии, убийства, мы должны жалить, как пчелы. Я прав?
– Безусловно.
– А куда ты идешь? В Тетово?
– Да.
– У тебя там особое дело?
– Хочу повидаться с сыном, – я показал ему карандашный рисунок. – Мой сын.
Он долго смотрел на рисунок, потом кивнул.
– Очень похож.
– Ты его видел?
– А кто его не видел? Говорят, что придет день, когда он станет во главе Македонии, – он перевел взгляд на меня. – Вылитый ты. Но Анналия и мальчик больше не живут в Тетово. Власти... это небезопасно. Они в деревне неподалеку от Кавадара. Знаешь, где это?
– Более-менее.
– Я тебя туда отвезу.
– Ты сможешь переправить меня через границу?
– Границу? – он захохотал. – Границу? – застучал кулаками по мощным бедрам. – Границу? Если греки и сербы нарисовали воображаемую линию по земле Македонии, означает ли эта линия границу? Если деспоты и эксплуататоры протянули колючую проволоку и поставили часовых, достаточно ли это для того, чтобы линия стала границей? – Его трясло от смеха. – Такая граница не должна тебя волновать.
Пастуха граница точно не волновала. Поначалу он хотел собрать группу товарищей, напасть на пограничную заставу, убить нескольких часовых, разогнать остальных и проделать дыру в колючей проволоке, достаточно широкую для прохода армии. Именно такие деяния, объяснил он, поддерживают националистический дух. Мне удалось его уговорить, напирая на то, что стычка такого масштаба затруднит мое передвижение по Югославии. Он неохотно согласился.
– Тогда мы найдем место, где сможем незаметно перейти границу. Станем двумя пастухами, бредущими за стадом. Разве козы что-то знают о границах и колючей проволоке? Козы знают только одно: они должны щипать травку. А на другой стороне границы мы оставим коз другу, и я лично отведу тебя в деревню, где живет Анналия. – Его лицо расплылось в широкой улыбке. – К наступлению ночи ты будешь качать сына на колене.
Глава вторая
К наступлению ночи я качал сына на колене.
И какой отличный у меня рос сын! Рисунок, пусть и достаточно точный, не передавал его живости, блеска темных глаз, свечения розовой кожи, силы, с которой его маленькая ручонка сжимала мой палец. А как он пинался и кричал, как зевал, как сосал палец, как смеялся, когда я, как идиот, строил ему гримасы.
– Он – здоровенький мальчонка, – сказала мне Анналия. – И очень сильный.
– Сколько ему?
– Почти шесть месяцев.
– Он большой.
– Большой для своего возраста. И такой толстый.
Маленький Тодор вновь засмеялся. Посмотрел куда-то в потолок, потом уставился в мою переносицу.
– Я ему нравлюсь.
– Естественно. Ты удивлен?
– Я думаю, он меня узнает.
– Он просто тебя знает. Ты же его отец.
– Умный мальчик.
Мы сидели, скрестив ноги, на земляном полу маленького однокомнатного домика в нескольких милях от Кавадара. Анналия и Тодор делили домик с бездетной крестьянской парой. Старая женщина приготовила нам ужин, после вместе с мужем отправилась к живущим по соседству родственникам, чтобы провести у них два-три дня. В очаге горели толстые поленья. Отсветы огня освещали моего сына и его мать.
После родов Анналия стала еще краше. Длинные светлые волосы поблескивали в свете очага. Она наклонилась вперед, чтобы вытереть уголки рта Тодора, и я с удовольствием прошелся взглядом по ее пышным формам, высокой груди, колышущейся под толстой кофтой. Я помнил это прекрасное тело, ставшее моим в ночь зачатия Тодора.
– Тодор Таниров, – гордо произнес я.
– Тебе нравится имя?
– Конечно. Его назвали в честь героя.
– Его назвали в честь двух героев, – она коснулась моей руки. – Но я сохраню имя его отца в тайне, когда он пойдет в школу. Если власти пронюхают, у него будут неприятности, – она вздохнула. – Но когда он достигнет совершеннолетия и возглавит борьбу македонцев за свободу, тогда все узнают, кто его отец.
Малыш заплакал. Я поднял его, положил на плечо, похлопал по спине. Думал, что ему понравится, но плач только усилился.
– Заговорщик должен плакать шепотом, – назидательно сказал я ему.
– Он голоден. Передай его мне.
Я передал Анналии плачущего ребенка, она подняла кофту и поднесла ко рту грудь. Маленькие губки тут же обжали сосок, ручонки ухватились за белую чашу, и он жадно засосал.
– Ребенок проголодался, Ивен.
– Он – сын своего отца. Знает, что у тебя самое вкусное.
– Точно.
– Ты получала деньги, которые я посылал?
– Да. Ты посылал слишком много. Лишние я отдавала МРО.
– Лучше бы ты оставила их у себя. Для ребенка.
– Я оставила достаточно, – Тодор потерял грудь, но она чуть повернула его так, чтобы губы вновь нашли сосок. – Я так счастлива, что ты помнишь о нем, заботишься. Не смела и мечтать, что ты приедешь в Македонию, чтобы посмотреть на него.
– Я сожалею, что не смог приехать раньше.
– И хорошо, что ты подождал. При рождении он был такой красный, такой сморщенный! Тебе бы он не понравился.
– Я бы все равно его любил.
Я подошел к очагу, пошевелил поленья. Вернулся на прежнее место. Анналия переложила Тодора к другой груди. Он захныкал, но потом его рот нашел то, что требовалось. Я наблюдал за его глазами. По мере наполнения желудка они медленно закрывались, потом разом раскрылись, опять закрылись, но он продолжал сосать с прежней энергией.
Наконец, высосал все, что мог, и Анналия отнесла его на соломенный матрасик, который лежал слева от очага. Осторожно уложила, накрыла двумя вязаными одеялами. Глаз он больше не раскрывал. Она вернулась ко мне, села рядом.
– Хороший мальчик. Теперь он будет долго спать.
– Спит хорошо?
– Как молодой барашек.
– Рад это слышать, – собственно, по-другому и быть не могло: осколок снаряда не мог вызвать генетических изменений. Но меня все равно порадовало известие о том, что бессонница отца не передалась сыну.
– Ивен? Ты надолго?
– На несколько дней и ночей.
– Потом вернешься в Америку?
Я покачал головой.
– Не сразу. У меня дела на севере.
– В Белграде?
– Дальше.
– Мне бы хотелось, чтобы ты побыл подольше, Ивен.
Я вытянулся на земляном полу. Она улеглась вплотную ко мне. По одной я расстегнул все пуговички толстой кофты, обхватил ладонями груди.
– Видишь, что он с ними сделал? Они пусты.
– Они прекрасны, любовь моя. Моя маленькая птичка.
– А-а-а...
Мы лежали бок о бок, обняв друг друга. Ее дыхание было теплым и сладким. Мои руки играли ее грудями, она засмеялась и сказала, что знает, почему Тодор сосет с таким удовольствием.
– Он пошел в своего отца.
– Я тебе так и сказал.
– Ах, Ивен...
Не спеша, прерываясь на ласки и поцелуи, мы разделись под мерцающим огнем. Я провел рукой по ее животу, упругим бедрам.
– У тебя есть другие женщины?
– Не так чтобы много.
– А дети?
– Нет.
– Тодор – твой единственный ребенок?
– Да.
Она удовлетворенно вздохнула. Мы поцеловались и прижались друг к другу. А потом она потянула меня на свой матрац, лежавший по другую сторону очага.
– Тодору нужны братья.
– Это правда.
– И прошло уже полгода после его рождения. Пора.
– Да, конечно. А если будет девочка?
– Дочь? – она задумалась, пока я гладил ее пышное тело. – Но это очень хорошо, если у мальчика есть сестры. А ты еще вернешься, Ивен, так что будет время и для сыновей.
– Для Македонии.
– Для Македонии, – согласилась она. – И для меня.
Я еще поласкал ее, мы поцеловались, потом у нее иссякли слова, а у меня – мысли. Ее бедра разошлись, руки и ноги сжали меня, и матрац заскрипел под нашей страстью. Я забыл о латышах, колумбийцах и толстячке из Вашингтона. Я даже забыл о моем спящем сыне, поскольку один раз даже громко вскрикнул от страсти, но Анналия тут же одернула меня.
– Ш-ш-ш, – тяжело дыша, прошептала она. – Ты разбудишь Тодора.
Но маленький ангел крепко спал.
Позже, гораздо позже, я бросил в очаг еще несколько поленьев. Анналия достала кувшин медовухи. Мы сидели перед очагом и пили ее маленькими глотками. Сладкий напиток согревал нас не хуже огня.
– Через несколько дней ты уедешь?
– Да, – кивнул я.
– Я бы хотела, чтобы ты задержался дольше. Но у тебя важные дела, не так ли?
– Да.
– Расскажи мне, куда ты направляешься.
Я взял ветку из кучи дров и на полу нарисовал примитивную карту. Анналия с интересом смотрела на нее.
– Вот Македония. Это Кавадар, Скопье, Тетово. Вот это, линия к югу – граница между Грецией и Югославией. Вот другие республики Югославии: Хорватия, Сербия, Босния-Герцеговина, Словения и Черногория. Это Белград, столица.
– Вижу.
– Восточнее находится Болгария, над ней – Румыния. К западу от Румынии – Венгрия, а выше – Чехословакия и Польша. Видишь?
– Да. Ты едешь в Польшу?
– Дальше. Вот здесь, выше Польши и к востоку, находятся три маленькие страны. Сначала Литва, потом Латвия и Эстония. Они – часть России.
– Значит, ты едешь в Россию? – у нее перехватило дыхание. – Но ведь в России очень опасно.
– Они – такая же часть России, как Македония – часть Югославии.
Это Анналия поняла.
– Они тоже готовы бороться за свободу? И ты собираешься устроить там революцию?
– Надеюсь, что нет.
– Тогда почему ты едешь туда?
– Чтобы вывезти из Латвии одного человека.
– Уехать из Латвии трудно?
– Практически невозможно.
– Это опасно?
Я ответил, что опасность невелика. Вероятно, моему голосу недоставало уверенности, потому что она пристально посмотрела на меня и сказала, что не верит. Но мы оставили эту тему, выпили еще медовухи и поговорили о борьбе Македонии за свободу, красоте нашего сына и жаре любви.
Какое-то время спустя мальчик проснулся, громко плача, Анналия покормила его, и он вновь заснул.
– Такой хороший мальчик, – похвалила она сына.
– Ему нужны братья и сестры.
– И мы постарались, чтобы он не остался в одиночестве.
– Это правда. Но можно ли с уверенностью говорить о результате?
– Я не понимаю.
– Когда хочешь вырастить дерево, в землю лучше посадить не одно семечко.
– Мы уже посадили два, – улыбнулась она.
– Полагаю, не помешает и третье.
Она замурлыкала.
– Ты проведешь здесь несколько дней. У меня такое ощущение, что к твоему отъезду мы засадим всю землю.
– Земля возражает?
– Земля совершенно не возражает.
– В конце концов, мы же должны гарантировать стопроцентный результат?
– Особенно если посадка доставляет столько удовольствия.
– В этом ты совершенно права.
– Я тебя люблю.
Мы снова разделись и перебрались на ее матрац. И опять мой сын крепко спал под громкие крики любви. А потом я крепко прижимал Анналию к себе, пока она вроде бы не заснула. Я осторожно поднялся, укрыл ее одеялом.
– Я хочу, чтобы ты остался со мной навсегда, – в полусне пробормотала она.
– Я тоже.
– Почему тебе надо в Латвию?
– Это длинная история, – она шевельнулась, словно готовясь ее выслушать, но вместо этого провалилась в глубокий сон.
Я оделся, сел, скрестив ноги, перед очагом, долго смотрел на мою жену и моего сына, а потом перевел взгляд на нарисованную мной карту. «Не следует оставлять здесь карту, – подумал я. – Никому не надо знать, куда я направляюсь». Я взял другую ветку и стер карту.
Почему тебе надо в Латвию?
Хороший вопрос, логичный вопрос. И я ответил правдиво, пусть ничего не сказал по существу.
Это была длинная история.
Глава третья
Карлис Миеловисиас и я сидели в окопе, вырытом среди молодых сосенок. В пятидесяти ярдах справа пехотинцы, то ли десять, то ли двенадцать, осторожно, но решительно продвигались вперед. Я вытянул руку параллельно земле. Мужчины остановились, опустились на колено, нацелили винтовки на деревянный сарай. Я поднял руку, досчитал до пяти, а потом резко опустил ее.
Выстрелы прогремели одновременно, пули полетели в сторону сарая. Мы с Карлисом выпрыгнули из окопа. Он сорвал чеку с гранаты, на бегу досчитал до трех, швырнул гранату в открытую дверь. Я считал вместе с ним и бежал рядом. Потом, как только граната залетела в сарай, мы упали на землю.
Взрыв развалил маленький сарай пополам. Пехотинцы уже бежали к нему, стреляя на бегу, поливая свинцом остатки деревянных стен. Интенсивность стрельбы уменьшилась, когда Карлис и я добрались до двери. Я поднял руку, выстрелы смолкли, и мы вошли в то, что было сараем.
Конечно, внутри нашли пустоту. Если в мы участвовали в настоящем вторжении в Латвию, на полу лежали бы изувеченные тела защитников сарая. Но мы находились в тысяче милях от Латвии. Точнее, в пяти милях южнее Делхи, округ Делавер, штат Нью-Йорк, где Латвийская армия в изгнании проводила ежегодные полевые маневры.
– Задание выполнено, – рявкнул Карлис на латышском. – Всем вернуться в расположение части, бегом.
Пехотинцы затрусили к палаткам. Карлис достал пачку сигарет, предложил мне. Я отказался, он же закурил. Карлис ограничивал себя тремя или четырьмя сигаретами в день, поэтому каждую курил с особым удовольствием. Глубоко затягивался, долго выпускал дым.
– Парни хорошо поработали, – сказал он.
– Очень хорошо.
– Конечно, со строевой подготовкой у них похуже, но вот атаку они провели образцово. Мы можем быть довольны.
Этот светловолосый гигант при росте в шесть с половиной футов весил никак не меньше трехсот фунтов. У армии США могли возникнуть проблемы с подбором для него формы. У Латвийской армии в изгнании таких проблем не возникало, поскольку темно-зеленая форма шилась на каждого индивидуально. На форму Карлиса ушло больше материи, вот и все дела.
Вместе мы вернулись к нашей палатке. Единственной, в которой не стояли койки. Поскольку подходящей для Карлиса не было, он предпочитал спать в огромном спальном мешке. Мне койка не требовалась вовсе, так что в нашей палатке ее заменяли два удобных стула. Я сел на один, Карлис – на второй, и мы вдвоем полюбовались закатом.
Карлис превосходил меня званием. Был полковником Латвийской армии в изгнании, тогда как я – майором. В нашей армии рядовых не было, только офицеры. От нас требовалось умение командовать, чтобы в день вторжения в Латвию мы могли повести за собой рабочих и крестьян. Присваивая каждому члену нашей организации офицерское звание, мы сразу начинали готовить его к роли командира.
В конце концов, нас было всего сто тридцать шесть, так что в день вторжения каждому пришлось бы проявить чудеса героизма.
Карлис загасил окурок о подошву сапога, растер его, тяжело вздохнул.
– Тебя что-то тревожит, друг мой? – спросил я.
Он ответил после короткой паузы.
– Нет, Ивен. Устал, ничего больше. Завтра мы разъедемся по домам, и я уеду с чувством выполненного долга.
Мы провели в лагере целую неделю. Говорили исключительно на латышском. Семь дней поднимались в пять утра, маршировали по плацу, разбирали и собирали оружие, учились делать бомбы, совершали марш-броски в полной боевой выкладке. А после обеда приходило время политическим дискуссиям, песням и народным танцам. И хотя такой атлет, как Карлис, мог без труда выдерживать столь напряженный график, я понимал, что он с нетерпением ждет возвращения в Провиденс и академию дзюдо, где он работал инструктором.
Прогудел рог, и мы пошли на обед. Поели плотно, за целый день нагуляли аппетит, а потом пили кофе, пока не появились женщины и девушки из группы поддержки. На последний вечер программа намечала танцы у костра и дополнительные утехи, которым могли предаваться парочки.
Но Карлис после ужина погрустнел еще больше.
– Я пойду в палатку.
– Не останешься на танцы?
– Сегодня нет.
– Девушки одна другой краше.
– Знаю. Но у меня щемит сердце, когда я смотрю на них. Латышки – самые прекрасные женщины в мире, и от одного их вида у меня рвется душа, – он понизил голос до шепота. – Если хочешь провести вечер в их компании, я тебя винить не буду. Но у меня в рюкзаке есть две бутылки французского коньяка. Я берег их всю неделю, и одна, если захочешь, твоя.
Девушки, действительно, были одна другой краше, но в большинстве своем в лагерь приехали жены и невесты, которые не выказывали особого рвения в поисках новых кавалеров. Да и неделя тяжелой физической нагрузки давала о себе знать. И я вдруг понял, что выпить бутылку хорошего коньяка куда приятнее, чем танцевать у костра до упаду. Поделился своими мыслями с Карлисом, и вдвоем мы направились к нашей палатке.
Он вытащил из рюкзака две бутылки, одну протянул мне. Стаканов не было, но мы без них обошлись. Открыли бутылки, произнесли тост на латышском за скорейшее освобождение Латвии от советского ига и выпили прямо из горла.
Серьезный разговор начался, когда большая половина содержимого бутылок перекочевала в наши желудки. По небу плыла почти полная луна, мы пили французский коньяк и слушали радостные крики, доносившиеся от костра. Карлис, однако, все глубже впадал в депрессию.
Во мне есть что-то от хамелеона. Останься я у костра, сейчас радовался бы со всеми. А вот сидя рядом с Карлисом, отдавая должное его коньяку, тоже начал грустить. Даже вытащил из кармана карандашный рисунок моего сына Тодора и показал Карлису.
– Мой сын, – объявил я. – Красавчик, не правда ли?
– Точно.
– И я никогда его не видел.
– Как такое может быть?
– Он в Македонии, – ответил я. – В Югославии. И я не был там с ночи его зачатия.
Карлис посмотрел на меня, на рисунок, снова на меня. А потом вдруг заплакал. Рыдания сотрясали все его огромное тело. Я молчал, пока ему не удалось взять себя в руки.
– Ивен, – дрожащим от эмоций голосом заговорил он, – ты и я, мы больше, чем солдаты, больше, чем товарищи по оружию, сражающиеся за благородное дело. Мы – братья.
– Братья, Карлис.
– Быть отцом такого прекрасного сына и никогда не видеть его – это ужасная трагедия.
– Ужасная.
– У меня в жизни такая же трагедия, Ивен, – он выпил, и я выпил. – Именно она не позволяет мне танцевать с прекрасными латышками у костра. Могу я рассказать тебе о своей трагедии?
– Разве мы не братья?
– Братья.
– Тогда рассказывай.
Он несколько секунд молчал. Потом прошептал: «Ивен, я влюблен».
Возможно, коньяк сыграл свою роль. Но, какой бы ни была причина, никогда я не слышал в словах такой глубокой печали. И заплакал. Теперь уже ему пришлось ждать, пока я успокоюсь. Мы снова выпили, и он начал рассказывать.
– Ее зовут София. И она – самая прекрасная женщина в мире, Ивен, с золотыми волосами, кожей цвета персика, глазами синими, как Балтийское море. Я встретился с ней на токийской Олимпиаде в шестьдесят четвертом году. Ты знаешь, я выступал за команду США по классической борьбе.
– И занял второе место.
– Да. Выиграл бы, если в не этот бычара-грузин. Неважно. София входила в состав гимнастической команды Советского Союза. Ты, безусловно, знаешь, что прибалтийские гимнастки – лучшие в мире, а латышки лучше гимнасток других Прибалтийских республик.
Я не имел об этом ни малейшего понятия.
– Разумеется, команда Софии победила. Ее мастерство укрепило славу и престиж советского спорта, Советского Союза. Как это гадко, – он закрыл глаза. – Мы встретились, София и я. Мы встретились и влюбились друг в друга.
Он замолчал, чтобы закурить свою четвертую сигарету. У меня создалось ощущение, что в эту ночь на четвертой сигарете он не остановится. Докурил до конца, растоптал окурок, глотнул коньяка.
– Вы влюбились друг в друга, – напомнил я.
– Мы влюбились друг в друга. София и я – мы влюбились друг в друга. Ивен, брат мой, наша любовь не из тех, что проходит через день, неделю, месяц. Мы хотели жить вместе до конца наших дней. Воспитывать детей, стареть бок о бок, дождаться внуков, умереть в один день, – он опять зарыдал.
– Ты просил ее уехать в Америку?
– Просил? Я ее умолял, ползал перед ней на коленях. И тогда это было так просто, Ивен. Сесть в такси, доехать до американского посольства в Токио, попросить политического убежища, и в тот же день мы бы отправились в Провидено. Поженились бы, рожали детей, старились вместе, любовались внуками, даже могли...
– Но она отказалась?
– В этом и трагедия.
– Расскажи.
– Поначалу она отказалась. Она же очень молода, Ивен. В год токийской Олимпиады ей исполнилось двадцать лет. К моменту ее рождения Латвия уже три года была частью Советского Союза, а русские вместе с нами сражались с немецким фашизмом. Что она знала о свободной и независимой Латвии? Она выросла в маленьком городке неподалеку от Риги. Ходила в русскую школу, учила то, что говорили ей русские учителя. Она говорит на русском так же хорошо, как и на латышском. Как она могла покинуть родину? Она хотела быть патриоткой, но не понимала, что есть истинный латышский патриотизм. Как она могла оценить порабощение Латвии Советским Союзом? Она ничего об этом не знала.
В общем, она отказалась. Но любовь, Ивен, для нас, латышей, великая сила. Когда мы влюбляемся, мы больше не можем думать ни о чем другом. Олимпиада закончилась. Мы расстались. Я вернулся в Штаты, София – в Ригу. И вот тут, когда все усложнилось, когда она уже не могла сесть в такси и поехать в американское посольство, моя София попыталась вырваться из Советского Союза. И попытку эту она предприняла в Будапеште, куда сборная по гимнастике отправилась на показательные выступления.
– В Будапеште?
Он пожал плечами.
– Абсурд, что тут скажешь. Ее тут же схватили и вернули в Россию. Перевели из сборной Советского Союза в сборную Латвийской Советской Социалистической Республики, и вместо того, чтобы ездить по миру, она участвует в соревнованиях с другими республиками. Она не может покинуть Россию. Ей запрещено. Она остается в Риге, а я – в Штатах, мы продолжаем любить друг друга, но никогда не будем вместе, – он приложился к бутылке. – В этом моя трагедия, Ивен. Я безнадежно влюблен и никогда не увижу свою возлюбленную.






