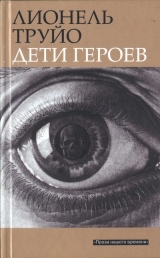
Текст книги "Дети героев"
Автор книги: Лионель Труйо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
* * *
«После того как вы убежали, почтальон зашел в дом. Он увидел на полу тело Корасона, а на кровати – Жозефину. Он решил, что они оба мертвые, и закричал: „Убийство!“ – а сам шарил по сторонам, искал, нет ли где бутылки для поднятия духа. При первых же криках все побросали свои дела и сбежались на шум. Вскоре в доме столпилась куча народу. Все болтали, что вы убили своих родителей. Почтальон совсем спятил и требовал, чтобы его тоже признали жертвой, дескать, его вы тоже чуть не убили. Мы прибежали в числе первых, и нам показалось, что Жозефина не такая уж и мертвая. Все вокруг называли вас убийцами. Окровавленный гаечный ключ, кровь на полу – доказательства налицо. Толпа поддерживала почтальона: невиновные не убегают, круша все на своем пути. Он пришел раньше времени, потому что хотел опрокинуть по рюмке с Корасоном, хотя это и запрещается правилами: „Мы с ним разговаривали о боксе. Такой красивый мужчина. Ну да, немного буйный, но характер не выбирают. Чем он заслужил такой конец?“ Почтальону очень хотелось выдать себя за потерпевшего. Люди, ждавшие писем, злились на него, что он бросил мешок с почтой в болотную жижу. „Да я его не бросал. Кто-то мне как даст, я чуть сознание не потерял. Не знаю, кто из них двоих, даже не видел, чем они мне вмазали, может, камнем, а может, железным прутом. У меня до сих пор кишки выворачивает. Жалко, такой красивый мужчина“. И люди согласились, что да, Корасон был очень красивым мужчиной. Честно говоря, мы и остальные ребята все-таки немного завидовали вам, что у вас такой красивый отец, только вслух никогда не говорили. Мы боялись, что кто-нибудь проболтается нашим собственным отцам. Толпа продолжала расти. В доме стало тесно. Мы с Джонни залезли на крышу мебельной фабрики и смотрели оттуда, что будет происходить, там хоть никто нам не мешал. Но мы пропустили момент, когда они поняли, что Жозефина жива. Самые настырные приставали к остальным с вопросом, куда вы могли убежать. Но им ответили, что первые поисковые группы уже сформированы и отправляются вас ловить. Толстяк Майар указал им примерное направление, но они вернулись ни с чем. С крыши фабрики мы наблюдали за суматохой в доме и вокруг него. Никто не осмеливался прикоснуться к телу. Теперь, когда выяснилось, что Жозефина жива, женщины пытались привести ее в чувство, но она никак не желала просыпаться. Женщины не отступались и силой открывали ей глаза. Мужчины в это время спорили, что делать дальше. Самые грамотные советовали обратиться в полицию, но остальные говорили, что это бесполезно, потому что полицейские сроду не приезжали сюда по вызову. Тут как раз очнулась Жозефина и увидела, что Корасон лежит мертвый, а у нее в доме собралось все население бидонвиля, и все орут и размахивают руками. Она не закричала, шевелила губами, но не могла произнести ни звука и даже не заплакала. Ее подружки-богомолки начали ее утешать, говорили, что Господь с нами даже в самые трудные минуты. Жозефина, конечно, была жива, но как-то не очень. Хотя она всегда такая, особенно в дни поста, ну, может, лицо стало более помятым и взгляд каким-то пустым, как будто она уезжала куда-то далеко и не думала, что вернется. Начали подтягиваться журналисты. Никто их не ждал. Они прямо целое шествие устроили. Репортеры пробирались по нашим переходам осторожно, боялись заблудиться, но шли на шум. Им позвонил владелец мебельной фабрики. Сам-то он не живет в бидонвиле и не считается нашим, но, когда он услышал крики, то взял на себя труд отправить к нам одного рабочего, чтобы тот разузнал, что случилось. Он разрешил остальным рабочим сделать перерыв, им тоже хотелось посмотреть на убийство. Потом он позвонил в морг при университетской больнице и вызвал „скорую“, ну а уже потом репортеров и полицию. Первыми прискакали журналисты. Можно подумать, что всем радиостанциям, от самых крупных до самых мелких, которые вообще никто не слушает, больше нечего передавать. В переходах было тесно, и они всем показывали свои удостоверения, чтобы их не затолкали. Сначала прибыли те, кто работает на радио, с блокнотами и магнитофонами. Толстяк Майар с помощью своих родственников прокладывал им дорогу через переходы прямо к вашему дому, как бы выстраивал для них коридор. Он был последним, кто видел вас в тот день, и дал описание вашей одежды. Но поскольку болтает он не меньше, чем жрет, то вскоре его понесло, и он начал распространяться насчет того, что Родриг сидит в тюрьме не по закону, потому что суда над ним так и не было, и талдычил все одно и то же, так что всем надоело его слушать. Многие взрослые, которые сами ничего не видели, захотели выступить свидетелями и оттеснили толстяка с родичами. Вообще каждый житель бидонвиля, которому было что сказать, поспешил выразить свое мнение насчет вашего образа жизни и ваших характеров. Репортеры пробились через толпу к дому, им не терпелось опросить Жозефину, и некоторые из них потопали прямо по луже крови и осколкам стекла. Жозефина изображала глухонемую, к тому же ее охраняла целая армия плакальщиц. Если ей задавали какой-нибудь вопрос, на него тут же отвечала одна из ее подружек. Потом приехали с телевидения. Мы услышали шум у себя за спиной. Это приближался здоровенный внедорожник. Автомобиль мобильной группы, который обычно посылают освещать международные матчи и всякие торжественные церемонии во дворце или в здании парламента. Оттуда вышел шофер и начал ругаться, что по этим улочкам ему ни за что не проехать. Зря только оборудование разобьют. Тогда главный у телевизионщиков пошел к хозяину фабрики и попросил разрешения оставить машину возле его предприятия. Хозяин ответил, что обычно он никому такого разрешения не дает. Местные хулиганы громят машины, а их владельцы потом наезжают на него, как будто это он виноват. Но в данном случае… учитывая необычные обстоятельства… в качестве благодарности операторы засняли фасад фабрики, нашли себе провожатого и дальше двинулись пешком по узкой тропинке. Толпа при виде людей с кинокамерами сразу переметнулась к ним. Репортеры с радио убрали свои блокноты и магнитофоны и сказали, что собрали достаточно информации для радиослушателей, но чувствовалось, что им обидно – вроде как их оттеснили на второй план. Потом мы услышали вой полицейской сирены. Люди на всякий случай бросились врассыпную. С этими стражами никогда не знаешь, что лучше, а что хуже – от них всякого можно ожидать. Приезжают на вызов по одному делу, а на месте выясняется, что им еще что-то не нравится. Так что большая часть зевак предпочла разойтись по домам, особенно молодежь. Полицейских было трое. Двое подчиненных в форме и начальник в штатском. На самом деле это была вовсе не дежурная бригада, которая должна была прибыть после звонка хозяина мебельной фабрики. Это был патруль, проезжавший мимо и привлеченный шумом. А бригада так и не приехала, но они хорошо сделали свое дело, освободили проходы, велели плакальщицам заткнуться, допросили почтальона и толстяка Майара. Спросили, есть ли у вас дружки-приятели, которым может быть известно, планировали вы заранее убийство или нет, и где вас можно искать. Всегда находятся люди, которые не умеют держать язык за зубами. Вот они и доложили про Джонни Заику. Но ему понадобится целый день, чтобы ответить на все ваши вопросы, так что лучше вы с ним не связывайтесь. Мы с Джонни залегли на крыше, чтобы нас никто не увидел, хотя сами все продолжали видеть. Мы не хотели с ними разговаривать. Еще они спросили, есть ли у погибшего родственники.
– Да, у него мать за границей.
– А жена убитого может дать показания?
– Нет, – заплакали плакальщицы.
– Эти мальчик и девочка уже совершали насильственные действия в отношении жителей квартала?
– Нет, нет, никто на них и подумать не мог!
– А дружок у девочки есть?
На этот вопрос отвечать никто не захотел, но, чтобы не молчать, люди начали плести всякое, что вообще-то девочка очень скрытная, покрепче иного мальчишки, это точно, а главное, такая вся независимая. Начальник в штатском вытащил из кармана мобильник и пошел звонить в уголок, чтобы никто не мешал. Поговорил, опять сунул телефон в карман и сказал, что сейчас подъедут „скорая“ и мировой судья. Никакой мировой судья так и не приехал, и „скорая“ решила его не ждать. Кстати, насчет „скорой“. Хорошо, что этот полицейский позвонил, потому что та „скорая“, которую вызывал хозяин мебельной фабрики, приехала только поздно ночью, когда все уже спали. Я вам все рассказываю как есть, потому что у нас не так много времени. Санитары со „скорой“ намучились, поднимая тело. Оно оказалось таким тяжелым, что они кликнули помощников, иначе никак не могли взгромоздить его на носилки. Долго возились. Грустно было смотреть, когда они его тащили. В узких переходах тело застревало. Они опять позвали на помощь кого покрепче и протиснулись с носилками, повернув их набок. Извини, Мариэла, Жозефина вернулась на землю и сразу сказала: „Это Мариэла, это не Колен, это Мариэла“, – и опять унеслась в заоблачные выси, к своему Господу. Поначалу полицейские вели себя с ней не очень-то любезно, во что бы то ни стало хотели ее допросить, но тут пришла одна тетка, сказала начальнику, что она представляет женскую лигу. И начальник сразу начал очень вежливо со всеми разговаривать. С поддержкой полицейского начальника тетка из лиги выгнала из дому всех мужчин и большую часть плакальщиц. Только ман-Ненетта наотрез отказалась бросать Жозефину одну: „Я пятнадцать лет живу в бидонвиле, и все эти годы мы всегда молились вместе“. И ей позволили остаться. Через несколько минут тетка из лиги снова вышла, окликнула телевизионщиков, которые как раз тянули свои провода и заряжали камеры, и сказала, что лига берет на себя защиту жертвы, которая вскоре будет в состоянии сделать заявление. Сперва никто ничего не понял. Корасон был мертв, его везли в морг. Но она добавила, что Жозефина тоже является жертвой, жертвой насилия со стороны пьяницы-мужа. Отныне ей предстоит одной заботиться о двух трудных подростках – девочке, вступившей в переходный возраст, и мальчике со слабым здоровьем, перенесшем несколько тяжелых заболеваний. Мы не все поняли из ее выступления, но одно было ясно: она умеет говорить на публику. Закончив свою речь, тетка вернулась в дом за Жозефиной. Полицейский в штатском тоже дал короткое интервью: „Совершено кровавое преступление, – говорил он, – начато уголовное расследование, и полиция считает своей задачей найти детей“. Все ждали Жозефину. Репортеры проявляли беспокойство, потому что уже начинало темнеть. Наконец, ман-Ненетта и тетка из женской лиги под руки вывели Жозефину из дома. Журналисты бросились к ней. Полицейские окружили ее кордоном, чтобы не подпустить тех, кто решил остаться до конца. На Жозефине было чистое платье, и она умыла лицо. Она сказала: „Мариэла. Я знаю, что это…“ Тетка из лиги легонько шлепнула ее по руке, и она начала снова: „Я любила своего мужа, и он любил меня. Мариэла, я знаю, что это… Нет, не так. Мариэла, я прошу тебя, вернись. Вернись и приведи Колена. Я ничего не видела, я спала. Вот эта дама пообещала мне помочь, она и вам поможет. Мариэла, я знаю, что…“ Все почувствовали разочарование, потому что Жозефина ничего не рассказала, как было совершено преступление. Только тетка из лиги сказала, что все хорошо, и попросила разрешения в последний раз обратиться через камеру. Журналисты намекали ей, что уже темно. Все равно никто ничего не увидит. Да и в любом случае, в вечерние новости событие уже не попадет, потому-то они и сами не торопятся вернуться на студию. Но дама ни за что не желала ждать завтрашнего дня и попросила полицейских взять их с Жозефиной с собой. Та отказывалась уезжать без ман-Ненетты, и тетка согласилась забрать обеих. Таким отрядом – мужчины впереди, женщины сзади – они и двинулись к полицейской машине, в которую забрались все вшестером. В том же самом порядке: мужчины на переднем сиденье, женщины – на заднем. Все было кончено. Остались только комментарии, болтовня и пословицы, наверное, кое-кому они помогли заснуть в ту ночь. Мы с Джонни спустились с крыши мебельной фабрики. Домой идти нам не хотелось, потому что родители наверняка будут весь вечер пережевывать случившееся. К тому же мы волновались за вас – где вы будете ночевать. В конце концов Джонни сказал, что пора по домам и что – слово Заики – мы должны скоро с вами увидеться, потому что завтра суббота, и Колен обязательно будет крутиться возле исправительной тюрьмы».
* * *
Им пора было возвращаться. Они слишком долго отсутствовали и опасались расспросов, которые им вполне могли учинить. Мне хотелось объяснить им, что мы сделали это не нарочно, несчастье произошло случайно. С ними я мог говорить, не боясь нарушить обещания, данного Мариэле. Что хорошего, если друзья, с которыми видишься в последний раз, сохранят о тебе плохое воспоминание? Мне хотелось, чтобы они мне поверили, согласились с теми словами, что я собирался произнести. Это был несчастный случай, а вовсе не преступление. Вот такая полуправда-полуложь. Просто слова, необходимые мне для сохранения нашей дружбы. Они не стали вдаваться в подробности, предпочли сделать вид, что правды не существует, а если она и существует, то не имеет никакого значения, и ушли насвистывая, не отпустив ни единого замечания. После их ухода мы не долго оставались на площади Карла Бруара. Покинув ее, побрели куда глаза глядят, и ноги вынесли нас в студенческий квартал. Во дворе юридической школы спорили будущие политики. В инженерной школе парни сидели на подоконниках и обсуждали футбол и девушек. Студенты-медики выделялись белыми халатами и какой-то особенной элегантностью. Они передвигались чуть ли не на цыпочках, едва касаясь ногами земли, словно боялись пораниться. Белый цвет плохо сочетается с палой листвой, апельсиновой кожурой, смятыми бумажками и грязью стен, заляпанных тысячами пальцев. Когда я болел малярией, раз в неделю ходил к педиатру. Это был молодой врач, который все время улыбался и говорил ласковым голосом. Он угощал меня конфетами. Постепенно я начал относиться к нему как к другу. Он расспрашивал меня о жизни, семье, школе. «Мой отец был боксером в Доминиканской Республике, а сейчас работает в автомастерской. Мать ведет хозяйство и почти никуда не ходит, хочет быть поближе к Богу. А в школу я хожу, только когда у нас есть деньги. Заботится обо мне в основном сестра». Даже не зная Мариэлу, он высоко ее ценил и предрекал, что из нее получится отличная медсестра, потому что мое состояние заметно улучшалось. Но я не представлял себе, чтобы Мариэла могла всю жизнь провести в больничных палатах, в белой шапочке и перчатках. Мариэла любит дышать воздухом свободы. Посещения врача здорово изменили мою жизнь. Вообще мне понравилось болеть. Я очень гордился тем, что у меня теперь есть друг за пределами бидонвиля. Все-таки что-то новенькое. Он рассказывал мне о своей работе, и я много узнал о нем. Однажды, когда уже совсем поправился, я пошел к нему без записи. Он работал и все так же улыбался. Я подождал, пока разойдутся остальные пациенты, и завел с ним разговор об астме и брюшном тифе. У нас в квартале, если ребенок начинает задыхаться или не узнает своих родных, все говорят, что у него или астма, или брюшной тиф. Он ответил, что я теперь здоров, а у него много работы, и дал конфетку маленькой девочке, которая пришла к нему на прием в первый раз и громко плакала. Какой же я был дурак. Этот врач даже имени моего не знал, но я на него не сержусь. Это вам не сахар – целыми днями улыбаться как заведенному целой армии больных детей. Надеюсь, Жозефина не совершила той же ошибки с теткой из лиги. Она сейчас временно живет у этой самой тетки, но дружба богатых – штука ненадежная. Студенческий квартал мне нравится. Здесь не услышишь печальных голосов. Жалко только, что не удалось заглянуть в художественную школу, в класс, где учат играть на гитаре. Я внимательно осмотрел покрытую рисунками стену фасада, но так и не понял, что же там изображено. Правда, надо сказать, жизнь порой тоже ни на что не похожа. На улице сновали торговцы, наперебой предлагавшие студентам колотый лед и газеты. Мариэла попросила у меня монету в пять гурдов и купила газету. Мы забрались на каменную ограду, возле факультета естественных наук. Мариэла развернула газетный лист и спряталась за ним. Остались видны только ноги, которые ей для устойчивости пришлось раздвинуть. Платье у нее задралось почти до самых бедер. Какой-то студент в белом халате так и приклеился к ней взглядом, как будто хотел прочитать газету. Мариэла, не догадываясь об этом, раздвинула ноги еще шире. Пока она изучала газету, я следил за работой передвижного фотографа, устроившегося со своей аппаратурой в салоне сломанного микроавтобуса. Студенты входили туда и усаживались на табурет. Он поправлял каждому воротничок, устанавливал голову в нужном положении, задергивал шторку и делал снимок. Студенты медицинского факультета снимали с себя белые халаты и в обычной одежде уже ничем не отличались от других. Такие фотографии делают на паспорт или для получения заграничной визы. Ман-Ивонна настояла, чтобы мы тоже сфотографировались. Нам есть было нечего, а она хотела, чтобы у каждого члена семьи был паспорт: это как бы приближало нас к отъезду. В бидонвиле у многих под матрасами хранятся паспорта – маленькие синенькие книжечки с чистыми страницами. Лежат и ждут своего часа. В газете как раз про это и писали. Мариэла успела прочитать достаточно. Она подняла голову и проследила за взглядом студента, протянула мне газету, чтобы студент мог разглядеть ее целиком. Она ему улыбнулась, не меняя позы. Меня эти фокусы разозлили. Не могу сказать, что я ее ревновал. Какое я имел на это право? Она и мне улыбнулась, словно давала разрешение тоже смотреть. Как будто принимала меня в игру, но я не посмел и вместо этого погрузился в чтение статьи. В ней говорилось про нас, что мы собирались покинуть страну. Про Корасона, который продержался против Эль-Негро всего половину первого раунда. Журналист заполнил недостающие страницы в биографии Корасона: рассказал о годах его жизни после боксерского матча, про которые никто ничего не знал, и как однажды вечером он вернулся с опозданием на десять лет. О том, как отец выставил его вон, потому что в двадцать пять лет пора повзрослеть. О Жозефине – сироте из приюта, которую монахини научили одному – повиноваться приказам. О том, как он притащил Жозефину в бидонвиль. Муж, который обращается с тобой как с половой тряпкой, все же лучше, чем куча монашек, заменяющих тебе отца и мать. Рассказал о нас, что мы не могли простить Корасону запрета воспользоваться наследством ман-Ивонны. Что мы превратились в государственную проблему. Рассказал о ман-Ивонне, с которой журналисты так и не смогли связаться по телефону. О ман-Ивонне, которая на старости лет оказалась одна-одинешенька во Флориде. О даме из женской лиги, объявившей сбор средств для помощи Жозефине. Статья была длиннющая, напечатанная мелким шрифтом. Я прочел ее не всю. Мариэла еще примерно полчаса не выбрасывала газету, пока постепенно не начало смеркаться. Вечер еще не наступил, но читать уже было трудновато. Студенты покидали здания факультетов. Медики снимали халаты, складывали их и убирали в сумки. Кому было по пути, собирались в небольшие группки. Мы почти машинально пошли следом за самой многочисленной из них. Они направлялись на стадион, где вечером должны были играть мировые звезды. По дороге я выбросил газету, чтобы освободить руки. К тому же наши имена, напечатанные на первой странице, внушали мне ужас. Это я хорошо помню. На других страницах, в середке, была одна статья в рубрике «Новости», еще длиннее, чем посвященная нам, там говорилось, что в городе на юге скоро будут отмечать День моря. Там были фотографии, и всех желающих приглашали принять участие в празднестве. Не знаю, какую из этих двух статей так долго читала Мариэла. Я у нее не спрашивал. На следующий день, когда нас схватили, мы потеряли друг друга из виду, разделенные жаждущей справедливости толпой, она успела крикнуть: «Братишка, встречаемся в Пестеле!» По-моему, именно так назывался тот город, про который писали в газете.
* * *
Вокруг стадиона народу было ничуть не меньше, чем внутри. Охранники теснили бедолаг, купивших у мошенников фальшивые билеты. Те не уходили и оглядывались по сторонам в надежде поймать обманувших их жуликов. Но у большинства вообще не было никаких билетов. Денег им хватало разве что на банку пива с какой-нибудь закуской – рыбной котлетой или куском свинины. Следить за ходом матча они собирались с помощью десятков транзисторных приемников, настроенных на волну государственной радиостанции. Я боялся, что в толпе окажется кто-нибудь знакомый. Это был бы еще один неприятный сюрприз после того, как на площади нас засек Ромулюс. Ромулюс с его порядком и дисциплиной. Тем более, весь город наверняка уже знал о происшествии. Я искал тенистый уголок. Мариэла не разделяла моего беспокойства. Казалось, мое присутствие ее скорее раздражало. Мешал я ей, что ли? По дороге студенты завязали с ней разговор. В их числе был и тот, которому она улыбалась. Я ему не доверял. Она суетилась, искала кого-то в толпе и без конца спрашивала, который час. Как будто боялась опоздать на свидание. В конце концов ей надоело топтаться на одном месте, она сказала, что у нее кое-какие дела, и велела подождать ее возле бокового выхода со стадиона, с той стороны, где начиналось кладбище. Она придет, как только закончится матч. Сказала и ушла, только обернулась и одарила меня одной из своих улыбок, не настоящей, а какой-то приклеенной. Когда Корасон задает мне очередную трепку, она улыбается совсем не так. Мариэла видит, как мне больно, и улыбается, чтобы разделить мою боль, или кладет руку на мою половину матраса, и я засыпаю счастливый, уцепившись за нее как за ветку. Во второй вечер она ушла. Конечно, я знал, она вернется. Но она выбрала что-то помимо меня. Или кого-то. Все то время, что мы были вместе, она, возможно, чувствовала свое одиночество. Раньше я об этом как-то не думал. Ее уход ставил нас с ней на одну доску. Я выбрался из темного угла, понимая, что рискую столкнуться с кем-нибудь из соседей по бидонвилю. Вокруг стоял гвалт, транзисторы передавали состав каждой команды. Толпа встречала каждое имя громкими возгласами и осуждала выбор тренеров. Изнутри стадиона до нас доносились нетерпеливые крики настоящих болельщиков. А потом вдруг наступила тишина, заиграли национальный гимн. Это единственные стихи, которые я помню наизусть. Учительница заставила выучить: «Каждый порядочный гражданин обязан с уважением относиться к своему флагу и помнить наизусть слова национального гимна». Слова-то я выучил. А вот насчет остального сомневаюсь. Помню только, ман-Ивонна говорила, что раньше такие слова, как народ и молодежь, еще имели для правительства какой-то смысл, но сегодня они не значат ничего, превратились в линялую тряпку, брошенную на потеху собакам. Потом все снова ожило. Люди за оградой стадиона следили за ходом матча, как будто находились внутри, подбадривали того, кто вел мяч, аплодировали вратарю, когда он отбивал удар. Поначалу это показалось мне нелепым. Зачем притворяться, что видишь то, чего не видишь? Потом наши забили гол, и болельщики на улице заорали одновременно с болельщиками на стадионе. Я тоже включился в эту игру и вслед за ними увидел, что гол был очень красивый, а арбитр, не засчитавший второй гол, допустил ошибку. Когда противник сравнял счет, я обнаружил, что наша защита действует слишком вяло, капитан хромает, а тренер почему-то не решается его заменить. Я видел все эти вещи, не видя их. Одному из следователей я сказал, что был на стадионе и не был там. Он ответил, что нечего придуриваться и изображать из себя умственно отсталого. Но это была чистая правда, я там не был, и все-таки я там был. Думаю, если бы меня попросили описать, как выглядят трибуны, какой формы и какого цвета скамьи, я смог бы это сделать. Я пробыл там весь первый тайм. Потом отсутствие Мариэлы стало невыносимым. Я уже ни о чем не мог думать, только о ней. В перерыве обманутые болельщики поймали одного из жуликов. Карманы у него были битком набиты фальшивыми билетами. Жертвы мошенника разодрали на нем одежду и напихали ему в рот билеты. Его спасло начало второго тайма. Он удрал, побежал со всех ног, оставляя за собой лохмотья рубашки и роняя капли крови. Во втором тайме я оттуда ушел. Может, и нас ждет та же судьба, подумал я. И отправился ждать Мариэлу к боковому выходу, что со стороны кладбища. Я сел на землю, загородил проход. Охранник велел мне подвинуться. Я, не поднимаясь на ноги, немножко отъехал с дороги. До меня, постепенно слабея, доносился шум стадиона. Я увидел спину Мариэлы, мостки, людей вокруг себя – их были тысячи и тысячи, и снова – спину Мариэлы, она по-прежнему не поворачивалась ко мне лицом, как будто мне нельзя было на него смотреть, я услышал крики: «Да подвинься ты», – почувствовал прикосновение чужих ног, опять мелькнула спина Мариэлы, только спина, и она все удалялась от меня, я позвал ее, но она не отозвалась, я окрикнул: «Обернись же, ты что, про меня забыла?» – и один из голосов велел мне заткнуться. Кто-то пнул меня ногой прямо в лицо. И все исчезло, и Мариэла, и голоса. Когда я очнулся, вокруг не было ни одной живой души, одни мертвяки на кладбище. Новый мир Корасона. В бидонвиле болтают, что после смерти у людей начинается другая жизнь, и главное занятие умерших – обсуждать наши дела. Мертвые говорили со мной о реальности того мира, что существовал до их смерти. Они сказали мне, что Мариэла не вернется. Час нашей встречи давным-давно миновал. Никто из живых не способен один на один сразиться с мертвыми. От их имени выступал Корасон. Он у них стал главным и говорил как живой. Он до сих пор приходит ко мне, стоит мне остаться одному, даже сейчас. И я рассказываю эту историю, чтобы не слышать его. Рассказываю, когда есть кому слушать, или рассказываю самому себе. Он приходит при каждом удобном случае и говорит со мной о боксе, объясняет, почему никто не мог понять ни того, что он делал, ни того, что он собирался сделать, – он сам так устроил. Существует единственный ключ, отпирающий врата мудрости, – у тебя нет никого, кроме тебя. Мариэла ушла, оставив мне темноту и кладбищенскую песнь. Я уже почти смирился с этим, когда Мариэла вернулась. Новенькая с иголочки Мариэла, счастливая и несчастная. Немного смущаясь, она сказала, что у нас теперь есть деньги, чтобы снять на ночь номер в отеле на главной улице. В одном из этих убогих строеньиц с обшарпанными фасадами, где находят приют наркоманы и проститутки. Это, конечно, было лучше, чем кладбище. Мне захотелось узнать, откуда деньги. Студент дал. Но почему? А тебе-то какая разница? Почему ты спрашиваешь? Потому что мне этот студент сразу не понравился, потому что ты ушла к нему, потому что ты меня даже не спросила, а я был против. Ну и что? Его больше нет. Есть ты и я. И всегда были только ты и я. Мы пошли к главной улице, оставив позади кладбище, пустой стадион и злую сторону тьмы. Отель выбирала Мариэла. Они ничем не различались между собой, разве что названиями. Мариэла выбрала «Звезду», свою звезду. Портье не задавал вопросов. Номер располагался на втором этаже, недорогой, недостаточно дорогой, чтобы в нем были вода и вентилятор. Мы шагали по тускло освещенному коридору, касаясь друг друга плечами, заметили приоткрытую дверь: кровать, несвежие простыни, шишковатый пол, тараканы, таз для умывания. Грязь, как у нас, как будто мы заплатили деньги за то, чтобы переночевать в знакомой обстановке. Как будто мы вернулись домой, в родной бидонвиль, в свой изолированный мирок, весь состоящий из спусков и подъемов, словно подвешенный на безумных качелях. Вернулись в привычное дерьмо. На свою звезду.
* * *
Бедняки всегда ходят одними и теми же путями. Нам знакомы только пустыри, на которых роль пейзажа играет толпа. Случай или необходимость всегда приводят нас в одни и те же места, в нашу часть города, в кварталы, похожие на наш. В сущности, это не так уж плохо. Тебе легче переносить свое положение, если не знаешь, что где-то бывает по-другому. Раз в год Жозефина отправлялась на богомолье в Сен-Шарль. Я провожал ее до Карфура[9], где народищу всегда столько, что вообще ничего не видно, ни домов, ни моря. В Карфуре, кроме народу, видно только солнце, которое сияет наверху одно-одинешенько, как Бог, не имеющий родни. Карфур похож на бидонвиль, только больше. Квартал, огромный, как целая страна. Чтобы выжить, мы предпочитали думать, что весь мир похож на наш, населен множеством Жозефин, кучей Корасонов. В этом мире всегда одна и та же погода – плохая. Мы получали письма от ман-Ивонны с добрыми советами и всякими электронными диковинами. Читала их Мариэла. Жозефина научилась читать (у монахинь) в том далеком прошлом, о котором никогда не рассказывала. Но с тех пор она слишком мало практиковалась, если не считать Библии, и почти все позабыла. Мы ждали, когда Корасон уйдет в мастерскую. Он торопливо собирался и исчезал, прихватив с собой свое вранье и ящик с инструментами. Мариэла читала письма вслух, по два раза повторяя самые важные куски. У нас складывалось впечатление, что ман-Ивонна преувеличивает, нарочно выпячивая положительные стороны своего переезда, чтобы заманить нас к себе. Если бы только Колен согласился… Но Корасон не желал ничего иного, кроме нашего занюханного домишки, бокса и своего комбинезона. И присутствия Жозефины. «Можешь не задергивать занавеску, – говорил он, – я ничего не хочу, трахайся со своим Богом». Иногда Корасон говорил очень жестокие вещи, но чаще просто врал, себе и другим. Врал, чтобы помучить Жозефину. Он-то бывал за границей, видел другие страны и других людей, но потом вернулся. И ведь не привез себе жену оттуда, а взял девчонку из сиротского приюта, у которой уныние было в природе. Если верить Корасону, хорошо там, где нас нет. Но мы на третий день совершили что-то вроде путешествия в страну туристов, чтобы других посмотреть и себя показать. Одну вещь я усвоил твердо: никто никому не может служить примером. Все правы и все виноваты. Жизнь виновата. На третий день мы отправились на гору, что в ясные дни видна из бидонвиля. У нас не было стопроцентной уверенности в ее существовании. Можно ли на нее подняться и гулять среди зелени? Амбруаз как-то туда ходил с матерью – она убиралась на одной вилле. Он рассказывал об этом месте как о другой стране. На третий день мы в первый раз пошли на гору. Сидя в грузовике, мы рассматривали окружающий пейзаж, деревья, виллы, антенны на крышах, собак, счастливо махавших хвостами. Мысленно мы сделали тысячи фотографий на потом. За неимением моря, которое мы, наверное, так никогда и не увидим, пусть будет хотя бы гора. И мы ее получили и сравнили впечатления, как настоящие путешественники. Мне понравились черепичные кровли и здоровенные собаки, которые совсем не выглядели злыми. Мариэла вела себя так, как будто все здесь ей было знакомо. Увиденное словно сошло со страниц сочинений, которые она раньше писала за меня. В каком-то смысле выходило, что она была Богом, придумавшим мир, и этот мир вдруг стал реальным именно потому, что она выдумала его таким. Мы заплатили за проезд и вышли из грузовика. Воздух здесь был свежее, и солнце пекло не так сильно. У нас еще оставалось несколько монет, чтобы вернуться назад, в город. Отсюда, сверху, он казался совсем не страшным, наоборот, можно было подумать, что гора, по склонам испещренная песчаными карьерами, однажды обрушится на него и раздавит его массой своих цветов. Мы сумели разглядеть стадион, кладбище, собор и еще несколько зданий, пытались понять, где наш бидонвиль, но у нас не было ни одного ориентира. Все бидонвили на одно лицо. Мы купили ежевики. Раньше мы даже не знали, что бывают такие ягоды. Торговка сказала, что ежевика растет только в Кескоффе, где не так жарко, как в остальных частях страны. Мариэла спросила у нее, откуда лучше всего смотреть на город, чтобы увидеть его целиком. Этот вопрос ее удивил. Она поняла, что мы не местные, и ткнула пальцем в сторону Бутилье. Мы двинулись в указанном направлении, и она добавила, что подъем крутой, а гиды не любят попрошаек. По дороге нам встречались огромные грузовики с песком для стройки. Чуть дальше, слева, мы заметили карьер. Вот это работа! Если бы у Корасона была настоящая работа, может, он до сих пор был бы жив. Но Корасон мечтал об одном – стать боксером, переколотить всех соперников и добиться мировой славы. Даже в последнее время, когда уже был далеко не молод, он продолжал об этом мечтать, поэтому все, что он делал, делал как бы понарошку. Ничего из этого для него не существовало, ни мастерская, ни мы, ни Жозефина, ни его вранье, ни выпивка, ни прошлое, ни его отец, который предпочел умереть, лишь бы не помогать ему и дальше жить с этой мечтой. Корасон со всем справлялся в одиночку. И чем дальше, тем более он был одинок. Он жил с мечтой, въевшейся ему в мозги, о будущих схватках, которых не могло быть. Вот почему он не хотел покидать бидонвиль. Он ведь по-настоящему никогда и не жил, его жизнь протекала на ринге, а дом ман-Ивонны, хоть и красивый, все-таки не ринг. Люстра не может заменить чемпионский титул. Может быть, сумей мы его выслушать, войти в его мечту, он был бы счастливее. Проблема в том, что у каждого слишком мало счастья, чтобы еще делиться им с другими. Во всяком случае, в нашем бидонвиле. Может, в Бутилье его больше? Мимо проезжали арендованные автомобили, пассажиры смеялись. Здесь правда было очень красиво. Мы добрались до вершины и пошли рядом с иностранцами в огромных шляпах и с фотоаппаратами. Гиды о чем-то рассказывали, размахивая руками. Туристы все понимали, но, отвечая, тоже размахивали руками, показывая, что хотят пить или, например, присесть. Я не собирался подходить к ним слишком близко, но они заняли самое лучшее место. А Мариэле не терпелось посмотреть на город. И мы встали рядом с супружеской парой. Гид жутко разозлился и начал говорить туристам, чтобы остерегались маленьких воришек, которые выдают себя за нищих. Женщине захотелось сделать фотографии. Мужчина, весь волосатый, улыбался нам как маленьким и объяснял женщине, как пользоваться фотоаппаратом. Гид стоял у них за спиной и грозил нам кулаком. Но Мариэле было на него плевать, она смотрела на город внизу. В конце концов женщина разобралась с фотоаппаратом и принялась громко восторгаться пейзажем. Ей хотелось заснять абсолютно все – растения, небо, плодовые деревья, гида, нас, попросив разрешения. Мужчина сказал, что они нам заплатят. Они впервые в этой части света, и им кажется, что люди здесь очень отзывчивые. Мариэла поинтересовалась, сколько он нам даст, и он протянул нам бумажку в десять долларов. Я убрал ее в карман. Женщина поставила нас, куда ей хотелось, под дерево, сделала первый снимок, который ей не понравился. Мы забыли улыбнуться. Она подарила фотографию нам, но настояла на своем праве сделать другую. На этот раз мы улыбались как две механические куклы. Этот снимок ей подошел. Она оставила его себе. Волосатый дядька нас поблагодарил. Гид сказал, что им пора, но иностранцы захотели задержаться еще ненадолго, потому что это было их первое путешествие, а в этой части света все очень красивое – и деревья, и люди. В том числе мы, в своей одежде, от которой уже начинало попахивать. И гид с сорванным голосом, с желтыми зубами и в мятой застиранной рубашке в цветочек. В Бутилье всегда прохладно. Говорят, там прохладно в любое время года. У меня опять начался кашель. Мы пошли вниз по тропинке. Мариэла шагала впереди. Я шел за ней. Мы знали, что наступил последний день праздника. Первый, он же последний. День, которому не было места на неделе. День вне времени, вне календаря. День, не имевший ничего общего с другими днями. Мы уже решили, что вечером вернемся, пойдем в ближайший к бидонвилю комиссариат. Самым умным было бы отправиться по тому адресу, который указала в газете тетка из женской лиги, но Мариэла не хотела впутывать Жозефину в наши проблемы. Полиция ее обо всем уведомит, и она сама решит, что делать, навестить нас в тюрьме или возненавидеть. Жозефина пока не знала – она вообще не любила узнавать что-то новое, любила только молиться и страдать, – что она ничего нам не должна. Что она свободна. Никто никому ничего не должен. Так говорила Мариэла, пока мы спускались с холма Бутилье. Меня сотрясал кашель из-за сырости и прохлады. Я немножко замерз, но ощущение было приятное, как будто находишься близко-близко к небу. Протяни руку – и потрогаешь небесную лазурь. Здорово воскресным утром побывать рядом с облаками. Меня окликнул гид: «Вы должны отдать мне часть денег, которые вам заплатил мой клиент». Мариэла повернулась к нему, а я инстинктивно сунул руку в карман, чтобы защитить свои десять долларов. Гид ужасно злился: «Таково правило. Вы обязаны отдать мне часть. Все делятся друг с другом: водители, гиды, воры, попрошайки. Вы что же, думаете, вам позволят являться откуда ни возьмись и отнимать деньги у тех, кто работает? Я три дня с ними таскаюсь. На пляж водил, на рынок водил, в лавки народных промыслов водил. А сегодня сюда привел. Гоните половину. Не то все заберу». Вид у него был грозный, к тому же в его словах была определенная логика, но мы уже пообещали друг другу, что устроим себе воскресный отдых, проведем вторую половину дня на площади Героев, позволим себе развлечься, пока на нас не поставили клеймо преступников. Пусть это будет совсем короткая передышка, пара часов, на которые мы вырвемся из потока времени и забудем о причинах и следствиях. Десяти долларов должно хватить, чтобы на краткий миг превратиться в детей героев, рожденных для счастья, на площади, у подножия статуй. Гид ничего этого не понял бы: «Я пятнадцать лет здесь работаю и говорю вам: у нас свои правила». Мариэла спросила у него, слушает ли он радио. Вернее, слушал ли он радио в последние дни. Может, он не в курсе, что двое подростков убили родного отца и теперь шляются по городу, и у каждого – по ножу. Мы ни с кем не делимся. Мы берем. А если к нам вяжутся, мы убиваем. Гид слышал о нас и попятился назад. Я по-прежнему держал руку в кармане, сжимая в кулаке бумажку в десять долларов. Но страх заставляет нас видеть не только то, что есть, но и то, чего нет. Гид увидел нож и закричал: «Убивают!» – и попятился назад. Правда, люди, сидевшие в проезжавших мимо машинах, не обратили на его крики никакого внимания. Он побежал вверх, на холм, и стал звать на помощь своих коллег. А мы бросились вниз по склону, с трудом протиснулись в битком набитый грузовик и покатили в город. В грузовике я достал из кармана смятую бумажку и фотографию. Да, на снимке мы в своей грязной и несвежей одежде имели невеселый вид. Зато в кадр попало дерево, перед которым мы стояли. А за деревом была пустота. Какая красивая вещь – пустота. Наверное, у пустоты нет ни совести, ни памяти. Грузовик ехал быстро, и чем ближе мы подбирались к городу, тем безобразнее становился пейзаж. Я подумал о ман-Ивонне: ей будет за нас стыдно, потому что мы взяли деньги у иностранца. Мариэла догадалась, о чем я думаю, и сказала: «Это все неважно». На третий день было воскресенье, а по воскресеньям в бидонвиле все дружно меняют кожу. Даже самые отъявленные уроды стараются себя приукрасить. Старики молодятся, женщины подметают сухую землю перед входом и поливают ее водой. В воскресенье все принимают другое обличье и пытаются забыть о своей нищете. Корасон обычно снимал комбинезон и надевал синюю майку, которая особенно хорошо подчеркивала его мускулатуру. Жозефина сосала лакричные конфеты. Джонни меньше заикался. Даже толстяк Майар становился довольно симпатичным и мог за весь день не оскорбить ни одну девчонку. И как истинные жители бидонвиля, мы решили устроить себе воскресенье.








