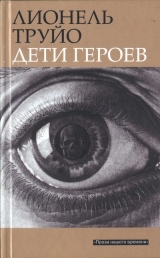
Текст книги "Дети героев"
Автор книги: Лионель Труйо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
* * *
«В то время молва об Иисусе уже разнеслась окрест, и его ожидали в Кане». Наутро мы проснулись от голоса проповедника. Этот голос заполнил собой всю улицу и разбудил наш задремавший страх. «Молва об Иисусе уже разнеслась окрест, и его ожидали в Кане». Всего один человек со своими притчами. Библия, накладной воротничок и громкоговоритель. Даже солнца не было, только утренняя свежесть и небо, зияющее отсутствием звезд. День со своей грязью и жарой еще не родился, но Божий человек все равно потел. По лицу у него стекали крупные капли пота. Все проповедники потеют, всегда, в любое время года. Если на службе много народу, пастор баптистской церкви велит служке ходить за ним с носовым платком и утирать ему лоб после каждого аминя. Но этот проповедник стоял на рельсах один-одинешенек и обращался в пустоту, как машина, работающая на холостом ходу, – без платка и без паствы. Произнося очередную фразу, он притоптывал ногой, отбивая ритм. Рычащий Бог бедных кварталов лишен вальяжной медлительности церковного Господа. Проповедник еще и подпрыгивал на месте. Я слыхал, что этим приемчиком можно раздавить зло. «Праведники ожидали учителя, дабы повиноваться ему и почитать его. Но там же находилась шайка нечестивцев, явившихся с целью опорочить его». В нашем квартале тоже есть проповедники, которые выходят с утра пораньше обращать неверных. Только наши точно знают, что у них будут слушатели. У нас в любое время дня и ночи народу не протолкнешься. Чуть где какой шум, они тут как тут – целой армией. Проповедник на рельсах разорялся в пустоту, обшаривая взглядом горизонт в поисках случайного прохожего, способного спасти его слово. «Толпа проведала, что учитель явился на свадьбу. Молодые приходились ему друзьями, и он пообещал прийти в Кану и стать свидетелем на свадьбе. Зная, что Господь всегда держит данное слово, зеваки столпились возле входа в дом, где проходило торжество». Эта свадьба отличалась от Жозефининой. Но я предполагаю, что у Бога для каждого находится слово. Хотя какая разница? Мне снова и снова вспоминалась смерть Корасона. Не может Бог быть на нашей стороне. Двигаясь как можно осторожнее, чтобы не привлекать внимания проповедника, мы сняли с себя вчерашнюю одежду и переоделись в чистое. Мариэла через голову стянула запачканное кровью платье. Она была без лифчика – она его вообще не носит, и я смог увидеть, что ее тело здорово изменилось со времен нашего детства, даже с той поры, когда мы танцевали, тесно прижавшись друг к другу. Ее тело стало более телесным, и грудь выросла – девическая грудь, страдальческим голосом произносила Жозефина, выражая свое неодобрение. Жозефина слишком серьезно воспринимала историю с лифчиком, даже говорила об этом с Корасоном. С ее стороны это было своего рода предательство. Ведь мы не рассказывали ей о том, что думают другие или делают. Таким образом мы пытались защитить нас, всех троих. Но Жозефина была слишком слаба, частенько нарушала наш союз и наболтала ему про лифчик, дескать, она теперь совсем женщина, а мужики так и вьются вокруг ее сисек. Но его эти подробности мало интересовали. Все, что от нас требовалось, это не путаться у него под ногами. И потом, он питал слабость к Мариэле, восхищался ее силой и независимостью. Это она была его сыном, а меня он зачислил в тот же разряд, что Жозефину, – в лагерь слабаков, достойных только колотушек. Он жутко на меня разозлился, когда доктор сказал, что из-за малярии и хилого сложения я не могу заниматься боксом. «Толпа ввалилась в дом новобрачных. Оповещенные о присутствии Христа, пришли и те, кого никто не приглашал, но кто хотел принять участие в празднестве. Большая часть присутствующих последовала за Господом, желая коснуться его или посмотреть на него собственными глазами, ибо нет большей благодати, нежели видеть живого Христа. Но шайка нечестивцев не собиралась отступиться. Среди них было несколько лжепророков, которые подавали остальным дурной пример и насмехались над ним. „Когда же ты нам докажешь, что ты в самом деле сын Божий? Если ты и вправду тот, за кого себя выдаешь, яви нам чудо – сейчас же, немедленно“. Они заранее договорились, что станут оскорблять Господа, и приготовили ему ловушку: решили разлить вино и опустошили все бочонки». Я сглупил – засунул вчерашние штаны в сумку, даже не подумав вынуть из кармана деньги, и они провалились на самое дно. Я захотел их достать. Самое простое было вынуть все из сумки, и я начал вытаскивать шмотки – пояс, рубашку, когда-то подаренную ман-Ивонной, но все не мог нащупать деньги. Вдруг моя рука, шарившая в глубине, наткнулась на что-то шелковистое, нежное, как персик, так что от неожиданности я даже отдернул руку. Этот жест привлек внимание проповедника. Наконец-то он нас заметил и расплылся в довольной улыбке. Обрадованный, что заполучил аудиторию, он пошел по рельсам к нашей машине. Над нами гремел его голос. Он до максимума открутил громкость своего мегафона. «Тогда нечестивцы и другие негодяи принялись выливать вино. Женщины и дети, которые обычно вина не пьют, последовали примеру мужчин, наполняли вином свои чаши и опрокидывали их за окно. Мужчины пили его с жадностью. Они подкупили слуг, и те с лицемерными улыбками роняли на пол полные кувшины. А когда вина стало не хватать…» Мы вышли через дверцу со стороны тротуара, а он остановился возле левой дверцы, что открывалась на улицу. Так мы и стояли по бокам от машины. Он орал в мегафон, перечисляя козни нечестивцев, которые продырявили бочонки с вином, дабы очернить Иисуса. Мариэла сказала ему, чтобы он оставил нас в покое и шел проповедовать туда, где больше народу. Но проповедник слышал только Божий глас, так что мы очень скоро пополнили собой список нечестивцев. К счастью, взошло солнце, а с ним появились другие люди. В конце улицы показалась группа мужчин, их было четверо. На одном был синий комбинезон, похожий на тот, что носил Корасон, только замызганный, трое других были одеты в майки и разорванные на коленках штаны, засалившиеся от грязи. Это были механики. Настоящие. Не чета Корасону – не притворные. И тут мы поняли свою ошибку. На улице с рельсами располагалось вовсе не кладбище брошенных машин, но длинная автомастерская. Ремонтный цех под открытым небом для совсем дряхлых автомобилей, которые никому даром не нужны, кроме разве что своих владельцев. Выходит дело, мы ночевали вовсе не в брошенной машине. И если механики заметят на заднем сиденье сумку, они вполне могут принять нас за воров. «Когда же вина стало не хватать, шайка нечестивцев приблизилась к Иисусу и хором загалдела: „Ты говоришь, что способен творить чудеса! Так неужели ты позволишь своим друзьям праздновать свадьбу без выпивки? Что это за свадьба, на которой ни хозяевам, ни гостям нечего выпить? Что это за свадьба, на которой гостей потчуют только хлебом и водой? Разве так Бог, за которого ты себя выдаешь, помогает своим друзьям? Если ты Бог, сотвори нам вина“. В их голосах слышалось издевательство. А Иисус, поняв их коварство, не хотел отвечать, если бы не настойчивость учеников и десятков тех, кто пришел посмотреть на него и поклониться. И тогда, указав на бочонки, опустошенные нечестивцами до последней капли, он сказал: „Не там ищете, ибо человек, полагающий, что ему ведом промысел истинного Бога, очень удивится, узрев его могущество…“» Механики оказались не самой лучшей публикой. Они уже принимались за работу, не обращая на проповедника ни малейшего внимания. Одну за другой они осматривали машины, открывали дверцы, вынимали из-под сидений запчасти и инструменты, домкраты и гаечные ключи, размерами даже больше того, с помощью которого мы… Мужчина в комбинезоне подошел к нашей машине и обнаружил на заднем сиденье сумку. Я так и не успел вытащить из нее штаны, а в них лежали все наши сбережения. Остальное не имело значения – запачканное кровью платье, плохо пошитые одежки, которые мы носили всегда, – ничего, чем стоило бы дорожить и о чем следовало горько сожалеть. Кроме той шелковой на ощупь вещицы, от которой моей ладони стало тепло. Мужчина открыл сумку и начал в ней рыться, одну за другой выкидывая на дорогу наши вещички, но трусики он не выбросил. Как такая крохотная вещь может производить такое впечатление? Мужчина щупал их как обещание чего-то прекрасного, и я понимал его чувства. Красивые. Светло-зеленого цвета. Любимого цвета Мариэлы. Ни капли не похожие на толстые хлопчатобумажные панталоны, какие носят тетки нашего квартала. Это были настоящие девичьи трусики, невесомые и непостижимые, как тайна. Такие показывают в фильмах, на которые не пускают детей младше восемнадцати лет. Мы иногда смотрим их, если в программе нет боевика. Мужчина повернулся к нам и смерил взглядом Мариэлу. Очень откровенным взглядом. Очень целеустремленным. Он смотрел на нее как похотливое животное и своим взглядом надевал на нее трусы и тут же их снимал. Потом он окликнул своих друзей, которые пробурчали что-то в ответ, не прекращая работы. Проповедник, зачарованный видом трусов, ненадолго умолк. Но тут же «Иисус обратился к толпе, указывая пальцем на бочки с водой: „Там найдете свое вино“. Господь говорил с ними, не понижая голоса. И каждый слышал его слова: „В доме моих друзей и служителей моего отца всегда найдется выпивка, чтобы утолить жажду добропорядочных людей. Наливайте, бочки полны“. Толпа, пихаясь локтями, ринулась в праздничную залу. Нечестивцы вперемешку с поклонниками ринулись к бочкам и обнаружили в них превосходное вино, лучшее, что способны произвести виноградники, ибо дары Господни – всегда отличного качества». Механики велели ему заткнуться, потому что у них полно работы. Все, кроме того, в комбинезоне, который не видел вокруг никого, кроме Мариэлы. Мариэлы в трусиках. Мариэлы нагишом. Как в кино. А я видел то, что видел он. Если хочешь получить их назад, детка, придется постараться. Один поцелуй, и я тебе их верну. Другие рабочие, которым не нравился весь этот шум-гам, принялись его увещевать: это ж дети, что ты к ним привязался? Но он не желал отступаться, и его голос звучал громче голоса проповедника, продолжавшего выкрикивать свое. «Господь преподносит нам исключительно продукты высшего качества. Плененные вкусом вина и чудом его изобилия, нечестивцы признали свое поражение…» Если хочешь получить их назад, детка, придется постараться. Один поцелуй, и я верну тебе и твои трусики, и твою сумку… «…и присоединили свои голоса к хору славословий. Иисус успокоил толпу и велел людям расходиться по домам, потому что Господь – не кинозвезда, которой нужны аплодисменты, и новобрачным хотелось побыть одним…» Всего один поцелуйчик, и они твои. Я же вижу, что ты та еще штучка. Мариэлу от бешенства прямо трясло. Я оглянулся в поисках камней: ничего подходящего, только бесполезная линия рельсов и асфальт. Мужчина размахивал трусами, подставляя их утреннему ветру. По лицу проповедника, опьяненного своим вином, свадьбой и неиссякаемым вдохновением, катились крупные капли пота. Вино Господне ударило ему в голову, и он смотрел на нас невидящим взглядом. Тогда я вспрыгнул на крышу машины, выхватил у него мегафон и швырнул в механика, метя в голову. Но я промахнулся. С меткостью у меня неважно, и, когда мы играли в птицелова, я всегда мазал мимо цели. Даже по крупным мишеням типа совы или сарыча не мог попасть. Механик пришел в ярость и бросился за мной. Спас нас проповедник, которому не терпелось забрать назад свой мегафон. Они ломанули вперед, не глядя по сторонам, и, конечно, столкнулись: механик упал, увлекая за собой проповедника, и оба, склеившись в пыльный клубок и дрыгая ногами, покатились по рельсам. Наконец им удалось расцепиться и подняться, и они принялись осыпать друг друга проклятьями: проповедник, словно мать, баюкающая младенца, прижимал к груди мегафон, а механик так и не расстался с трусами, но больше не размахивал ими как трофеем, а пытался с их помощью отряхнуться от пыли. Отнять их у него не было никакой возможности. Пока они валялись на земле, я успел только забрать деньги, и мы дунули оттуда что было мочи. Так что и второй наш день начался с бегства. Мы бежали, не разбирая дороги, не зная, куда и зачем бежим. Мы бежали от оставшихся за спиной трупа Корасона, жалоб Жозефины, воспоминаний о ман-Ивонне и своих слишком тесных одежек, от трусиков Мариэлы, подаренных себе самой, – наверное, единственной вещью, которую стоило взять. Позади раздавались сердитые голоса двух ссорящихся мужчин, проповедник вопил: «Господь посылает нам испытания по нашей вере», – а механик орал, что сейчас уложит Божьего человека на обе лопатки и заставит его сожрать этот проклятый мегафон. Другие рабочие посмеивались в сторонке, повторяя: «А что мы тебе говорили, оставь этих сопляков в покое, от них одни неприятности, особенно от девчонок. Кто ж с девчонками связывается, каждый дурак знает, что они приносят несчастье».
* * *
У нас было около шестидесяти гурдов[7]– все наше богатство. Три бумажки и горсть монет. Дома у нас такие суммы подолгу не залеживались. Обычно Корасон запускал лапу в деньги на хозяйство, не считая, сколько там осталось до конца недели. Не то чтобы он боялся, что его застукают, но все-таки дожидался, пока Жозефина отвернется лицом к стенке, и только тогда протягивал свою длинную руку над радиоприемником и открывал банку. Он поднимался среди ночи, тихо одевался, опустошал банку и уходил, даже не закрыв за собой дверь. Комната у нас такая маленькая, и если кто-то что-то делает, остальным все слышно – ничего не скроешь. Корасон раздвигал занавеску и торопливым шагом шел в нашу половину комнаты. Ему нужен был комод. Жозефина всегда ставила банку на одно и то же место, чтобы не осложнять ему жизнь. Мы отчетливо слышали, как скрипит крышка, откручиваемая умелой рукой. Он действовал быстро. Ему приходилось выходить за пределы бидонвиля, где нет ни одного бара. Пить, стоя возле прилавка торговцев дешевым вином, он не любил, предпочитал отправиться куда-нибудь подальше. Кроме того, была еще лотерея, шанс испытать удачу. Порой Корасон так спешил, что монеты падали и со звоном раскатывались в разные стороны. Шум поднимался такой, что и мертвого мог из могилы поднять. Жозефина просыпалась, жмурилась и обнаруживала Корасона, согнувшегося в три погибели, шарившего в темноте по полу, собирая рассыпанные монеты. Она сейчас же снова закрывала глаза, притворяясь, что ничего не видела. На следующий день, вся из себя грустная и печальная, она, якобы недоумевая, кто украл деньги, окидывала вопросительным взглядом сначала банку, потом меня, потом Мариэлу. От маленьких к большим, но до Корасона никогда не добиралась, а тот делал вид, что вообще тут ни при чем, исполненный достоинства и равнодушный, как порядочный гражданин, не желающий вмешиваться в преступление или скандал. Ладно, я пошел. Жозефина погружалась в молитву, служащую заменой дневному пропитанию, или лезла под матрас, где хранилась настоящая заначка. Если под матрасом было пусто, это означало, что в доме ничего нет, и мы и в самом деле нищие. Про последнюю заначку Корасон даже не догадывался, но банку Жозефина, как мне кажется, специально ставила на комод, на самом виду, чтобы Корасон брал оттуда деньги. Корасон с Жозефиной как будто постоянно разыгрывали какой-то спектакль, соревнуясь друг с другом, кто лучше исполнит предписанную ему роль. Можно сказать, что между ними существовало что-то вроде сообщничества. В день, когда он умер, – я знаю, что должен говорить: в день, когда мы его убили, – Корасон не залезал в банку. Он ожидал почтальона и достал стаканы, чтобы поговорить о Джо Луисе. О несравненном Джо. О непробиваемой защите Джо. О Джо, который никогда не пританцовывал на месте и не бегал от противника. Об отважном Джо. О герое ринга, который наносил удары, получал удары. Получал. Наносил. О Джо великолепном, которому никто не мог противостоять. Как-то раз, настроившись под влиянием выпитого на доверительный лад, почтальон сказал Корасону, как сказал бы закадычному дружку, что, дескать, его чемпион – это древняя история, типа черно-белого кино: «У тебя же нет телика, – говорил почтальон, – ты даже не видел современных боксеров. Куда твоему Джо против этих качков, нашпигованных витаминами! Они на электронных тренажерах занимаются! Он бы против них и минуты не выстоял!» Корасон сжал ручищу в кулак и что было силы шарахнул по столу. Почтальон выронил стакан и нервно сглотнул. Не желая показывать, как испугался, он посидел еще несколько минут, болтая о чем угодно, кроме бокса и Джо Луиса, а потом засобирался уходить. Корасон его не отпускал, но тот все-таки ушел под предлогом, что надо разносить почту. К двери он пятился задом, мелкими шажками. Корасон громовым голосом окликнул его, и тот не посмел юркнуть за порог. Корасон размахнулся и хлопнул его по спине, как бы говоря, что ничего страшного не произошло, только будь другом, поверь мне, что лучше Джо Луиса никого не было и не будет, вот это был мужик, не чета нынешним. Корасон все делал с размахом. Если уж он улыбался, так улыбался. Он во всем был большим. Единственная его слабость заключалась в том, что он бил Жозефину, но и это можно было принять за избыток силы. Вот почему для нас он умер не дома, убитый собственными детьми, а немного раньше, в автомастерской, когда он вдруг уменьшился в размерах, утратил и силу, и достоинство, и даже пикнуть не посмел, когда хозяин – пожилой коротышка, с которым и грудной младенец справился бы, поливал его грязью. А он в ответ только тряс головой, соглашаясь с каждым его словом, жалкий, как последний нищий, еще более жалкий, чем Жозефина. Это был не Джо, не Корасон, он сдулся в момент и превратился просто в груду мускулов, в живую тачку, годный лишь для перетаскивания самых тяжелых запчастей, делай что тебе велят, раз больше ни на что не способен, а еще раз вздумаешь фокусничать с двигателем или трансмиссией, смотри у меня. Корасон был грузчик, а никакой не автослесарь, и все эти инструменты в ящике, и синий комбинезон, и разговоры про работу, и гордость, с какой он рассказывал нам, как никто не понимал, почему заклинило трансмиссию или почему у новенького внедорожника, только-только пригнанного из демонстрационного зала дистрибьютора, задние колеса отказываются крутиться, а он один понял… И восторженные отзывы, которыми его осыпали клиенты, и зависть других слесарей, и тот факт, что платили ему не фиксированную зарплату, а процент от стоимости ремонта каждой машины, на этой неделе заказов совсем почти не было, неудачное время, и чаевые, полученные от благодарных автомобилистов… Нетрудно было догадаться, что появление этих «подарков» по времени совпадало с переводами от ман-Ивонны. Вскоре после того, как заходил почтальон, посетители автомастерской вдруг становились на удивление щедрыми. Так, может, прав был хозяин, когда кричал, что не было никаких боев в Доминиканской Республике, и никакого Эль-Негро, отправившего его в нокаут, тоже не было? А был просто рубщик сахарного тростника или мелкий провинциальный сутенер, одним словом, полное ничтожество. Обыкновенный человечек, стыдящийся правды и взявший себе имя Корасона, хотя на самом деле его звали Колен Памфиль, Колен Позорный, Колен – герой самых занудных страниц из книги пословиц, Колен Тухляк, Колен Пустышка, добро тому врать, кто за морем бывал.
* * *
В первый день я дал себе слово, что смогу мириться с голодом и буду ждать, когда о еде заговорит Мариэла. Но через некоторое время от моей решимости не осталось и следа. Если у нас с Корасоном и есть что-то общее, то как раз это: наши добрые намерения долго не живут. Наутро второго дня я так захотел есть, что чувство голода заглушило во мне совесть. Я пообещал, что подожду, пока не проголодается Мариэла, но чего стоит обещание, данное без свидетелей? Я был готов сдаться, крикнуть ей, чтобы остановилась, потому что это она во всем виновата. Утром второго дня я был готов заговорить языком своего брюха. К счастью, Мариэла не задала мне ни одного вопроса, просто сказала, что надо поесть, так что проблема с голодом должна была решиться. И все-таки я злился, что опять оказался вторым. После нашей встречи с механиком и проповедником мы довольно долго бродили по улицам. Наступал день. Чтобы добыть еды, нам всего-то и требовалось пойти в промышленный район. Там всегда стояли торговки с горячей едой для рабочих окрестных фабрик. Из уважения к ман-Ивонне из их множества мы выбрали ту, чей ларек показался нам самым чистым. Кастрюли с готовыми блюдами были накрыты плотной пластиковой пленкой, а сам ларек располагался на некотором расстоянии от улицы, в шатком сооружении наподобие сарайчика, подальше от поливалок и проезжающих мимо огромных грузовиков, поднимавших густые облака пыли. Прочие торговки устроились прямо на тротуаре. Скорее всего, ман-Ивонна решила бы, что пара-тройка метров, отделяющая прилавок от проезжей части, не может служить достаточной гарантией чистоты. Ман-Ивонна мыла руки каждый раз, когда садилась за стол. Она говорила, что в ее время министр здравоохранения не просто так занимал свою должность, а теперь, пожалуйста, у них кухня прямо на улице. Если бы только Колен… Она продолжала называть его Коленом, хотя мы имели дело только с Корасоном. А Колен… Ну, может, он и существовал, но в другую эпоху, где была мать, работавшая на госслужбе, были разговоры о воспитании и хороших манерах. Был отец, готовый бегать по городу в поисках игрушек для сына. Корасон, в отличие от него, с большим удовольствием уплетал стряпню уличных торговок, попутно потчуя других рабочих автомастерской рассказами о Джо Луисе. Ман-Ивонна советовала нам не делать, как он. Никогда ничего не покупайте на улице. Ман-Ивонна просто перепутала детей: она говорила с нами на том же языке, каким разговаривала с Корасоном, когда он был в нашем возрасте. У Корасона-то был выбор: он мог есть дома, сидя за столом, пользуясь ножом и вилкой и слушая ласковые наставления отца с матерью. Но мы – другое дело. Мы покупаем еду на улице не потому, что мы строптивые и нам так захотелось, а потому что она дешевая. Мариэла подсчитала: денег должно хватить на две порции, и еще кое-что останется. В порцию входил белый рис, вареные овощи, мясная котлета и кусочек сладкого картофеля. Большинство рабочих ели стоя, чтобы побыстрее, но некоторые вытащили из груды строительного мусора, образовавшейся на месте разрушенного дома, кирпичи и доски и устроили себе шаткие сиденья, – эти жевали не спеша. Прежде чем протянуть нам миски, торговка потребовала, чтобы мы показали ей, что нам есть чем заплатить: «А то тут одни такие умные меня уже раз накололи». Она наклонялась и под порывами ветра отмеряла порции. Ложка соуса, две ложки риса, еще ложка соуса к овощам, кусок мяса. Каждый раз она торопливо накрывала очередную кастрюлю, чтобы внутрь не нанесло песка и пыли. Покончив с едой, рабочие ставили миски и клали ложки на скамейку. Девчонка забирала посуду, полоскала в лохани с водой и отдавала торговке, которая вытирала ее своим фартуком, наполняла и протягивала следующему клиенту. Кроме того, девчонка поддерживала огонь в жаровне и отгоняла собак, крутившихся вокруг кастрюли с мясом. Подождете, ребята, ничего с вами не сделается. Сначала обслужу своих постоянных покупателей, они торопятся. Люблю солидную публику. Рабочие в ответ на ее лесть только ворчали и ругались. Нужна нам твоя любовь, ты вон каждый месяц цены задираешь, а порции у тебя все меньше. Вот выиграю в лотерею, так пойду в настоящий ресторан. Ага, ты еще расскажи, что станешь хозяином. А нас, чтобы не платить за переработку, пригласишь в «Тиффани» вместе с женами и детьми. Кстати, о женах и детях. Слыхали, что случилось в районе Национального форта? Двое детишек своего папашу ухлопали. По радио передавали. Я как раз искал спортивную станцию. А что я вам говорила: с детьми глаз да глаз. Воспитываешь их, воспитываешь, учишь-учишь, а поди разбери, что они там себе думают… Мы не испугались этого разговора и спокойно съели все, за что заплатили. Кость я бросил собакам, как оказалось, зря: они тут же затеяли свару, в которой победил самый здоровый пес, а остальные уставились на меня с упреком – зачем я дал им несбыточную надежду? Рабочие прогнали собак. Не за то они выложили свои денежки, чтобы бродячие псы портили им аппетит. Убедившаяся в нашей платежеспособности торговка предложила нам по стакану сока, но мы предпочли банку кока-колы. Еда-то ладно. Она готовится на огне, а огонь, так же как лимонный сок, обладает дезинфицирующими свойствами. В нашем квартале все мамаши только так и лечат всякие раны. Но сок… Хоть Мариэла и не была повернута на чистоте, как ман-Ивонна, но от сока наотрез отказалась. Торговка была права. Одно дело родить детей, а совсем другое – понять, о чем они думают и что чувствуют. Не будь рядом Мариэлы, я выпил бы сок не поморщившись, хотя отлично знал, что он наверняка разбавлен водой из ближайшей канавы или из ведра, в котором чего только не держат. Нет во мне бойцовского духа. Когда мне говорят «выйди», я выхожу. Мне говорят «ешь», я ем, даже не давая себе труда задуматься. В любом случае тот, кто сильнее, заставит тебя поступить по-своему, как эти тощие безмозглые собаки, которых подрал здоровый пес, отобравший у них кость. Они повели себя как последние дуры. Ясно же было с самого начала, что у них нет ни одного шанса. К тому же, как только я услышал, что про нас говорили по радио, в память мгновенно вернулись все события вчерашнего дня. И еще я начал скучать по друзьям и Жозефине. Сколько еще времени я не смогу с ними увидеться? Мне было так тоскливо, что я выпил бы что угодно и согласился бы на что угодно. От одиночества очень быстро устаешь, и далеко не все люди на свете созданы сильными и способными к сопротивлению. Мариэла, как и я, слышала про радио, но тоже никак на это не отреагировала. Она казалась почти счастливой, и это меня ужасно злило, ведь это она была во всем виновата. Сестра знать не знала, о чем я думаю, но взяла с меня обещание: «Поклянись, что, когда нас поймают, ты ничего не расскажешь. Мы не обязаны никому ничего объяснять. Нам-то никто ничего не объяснил, с чего все началось и так далее. С какой стати мы должны им докладывать, чем все кончилось? Это никого, кроме нас, не касается. Это наше горе, и пусть никто в него не лезет. Только наше, как и наши мечты. Пообещай, что не проболтаешься». Я пообещал. Мариэла мне не поверила. Что-то изменилось между нами со вчерашнего дня. Мы шли рядом, совсем близко друг к другу, но как будто больше не были вместе. Слишком многое нас разделяло – ее сила, моя слабость. Когда толпа нас захватила и привела в полицейский участок, нас допрашивала целая куча инспекторов. Всем было любопытно на нас поглазеть. Разумеется, она слово сдержала, никому ничего не рассказала, и это обернули против нее. А я заговорил, потому что весь пошел в Жозефину и не могу жить один. И они приняли мою слабость за доброту, заявили, что признание является свидетельством раскаяния, но я вообще не считаю себя виноватым. Позже, когда нас разделили по-настоящему и заперли в разные камеры с другими заключенными нашего возраста и пола, я долго размышлял над тем, что говорила Мариэла насчет начала. Начало – это наша жизнь. Наша жизнь убила Корасона. Наша собачья жизнь, слишком далекая от надежды и слишком близкая к смерти. Это не мои слова. Я не умею разговаривать по-книжному. Так говорил Роземон. Он у нас отличник и читает книжки стихов.
* * *
Как можно догадаться по его имени, Джонни Заика – не мастак вести речи. Слова с трудом пробивают себе путь через его горло. Если надо сказать что-нибудь важное, а слушателям некогда ждать, то, случается, кто-нибудь другой договаривает начатое за него. Другое дело Роземон. Этот выражается красиво, как по писаному, и коммуна даже выделила ему стипендию на обучение в школе из приличного квартала. Но только друзей заводишь не ради слов. На второй день была суббота. По субботам толстяк Майар приносит еду своему родичу Родригу, который почти три года живет в исправительной тюрьме. Родриг уже четвертый раз загремел в большой желтый дом на Похоронной улице. И несмотря на усилия адвоката – известного специалиста по темным делам, нанятого его семьей, – вряд ли стоит надеяться, что он когда-нибудь выйдет на свободу. Родриг – вор, причем воровство – его страсть. В промежутках между отсидками он тратит все свои деньги на коллекцию фильмов про гангстеров. Но интересоваться мало, надо еще иметь способности. Каждый раз, когда Родриг пытается ограбить какой-нибудь дом в приличном районе, его обязательно хватают охранники. И от местных бандитов, от настоящих, ему тоже достается. Когда его арестовали в последний раз, судья сказал, что дело настолько ясное, что незачем беспокоить суд. Вот он и живет в исправиловке, и хитроумный адвокат до сих пор не сумел добиться ни одного свидания с ним. Зато толстяк Майар на этом деле прославился. В бидонвиле не так много людей, имеющих отношение к государству, ни по-хорошему, ни по-плохому. Государство далеко, его существование нас не колышет, как и оно вспоминает о нас, только если случается несчастье. Всякий контакт с внешним миром считается у нас за большую честь, и кому удается обратить на себя внимание – крут, примерно как мы с ман-Ивонной. Семья толстяка Майара очень гордится тем, что вступила в конфликт с государством. Ради такого случая они даже выучили несколько красивых выражений, какие употребляют в судах. Даже толстяк Майар, который на одно способен – щупать девок, и тот время от времени выдает нам что-нибудь этакое: нарушение процедуры, рецидивист и так далее. Для нас эти незнакомые слова звучат как оскорбления или как истины чужого, высшего мира, что-то вроде пословиц, понятных только посвященным. На второй день была суббота. Значит, толстяк Майар понесет еженедельную передачу своему родственнику-«рецидивисту». Я не сомневался, что Джонни Заика, а может, и Марсель тоже увяжутся с ним. Мы не договаривались о встрече. У нас с Джонни так часто бывает. Мы так много времени проводим вместе, что в каком-то смысле стали частью друг друга. Каждый из нас сразу догадывается, чего хочет второй, и нам не надо тратить время на слова. Наши пути-дорожки постоянно пересекались, хотя мы ничего заранее не планировали. Как-то раз мы решили сделать воздушного змея, вернее, и мне и ему одновременно этого захотелось. Ну, мелькнуло такое желание. И вот я отправился на свалку мебельной фабрики порыться в мусоре и на тропинке, которой пользуются только дети и подростки, чтобы срезать путь, потому что вонь там стоит неимоверная, столкнулся с Джонни. Оказывается, его осенила та же самая идея, так что дальше мы пошли вместе. Мы с ним ни единым словом не перемолвились. Наша с Джонни дружба всегда была такой – молчаливой. На второй день была суббота. Я сказал Мариэле, что надо двигать в район исправиловки. Говорил я таким уверенным тоном, что она послушно пошла за мной, не задав ни одного вопроса. В кои-то веки я шагал впереди. Мы остановились в нескольких метрах от тюрьмы, перед служебным входом в государственную типографию. Рабочие выносили оттуда объемистые пачки и грузили в багажники служебных машин. Мариэла объяснила мне: это последний номер газеты «Журналь офисьель», в которой публикуют государственные законы и постановления правительства. Я все еще злился, не хотел ее слушать. Впервые в жизни я испытывал к ней ненависть. В моих глазах она могла прочитать: это ты во всем виновата. Мне было позарез необходимо искупаться в ненависти, сорваться в истерику и выплеснуть на кого-то свою боль. А кроме Мариэлы никого рядом не было. Я чувствовал приближение приступа. Со мной это случается, когда мне очень плохо. Корасон обычно брал меня на руки, нес на улицу и опускал лицом в бадью с водой, чтобы я успокоился. Истерика – это гнев слабых. Если тебе есть что сказать, не финти и говори прямо. Я хотел сказать ей прямо. Она смотрела на рабочих, которые выносили пачки на плечах и как попало сбрасывали в багажники машин, не трудясь укладывать ровно. Водители, стоя возле урчащих автомобилей, их поторапливали. Как только багажник наполнялся, машина на бешеной скорости срывалась с места и под завывание сирены уносилась прочь, заставляя расступаться родственников заключенных, толпившихся в очереди перед главным входом в здание. Матери и жены плакали, дальние родственники, старики и дети стояли опустив голову или смотрели в сторону. Им было стыдно находиться здесь, и они напускали на лица отсутствующее выражение, как бы извиняясь и говоря: «Ну что ж поделаешь, если у него, того, что парится в тюрьме, больше нет никого из близких, ну, не смогла его мать прийти, или жена, или брат, – кто-то из тех, кто и правда любит этого кретина, позволившего засадить себя за решетку». Перед тем как пропустить посетителей внутрь, тюремные надзиратели их обыскивали, проверяли карманы, лезли в сумки, рылись в корзинках с провизией, вскрывали даже сигаретные пачки и новые обувные коробки – подарки для бизнесменов и отпрысков приличных семей. В толпе был и толстяк Майар, мы слышали его голос, видели, как он открывает крышку кастрюли (тыквенная похлебка) и объясняет: «К Родригу, отделение рецидивистов». Он благополучно прошел проверку и исчез во дворе исправительной тюрьмы. Один. Ни следа Джонни. Раньше мы все время встречались, ни о чем заранее не договариваясь, но тогда я еще никого не убивал. Наверное, каждый из нас догадывался, до чего второй может дойти. Наверное, после того, как я держал Корасона за ноги, пока Мариэла снова и снова била его гаечным ключом, я перешел в какую-то другую категорию, поднялся на более высокий уровень или ступил на запретную территорию, куда слишком робкому Джонни ходу не было. Бедный Джонни, он в своей жизни не совершил ничего плохого. Между тем, чтобы запускать ящериц в дом толстяка Майара и пугать сумасшедшую старуху, которая и так боится всего на свете, начиная от воды и неба и заканчивая грязными тряпками, и тем, чтобы помогать сестре раскроить отцу череп гаечным ключом, лежит пропасть. Джонни не придет. Одиночество – невеселая штука. Я злился на Мариэлу, на Корасона, на Джонни, на Жозефину – на всех, но больше всего на Мариэлу. Я пнул ногой пачку газет. Грузчик не обратил на мою выходку ни малейшего внимания, и я пошел прочь, даже не сказав Мариэле, куда иду, и не поинтересовавшись, куда собирается идти она. Она последовала за мной, предоставив мне право самому определить дистанцию между нами. Ну да, это же была моя идея и мой друг, значит, и разочарование полагалось мне. Я остановился на площади Карла Бруара. Это маленькая, ничем не примечательная площадь, ничего общего с Марсовым Полем. На площади Карла Бруара вообще ничего нет, во всяком случае в тот день там не было ни души. Только несколько отважных птиц, облетевших расположенные в центре города магазины, вонючий тюремный двор и примостившиеся под балконами скобяных лавок и адвокатских контор, прилавки торговцев пластмассовой посудой, поношенной одеждой и американской обувью, теперь грузно плюхались на окрестные чахлые кусты. Эти старые птицы, грязные и больные, собирались на маленькой площади с растрескавшейся почвой, чтобы дождаться конца дня посреди сломанных скамеек и камней на месте травы, прохудившихся горшков с пересохшей землей, в которых по идее должны были расти цветы, за железной решеткой, такой же ржавой, как и ворота тюремного двора. Надпись под бюстом сообщала, что Карл Бруар был великим поэтом. Лично мне поэты до лампочки, а этот даже не сумел заполучить себе более или менее приличную площадь. Площадь Карла Бруара такая же замызганная, как переходы бидонвиля или тюремный двор. Там растут полудохлые лавровые кусты, заскорузлые, как старушечье тело. Площадь Карла Бруара – никакая не площадь. А жизнь – не жизнь. Все это – ничто. Или все. Пустота. Полнота. Ожидание и страх ожидания. Все противоположности одновременно. Тысячи способов увидеть смерть. Приступ кашля. За ним – еще один, накативший второй волной, и бессвязные слова, которых я уже не помню. Крики и основание бюста, о которое я бился головой, чтобы изгнать из нее шум и заполнить освободившееся пространство спокойствием и жестокостью. Мариэла сделала было шаг мне навстречу. Я сказал ей сначала глазами, потом ртом, а потом всем телом: «Это ты во всем виновата!» В висках у меня грохотали все звуки мира: хруст костей, ломающихся под ударами гаечного ключа; звучали тысячи голосов – голос Корасона, который больше не произнесет ни звука; хриплый голос проповедника; тихий голос Жозефины, достигающий самых печенок; блеяние Джонни Заики, лишающего меня своей дружбы; обещания ман-Ивонны, сменяющиеся упреками. Весь город хором цитировал мне пословицы, гремела музыка самодеятельных оркестров, в дни поста проходящих через бидонвиль, узники тюрьмы вопили: «Давай к нам, добро пожаловать», – а плакальщицы лили слезы вместе с Жозефиной. Так много голосов. И картины, картины, как фотографии. Вот Корасон падает на пол. Вот Мариэла с гаечным ключом. Вот Жозефина плачет и молится. Вот я вцепился в ноги Корасону и жду, когда он упадет. Вот Корасон падает с раскроенным черепом. Гаечный ключ возле мертвого тела. Я протягиваю руку, чтобы его поднять. Мариэла смеется. Смерть – не подружка, с которой можно играть в «бородку»[8]. Если уж она тебя ухватила, то не отпустит. Джонни, повернувшийся ко мне спиной, и Марсель, и Роземон – все до единого. И снова Корасон в падении, и Мариэла с ключом, и Жозефина снова плачет и молится. И тюремная камера, в которой я ни разу не был, но она кажется мне родной и знакомой. И толстяк Майар, который приносит мне суп и говорит: «Да ты еще хуже рецидивиста». И опять падающий Корасон, мертвый… и почему-то воскресший, еще более лживый, чем всегда. Красавец Корасон, он в отличной форме, он кружит Мариэлу волчком и помогает мне запускать воздушного змея. А потом настоящий Корасон, он толкает Жозефину в глубину комнаты, походя дает мне пинка под зад, чтобы я не подумал, что он забыл, как я его доставал, когда заболел малярией. Все эти звуки и картины теснились у меня в голове, как бывает при мигрени, когда боль поднимается от кончиков ног, на миг застревает в горле и проникает прямо в мозг. И жара, охватившая все тело, и кашель, разрывающий пополам, неостановимый, как во время приступов малярии. Я смотрел на себя как на чужого, смотрел, как бегу, и слышал, как кричу: «Это ты во всем виновата!» Мариэла побежала за мной, расстроенная и безупречная, как всегда: «Ругай меня как хочешь, потому что, кроме тебя, у меня никого нет. Плачь, кричи сколько хочешь. Можешь меня укусить, если это поможет тебе выжить, потому что у меня, кроме тебя, никого нет. Мы с тобой одни на целом свете, у нас больше ничего нет, только пара гурдов». Мариэла не обиделась, она любила меня, несмотря на мои оскорбления. Она услышала все звуки и шумы, что бурлили у меня в голове, пыталась найти слова, чтобы заставить их смолкнуть. Мариэла – моя последняя надежда, моя несчастная сестра, в отчаянии застывшая перед разделившей нас шумовой стеной, выросшей у меня в мозгу. И живая Мариэла, которой неведомо отчаяние. «Это ты во всем виновата!» – крикнул я ей прямо в лицо и принялся биться головой о пьедестал бюста поэта. Мариэла даже не подумала оправдываться. Она обняла меня, потому что больше некому было сделать это, прижала к себе, к своей девической груди, так же, когда я в первый раз танцевал с ней. К своей груди, на которую смотрел сальными глазами механик с железнодорожной улицы, заставляя меня видеть то, что видел он, и питать те же надежды, что питал он. На ее грудь, перемазанную тем же дерьмом, что и моя. На ее юную грудь, постаревшую в один миг, потому что чем громче я кричал, тем старательнее она искала слова, чтобы успокоить. Чем слабее я был, напоминая сосунка, тем сильнее ей приходилось быть, чтобы заменить мне отца, мать и стать единственным для меня источником нежности. И ее покой передался мне. Моя боль стала ее болью. Я не слышал, что она говорила, не мог вникнуть в смысл ее слов, но цеплялся за их мелодию. Понемногу песня, которую она пела, вытеснила шум и заставила поблекнуть картины, убивающие меня изнутри. Ее голос звучал сладко, как счастье, способное длиться вечно. Хотя мы оба знали, что эта песня – прощальная, наше будущее принадлежало той странной, безликой вещи под названием «закон». Закону и слухам. Мелодия Мариэлы лилась, исполненная нежности, и ее голос служил нам защитой. В нем не было ни прошлого, ни будущего. Мы на время успокоились, забыли обо всем и перестали бояться. Мы еще никого не убили, нас ничто не разлучит, и я заснул. Для меня в мире не осталось ничего, кроме этой песни, прекрасной песни, похожей на колыбельную. Я забылся и очнулся лишь тогда, когда перед нами возникли Марсель и Джонни Заика, как будто из иного мира, как будто они пришли только затем, чтобы прочитать надпись на памятнике. Первым заговорил Марсель. У них очень мало времени. Они сумели отвязаться от толстяка Майара и шли за нами по пятам от самой государственной типографии. Марсель повел себя честно. Он не скрыл, что идея принадлежала Джонни. Все время, что он говорил, мы с Джонни смотрели друг другу в глаза и без слов понимали, что, наверное, видимся в последний раз – на этой убогой площади, куда никто не сует носу. Только птицы, слишком грязные, слишком тощие. В них было так мало птичьего, что никто не захотел бы поделиться с ними своими мечтами или поймать их, чтобы съесть.








