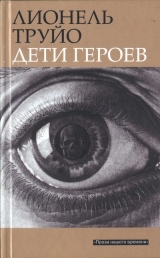
Текст книги "Дети героев"
Автор книги: Лионель Труйо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
* * *
После ухода равнодушного господина мы с Мариэлой остались совсем одни. Она еще спросила, не хочу ли я есть, и я ответил, что нет, а сам подумал, что уж сегодня-то вечером любопытные зеваки, как пить дать, опять соберутся возле нашего дома. Смерть Корасона не входила в число несчастий, к которым притерпелись. Никто ее не ожидал. В бидонвиле есть несколько авторитетных персонажей, считающих своим долгом предсказывать катастрофы. Этакие горевестники, предугадывающие смерти и наводнения. Но никто из них не предупредил о второй смерти Корасона. И люди наверняка рассердились из-за того, что упустили подобное зрелище, прибыв на место слишком поздно, когда тело уже унесли, смотреть стало не на что, делать нечего, разве что стоять допоздна тесной толпой и судачить, но это служило им слабым утешением. Лично мне хотелось бы обо всем забыть. К сожалению, случившемуся суждено было стать важным событием в жизни поселения, более важным, чем Рождество или национальный праздник. Жизнь сама по себе, плохая или хорошая, мало интересует людей, не то что смерть. Мы не могли вечно сидеть на этой лавке, поэтому Мариэла предложила спуститься к центру города. Мы уже собирались встать и уйти, но вдруг перед нами возник Ромулюс – племянник мадам Жан-Батист, немного чопорный в своей форменной одежде – он работал швейцаром в министерстве внутренних дел. Нам не часто приходилось видеть его в мундире цвета сероватого хаки с черным воротником, потому-то мы и не узнали его в толпе служащих. Ему удалось найти работу, и, уважая традицию, он покинул квартал, но по субботам, во второй половине дня, продолжал приходить, чтобы перекинуться в картишки с друзьями детства. У нас многие любят его, особенно старики. Обычно те, кому хоть чуть-чуть повезет, спешат вырваться из бидонвиля, переезжают подальше и никогда не возвращаются. Если сталкиваешься с таким на улице, он делает вид, что вы не знакомы. А вот Ромулюс приходил каждые выходные, жал руку старикам, выказывая свое почтение, и улыбался всем подряд. Ромулюс всегда был серьезным парнем. Чем чаще его называли серьезным, тем серьезнее он становился. И он единственный из молодежи квартала стремился соответствовать тому представлению, которое сложилось о нем у окружающих. Ромулюс – тот самый положительный пример, которому больше никто не последовал. Даже Жозефина, никогда не вмешивавшаяся в чужие дела – у нее не было на это сил, – и та без конца талдычила нам про Ромулюса, какой он хороший мальчик. Корасону эти разговоры не нравились. Если при нем хвалили другого человека, он воспринимал это как личное оскорбление. Все, исходящее от Жозефины, он трактовал как укол или упрек, возможно, поэтому она под конец вообще почти не открывала рта. Но Корасона это не успокоило. Даже если она молчала, он прислушивался к тишине и все равно улавливал в ней нечто обидное для себя. Ромулюс – хороший мальчик. С этим все согласны. Он очень старался, это чистая правда, учился, получил свидетельство, не гонялся за девчонками, даже работу умудрился найти, притом без всякого блата. Его приятели говорят, что он не интересуется девчонками от жадности, а мне кажется, они ему просто завидуют, не очень-то приятно, когда тебя с кем-то сравнивают, и сравнение не в твою пользу. Ромулюс их навещает, но каждый раз пытается читать им мораль: «Чтобы хоть чего-то добиться в жизни, надо уметь правильно распорядиться тем, что имеешь». С тех пор как он начал работать, превратился в мыслителя и в каждую произносимую фразу вставляет слова «порядок и дисциплина». В министерстве он ходил на какие-то занятия, что-то типа «обучающего семинара», и после этого стал говорить так, словно отвечал урок. Но это не помешало ему остаться услужливым и приветливым, всегда готовым прийти на помощь, если требовалось навести порядок. Вот и сейчас, налетев на нас со своими вопросами, он прежде всего думал о дисциплине. «Что это вы тут делаете? А ваши родители знают, куда вы забрались? А почему у тебя эта сумка?» И еще тысяча и один вопрос, которые он буквально обрушил на наши головы. Но ответа не получил ни на один. У нас не было настроения сочинять объяснение, которое показалось бы ему разумным. Люди, приверженные порядку, ужасно настырные, и какое-нибудь наскоро состряпанное вранье с ними не прокатывает. Нам пришлось бы не сходя с места выдумывать целую историю с массой подробностей, но все равно примерно через час он бы нас разоблачил. Ему рассказали бы правду, и он обиделся бы на пару беглых подростков, навешавших ему лапши на уши. Я что-то такое залепетал. Мариэла хранила молчание, только смотрела на него в упор. Честно говоря, я подозреваю, что она смотрела на его форму. Ромулюс тоже уставился на нее и со своими вопросами обращался к ней. Принцип иерархии, основанный на порядке и дисциплине, требовал, чтобы он обращался к старшей по возрасту. А потом он увидел у нее на платье пятна крови, и в его глазах мелькнул страх, в голосе появились жесткие нотки. Он уже не просто задавал вопросы, а как будто допрашивал. Кровавые пятна так и притягивали его взгляд. Люди редко вспоминают о крови – разве что кто-нибудь рядом с ними допустит бестактность и закровоточит. Люди почти не думают о крови, которая может хлынуть из человеческого тела. О крови, высыхающей под кожей. В нашем квартале по ночам стаями бродят десятки паршивых собак. Иногда некоторых из них находят бездыханными, они просто валятся замертво, без всяких видимых причин, как будто высыхают изнутри. Можно сколько угодно тыкать в них иголками, не появится ни капли крови. Вот и с Жозефиной примерно то же самое. Раньше, когда Корасон ее лупцевал, она была вся в кровище. Кровь сочилась у нее отовсюду, из каждой поры, кровь шла носом, из разбитых губ, и они не заживали у нее неделями. А потом это все прекратилось, только немножко слюны вытекало изо рта, и все. Люди считают правильным ужасаться при виде капли крови, но не потому, что им жалко раненого, а потому что боятся, как бы кровавые брызги или пятна не попали на мебель, на пол или одежду. Ромулюс любил порядок и терпеть не мог того, что не укладывалось в привычные рамки. А пятна крови на платье шестнадцатилетней девчонки, сидящей на скамейке Марсова Поля, в компании с младшим братом, в четыре часа пополудни, вдали от родного бидонвиля, – это был явный непорядок. Тогда он закричал: «У тебя что, кровь идет? Ты что, подралась? Это что у тебя на платье, кровь?» Он смотрел на нас так, как будто мы кого-то убили. Ну, вообще-то говоря, так оно и было: Мариэла стукнула Корасона гаечным ключом, а я вцепился ему в ноги, чтобы великан рухнул. Но в то же время все было совсем не так. Мы совершенно не собирались делать ничего подобного. Ни о чем не сговаривались заранее, как, например, сговаривались, когда хотели разыграть толстого Майара, или Джонни Заику, или залезть в чужой сад в богатом квартале. Или проскользнуть в «Капитоль» через заднюю дверь и бесплатно посмотреть кино. Ромулюс был уверен, что мы что-то натворили, что-то очень нехорошее. Порядок и дисциплина требовали от него, как от примерного гражданина, сообщить об этом нашим родителям. «Пошли, я отведу вас домой». Он взял меня за руку и потянул за собой на дорогу в сторону бидонвиля. Мариэла медленно поплелась за нами. Время от времени он оборачивался и проверял, не слишком ли она отстала. Сестра притворялась, что ей тяжело тащить на спине сумку. Что до меня, то я без конца спотыкался и кашлял как настоящий больной. Вокруг прохожие начали обращать на нас внимание. Ромулюса это смущало, и он пытался оправдаться. Я – служащий министерства внутренних дел. У меня есть форма и визитка. Толпа поддерживала его, требуя, чтобы мы повиновались. Какой-то мужчина, торопившийся по своим делам, крикнул, чтобы он наподдал нам хорошенько да отволок нас за волосы, сколько, блин, можно. Но Мариэла, хоть и не была совсем взрослой, выглядела как взрослая женщина, и многим показалось, что уж ей-то наподдавать никак нельзя, тем более что колотушки – не метод воспитания, это каждому известно. Я испугался. Не того, что меня побьют, – к этому я привык. Когда Корасон лупил Жозефину, мне тоже заодно перепадало. Корасон жутко злился, что его сын – не качок, как он сам, а хилый слабак, которого вечно треплет лихорадка. Но он ни разу не поднял руку на Мариэлу. К счастью, Ромулюс, при всей своей любви к дисциплине, не был сторонником насильственных мер. Он говорил с нами как учитель, спокойно, но твердо. Возможно, их этому специально обучают на всяких там семинарах, чтобы умели разогнать нищих и безработных, толпящихся возле входа в министерство. Не загораживайте проход! Прием по предварительным звонкам. Пройдемте, пройдемте. Следуйте за мной. Вы должны понимать, что я действую в ваших же интересах. Жозефина волнуется из-за каждого пустяка. Он продолжал тащить меня за собой. Мариэла брела сзади, как послушная девочка. Зато я беспрестанно лягался и в конце концов сумел попасть Ромулюсу по голени. Не больно, в общем-то, но моя строптивость его рассердила. Прощайте, господин учитель! Он превратился в капрала и теперь не увещевал, а приказывал, чертыхаясь. Достаточно поступить на государственную службу и надеть форму цвета хаки, чтобы человек почувствовал себя офицером, даже если служит простым охранником. Мариэла больше не плелась нога за ногу. Она шла быстрым шагом, почти бежала, чтобы нас догнать. Приблизившись к Ромулюсу, она потянулась и зашептала ему на ухо: у тебя форма разорвалась, посмотри, вон, под мышкой. Она сказала это очень тихо, даже ласково, таким доверительным тоном, как будто была с ним заодно, но все-таки так, чтобы зеваки услышали. Ромулюс машинально поднял руку и посмотрел под мышку. Дисциплинированный человек не ходит в рваной форме. Он увидел, что рукав рубашки действительно лопнул и наружу торчат нитки, и отпустил мою руку. Дальше он шел деревянным шагом, руки по швам, чтобы скрыть непорядок. И вдруг оказалось, что у него больше нет слов, чтобы раздавать советы и диктовать, что нам делать. По-прежнему держа руки плотно прижатыми к телу, он говорил с нами взглядом. В его глазах читалась мольба. Ну помогите мне, я же должен выполнить свой долг. Вид у него был самый разнесчастный. И тогда Мариэла, чтобы и нам дать удрать, и его утешить, сделала удивительную вещь. Она взяла его за руки, вложив в этот жест огромную нежность. Он сопротивлялся, не желая открывать на всеобщее обозрение дыру под мышкой. Но она проявила настойчивость и оторвала его руки от тела, поцеловала его в щеку и сказала: «Мы не можем вернуться. Не сейчас. За рубашку не беспокойся, тетка ее зашьет». А потом мы с ней убежали в противоположную сторону, к нижней части города. Я обернулся, Ромулюс не из тех, кто ради пустяка отказывается от достижения намеченной цели, а его главное качество – упорство. Но поцелуй – это не пустяк. Он не побежал за нами. Мариэла счастливо улыбалась. Он по-прежнему стоял на том же месте и с отсутствующим видом гладил щеку, хранящую воспоминание о прикосновении ее губ. Заметив, что я на него смотрю, он встрепенулся и пришел в себя, развернулся кругом, как новобранец на военном параде, и затерялся в толпе, шагая строевым шагом, с высоко поднятой головой и плотно прижатыми к бокам руками.
* * *
Мы двинулись к нижней части города по направлению к морю, оставив за спиной массивные административные здания. Мы шли через более или менее незнакомые кварталы – за исключением Ба-Пё-де-Шоз, в котором родился Корасон. До своего отъезда ман-Ивонна навещала нас в любое время дня и ночи. Она приходила к нам без предупреждения, когда вздумается. Заявлялась в такие часы, когда никто ее не ждал, пробиралась узкими проходами, стараясь ступать на редкие островки земли, еще не заваленные мусором. В доме она снимала уличную обувь и надевала запасную пару, которую неизменно приносила в сумке. Прощаясь, она снова обувалась в уличные туфли. Пока она шла, соседки неодобрительно косились на нее, а хулиганы провожали свистом, но открыто насмехаться над ней никто не осмеливался. Ман-Ивонна думала, что это потому, что ее здесь уважают. Ей было невдомек, что, не будь она матерью Корасона, ее путь превратился бы в полосу препятствий, усеянную косточками от фруктов и банановой кожурой. В поселении пришлым не доверяют, ей могли бы вылить на красивое платье таз-другой воды, черной от наших многочисленных нужд: стирки, мытья посуды и омовения ран. В бидонвиле ман-Ивонна была не на своем месте, ни в переходах, ни в нашем доме. Она выбивалась из общей картины еще больше, чем Фильсьен – сводный брат Марселя, до двадцати лет просидевший за партой в начальной школе. Он каждый год неизменно проваливался на выпускных экзаменах и мог бы еще долго продолжать в том же духе, несмотря на бороду и насмешки. Но однажды он увидел себя на фотографии своего класса, посмотрел и осознал, что ему не место среди детворы, которая смеялась у него за спиной и называла его папой. Фильсьену понадобилось немало времени, чтобы это понять. Но ман-Ивонна так ничего и не поняла, слишком озабоченная тем, чтобы за нами следить, жалеть нас и пытаться призвать Корасона к порядку, принятому в квартале Ба-Пё-де-Шоз. Она не замечала, какими глазами мы смотрим на нее. Для нас и нам подобных она не просто была чужой, а одним своим присутствием наносила всем оскорбление. Над нами издевались, пока она находилась в доме, ни одна соседка не заходила позаимствовать кусок мыла или сковородку. Участники лотерей не спешили к Корасону, чтобы обсудить результаты вчерашнего розыгрыша. Прочие бедняки оставляли нас один на один с пришелицей из другого мира. Жозефина лезла из кожи вон, чтобы ей потрафить, как будто мы жили в настоящем доме и имели средства принимать гостей. В обществе ман-Ивонны Жозефина изображала из себя богачку, чтобы угодить Корасону, который утверждал, что мы ни в чем не нуждаемся, дела в мастерской идут хорошо, зарплаты хватает и дети растут, как полагается. Мы с Жозефиной были вынуждены повторять его слова. Только Мариэла ничего не говорила, не считая нужным открывать рот, произносить пустые фразы и громоздить кучи бессмысленной лжи. В тяжелые времена, когда становилось совсем невмоготу, мы с Мариэлой ходили к ман-Ивонне. Наши лица, наша обувь, наша стеснительность – стеснительность маленьких побирушек – рассказывали ей правду о нашей жизни. От вранья, нагроможденного накануне, не оставалось и следа. По дороге Мариэла советовала мне не отвечать на вопросы, но за правильные ответы нам доставались конфеты. Чем хуже обстояло дело, тем больше конфет мы получали. Мы тогда были еще довольно маленькими. Сегодня мужчины оборачиваются вслед Мариэле, но в то время, когда мы ходили к ман-Ивонне, на нас никто не обращал внимания. Разве что на меня нападал кашель. Иногда я нарочно заходился кашлем, чтобы напугать прохожих. В первый раз нас провожала Жозефина, ждала на улице, спрятавшись за деревом. Корасон строго-настрого запретил членам своей семьи шляться к ман-Ивонне. По логике Жозефины дети имели право ослушаться отца, а вот жена мужа – нет. Жозефина всегда была послушной женой. Иногда у нас все было хорошо, на несколько часов, максимум – на пару дней, если он выигрывал в лотерею. Корасон учил нас боксировать, обнимал Мариэлу и кружил ее волчком. Потом что-нибудь случалось, и у него портилось настроение, или я вел себя недостаточно почтительно, или Жозефина пускала слезу. Надо сказать, что Жозефина постоянно плакала. Денег нет, а ей надо отдавать долги. Но денег не было ни у кого в квартале, ни у одной семьи. К счастью, бедняки из-за этого не дерутся между собой. А вот у нас отсутствие денег оборачивалось криками, колотушками и поучениями. Корасон по любому поводу впадал в ярость и не остывал по несколько недель. В такие периоды Жозефина выглядела старше ман-Ивонны. Старше и печальней. Вообще-то ман-Ивонна не печалится, просто у нее нервы не выдерживают. Как-то раз она пришла и предложила нам поехать вместе с ней в Соединенные Штаты. Корасон ответил, что он сам в состоянии позаботиться о своей семье и не нуждается в посторонней помощи. В тот день она на него наорала, обозвала его скотиной и мерзавцем, который дожил до сорока лет, но так и не удосужился найти нормальную работу и обзавестись приличным жильем. Слава богу еще, что твой покойный отец этого не видит. Мне всегда казалось, что ман-Ивонна наделена несокрушимой силой. Она была высокой, почти такой же высокой, как ее великанский сын. Когда мы приходили к ней, она встречала нас на пороге и ласково подталкивала в дом. Стоило ей закрыть дверь, как на меня накатывало смешанное чувство довольства и смущения. Довольства от того, что я находился в настоящем доме, с несколькими комнатами, туалетом, люстрой. А смущения от того, что в ее глазах сквозила жалость. Казалось, она смотрела на кое-как причесанную Мариэлу, на мое прыщавое лицо и видела цвета горя. Мне нравилось, что она нас балует, но от ее безысходных взглядов мне делалось не по себе. Мариэла часто выбрасывала на помойку вещи, подаренные нам на бедность. Когда ходишь в гости к богатым, они прекрасно понимают, что тебя привела к ним нужда. «Не бойтесь, я все оставлю вам, если только Колен согласится…» Но в один прекрасный день все это ей надоело, она уехала к нашей двоюродной бабке, твердя, что больше не узнаёт своей страны, настолько та изменилась, и что семья должна последовать за ней. Корасон отказался. Еще она сказала, что будет продолжать нам помогать даже из-за границы, пока мы не подрастем и не начнем сами принимать решения. Корасон в ответ заорал, что надеется прожить еще долго: «А пока я жив, я тут глава семьи!» В тот день ман-Ивонна вдруг совсем постарела, как будто с каждой минутой разговора на нее наваливался лишний год. Так что в конце концов она, несмотря на чистую обувь и грамотную речь, стала похожа на наших полудохлых старух из бидонвиля, доживающих свои дни, никому не нужных. Кто такие наши бабки? Это очень старые женщины с гнилыми зубами или вовсе без зубов, которые только и делают, что ждут, пока кто-нибудь даст им поесть, вытащит погреться на солнышке и проветриться, как проветривают слежавшееся белье, и помоет на виду у любопытных и под всеобщие насмешки. В нашем квартале ни у кого нет бабушек и дедушек, если не считать немногие полутрупы, забытые даже временем. Эти развалины превращены в грудных младенцев нищетой и разжижением мозгов. Помню сор-Люсьену, двоюродную бабку толстого Майара. Когда она открывала рот, становилась видна огромная черная дыра без единого зуба. Никто не хотел даже рядом с ней находиться, включая ее внучатых племянников. Она ничего не умела делать сама. Ее надо было кормить с ложки и колотить, чтобы та согласилась помыться. Как только старая женщина видела ведро с водой, то принималась выть и, как была голая, удирала по переходу, упиравшемуся в ворота мебельной фабрики. Приходилось гнаться за ней, силой притаскивать обратно и на расстоянии окатывать из ведра. Старуха ненавидела воду и отбивалась. Иногда ее даже привязывали. Потом она умерла. Родственники для порядка поплакали, чтобы не нарушать обычай, но на самом деле обрадовались. Всех уже достало возиться с ней и целыми днями слушать ее нытье. Она ни сама не жила, ни другим житья не давала. Бабка – это обуза, наказанье Господне, не человек, а ошметок. Ман-Ивонна – случай исключительный. В тот день, когда она приходила к нам в последний раз, Корасон сказал: «Никуда мои дети не поедут. Я – отец, и я тут решаю». С тех пор ман-Ивонна осиротела. Бывают же бабушки-сироты. Я из-за нее сильно расстроился: все-таки было здорово с ее стороны пообещать отдать нам все, чем владела. Мне было ее немножко жалко, конечно, не так, как Жозефину. Жозефину приходилось жалеть целыми днями. А ман-Ивонна, когда мы навещали ее в квартале Ба-Пё-де-Шоз, пусть и не казалась стопроцентно веселой, но и совсем несчастной вовсе не выглядела. Она угощала нас пончиками и рыбными котлетами и учила меня не сквернословить. Если я говорил какую-нибудь глупость, она смеялась. Еще бабушка показывала нам фотографии Корасона. Среди них было много таких, на которых он совсем маленький, так что даже непонятно, на кого он похож и какой у него характер. На других он сердитый. Иногда он стоит с закрытыми глазами. Мне больше всего нравилась фотография, на которой он снят в ковбойской шляпе и с двумя пистолетами. Маленький Корасон сидит на деревянном коне, и вид у него совсем не злой, скорее надутый. Ман-Ивонна рассказывала, что она любила петь ему песню про улитку. Не знаю, может, он так и остался ребенком, несмотря что взрослый – постаревший улиткин ребенок, только кулаки размером с детскую голову. Еще ман-Ивонна рассказывала, что он несколько недель плакал и просил отца достать ему такую же деревянную лошадку, как на фотографии. К сожалению, во всей стране существовала всего одна деревянная лошадка, и родители Корасона предложили фотографу выкупить эту диковину по той цене, которую тот сочтет приемлемой. Но фотограф отказался ее продать, сказав, что другим ребятишкам тоже хочется посидеть на лошадке. На этой фотке он мне больше всего нравится: на ней он похож на Мариэлу. Разглядывая снимки по порядку, можно видеть, как он рос. На последней фотографии ман-Ивонна написала своим аккуратным почерком: «Пятнадцать лет». «Столько ему было, когда он отправился ловить удачу в Доминиканскую Республику. И взял себе эту дурацкую кличку – Корасон. На самом деле его зовут Колен. Колен Памфиль, как тебя». Она давала нам конверт для Жозефины и гнала домой, пока не стемнело. Ман-Ивонна ничего не боялась, за исключением вечерней темноты. Мы слышали, как она запирает за нами дверь на ключ. Не будь Корасон таким упертым, дом перешел бы к нему, но он не захотел. Жозефина произнесла слово «наследство» и что-то такое залопотала о наших правах, а Корасон вместо ответа пустил в ход кулаки. В то время я думал, что «наследство» – это грязное ругательство, но Мариэла объяснила значение этого слова. Я не очень хорошо понял, почему Корасон так воспротивился идее переехать в дом ман-Ивонны. Разве можно любить бедность? А там был настоящий дом, не слишком новый, конечно, как и все остальные дома в квартале Ба-Пё-де-Шоз. Фотоателье, в котором Корасон фотографировался верхом на деревянной лошадке, все еще существует, там все тот же голубой задник и даже тот же владелец. Как-то раз я туда зашел, но фотографироваться не стал, потому что никакой деревянной лошадки там уже не было. В квартале Ба-Пё-де-Шоз все какое-то потрепанное, зато там намного спокойней, чем у нас. На обратном пути от ман-Ивонны, пока мы не покинули пределы Ба-Пё-де-Шоз и не вышли на площадь Героев, мы не встретили ни одного молодого человека, только старичье. Как будто там специально собрались одни пенсионеры. А у нас двадцатилетних полным-полно, так что, когда мы на каникулах устраиваем соревнования, команд почти столько же, сколько в национальной лиге. В вечер смерти Корасона квартал Ба-Пё-де-Шоз выглядел как обычно. Мне было приятно очутиться в знакомой обстановке. В своих первых показаниях я рассказал, каким путем мы шли. Офицеры этого хотели, и один инспектор сделал вывод, что дом ман-Ивонны был предметом наших вожделений, что и толкнуло нас на преступление. Но мы прошли мимо дома ман-Ивонны, даже не подняв головы. Мы о нем вообще не думали. Это неправда, что мы поддались соблазну. Мы с Мариэлой часто мечтали, но никаких планов не строили. Когда мы были маленькими, единственное, что нас по-настоящему манило, так это возможность пойти в парк аттракционов с карманами, доверху набитыми жетонами, или провести воскресенье на площади, чтобы было на что купить мороженое или взять напрокат велик. Позже у Мариэлы появились другие мечты. Ей хотелось уехать на край света, зажить настоящей жизнью. При этом рассчитывая только на собственные силы. В вечер смерти Корасона у нас просто не осталось сил, чтобы о чем-нибудь думать, например о будущем. А Мариэла, это я точно знаю, никогда не рассчитывала на чужую помощь. Она вообще к чужому не прикоснется, даже если это будет какая-нибудь ерунда. Она гордая, как Корасон. Только Корасон был гордым на словах, а когда доходило до дела… Он занимал деньги и не возвращал долги, клянчил, выпрашивал, вскрывал почту, адресованную не ему. Как я сказал инспекторам, в тот вечер единственное, о чем я мечтал, шагая через Ба-Пё-де-Шоз, – может, с моей стороны это было не слишком-то умно, но это ведь и не преступление, – так это о старой деревянной лошадке с фотографии, на которой маленький Корасон сидел в костюме ковбоя.
* * *
Мы спустились в нижнюю часть города, дошли до железнодорожных путей. Ман-Ивонна часто рассказывала нам о железной дороге, прежде связывавшей между собой несколько городов. О театре «Паризиана», где гастролировали великие артисты. О море, которое потеснили, чтобы понастроить государственных магазинов. Пальмы… Рельсы… Складывалось впечатление, что большинство вещей, о которых рассказывала ман-Ивонна, было известно ей одной, так что у меня порой закрадывалась мысль, а может, она выдумывает красивое прошлое, чтобы подчеркнуть убогость настоящего? В том прошлом ходили поезда, работали цирки, цвели цветы и существовало множество других невероятных вещей, не имеющих ничего общего с той пылищей, в которой мы росли. Если верить ман-Ивонне, внутри одного города их было как бы два, два мертвых города, тесно прижатых спинами друг к другу. Наш город уходит под землю, он черного цвета, и в нем нет ни начала, ни конца. Город ман-Ивонны невидим и расположен на доброй стороне памяти. От него остались рельсы и бугенвиллеи. Вдоль улицы с рельсами тянулись ряды старых автомобилей, непонятно, то ли припаркованных, то ли брошенных. Все это напоминало кладбище для железяк. Здесь были только очень древние модели с кузовами в облупившейся краске. Мертвые машины или машины на грани умирания. Вообще-то я кое-что смыслю в автомобилях. У нас с Мариэлой и Джонни Заикой есть такая игра – угадать по шуму двигателя марку машины. У каждого мотора свой голос, свое дыхание, своя манера выражаться. Марсель забирался на крышу мебельной фабрики, возле входа в бидонвиль. Мебельная фабрика – это наше единственное окно во внешний мир, единственное во всем квартале здание, выходящее на настоящую улицу. Оттуда он мог видеть проезжающие машины. Мы ни на что не спорили, просто забавлялись, убивая время. Да у нас и денег-то не было, чтобы делать ставки. Мы с Джонни должны были на слух определить марку автомобиля, но ни разу не выиграли. Игру придумал Марсель, и он отстаивал свое право забираться на крышу. Каждый раз, когда мы думали, что угадали, он кричал со своей верхотуры, что мы снова ошиблись. Мы подозревали, что он врет, и однажды решили поймать его на этом: взяли и полезли за ним на крышу. Я тогда в первый раз забрался так высоко. Вещи выглядят по-разному, если смотришь на них с неба или с земли. Впереди проезжающие машины казались маленькими. Сзади серые крыши скученных домов напоминали горсть арахиса. Марсель услышал, что мы поднимаемся, и обернулся. И улыбнулся нам глупой улыбкой, типа извинялся. Улыбнулся, а потом сделал неожиданное: взял и шагнул в пустоту, как будто собрался взлететь. И он падал, продолжая смотреть на нас. Но он не умер, отделался сломанной рукой. После этого мы больше никогда не играли в эту игру. Иногда, когда мы гоняем в футбол или когда он просто стоит передо мной, живехонький, смеется или рассказывает что-нибудь, я так и вижу, как он падает с крыши мебельной фабрики. И с Джонни происходит то же самое, несмотря на все, что нам говорит его мать. Она все старается нам внушить, что Марсель свалился, потому что его мучила совесть. «Ничто не случается без причины; вспомните пословицу: не рой другому яму, сам в нее упадешь». Но мы все равно чувствуем себя немного виноватыми в том, что он упал. С тех пор мы не мешаем ему жульничать в любых играх, даже самых ерундовых. Мебельная фабрика – очень большая. Все мы очень ею гордимся. Это единственное сооружение, которое могло бы стоять в других, приличных кварталах, – с двойными дверями, кабинетами на втором этаже и цехами на первом. Марсель сверзился с жуткой высоты и должен был сломать себе шею. После этого случая его иногда называют «птенчиком» или говорят, что он «спасся чудом», и никто не хочет с ним спорить, чтобы не спугнуть его удачу. В вечер смерти Корасона, когда мы шли по рельсам, я и не вспоминал о своих друзьях. Это уже на следующий день они не шли у меня из головы. А в тот вечер я слишком устал, чтобы думать хоть о чем-нибудь. Мариэла выбрала наугад одну машину, и мы забрались на заднее сиденье. Сиденье было разболтано и скрипело, как пружинный матрас. Мы оба очень хотели спать. Мариэла отказывалась это признавать и старалась держать глаза открытыми, чтобы никто и ничто не застало нас врасплох. Я изо всех сил пыжился, лишь бы от нее не отставать. Она скинула сандалии и вцепилась ногтями в сумку – сбрасывала напряжение. Какое-то время мы сидели молча и глядели по сторонам. Но вокруг не было видно ничего, только мрак. И редкие звезды. И бродячие псы. И темные остовы машин. Потом я предложил сыграть в вопросы и ответы. Игру придумала Мариэла, чтобы помочь мне повторить перед экзаменами школьный материал. Я задавал ей вопрос, она читала мне правильный ответ, а потом задавала тот же вопрос мне. Так что мне оставалось только повторить ее слова, я и повторял – когда три раза, когда десять. Благодаря этому я запоминал фамилии изобретателей и кое-какие даты, мог рассказать не только о великих войнах и знаменитых сражениях, которые каждый должен знать наизусть, но и о менее изученных мелких стычках, про тех, кто погиб, о них, в лучшем случае, говорится в одном абзаце в конце параграфа. Так же мы учили и более трудные уроки про растения и змей. Жозефине было приятно думать, что меня переведут в следующий класс. Правда, с тех пор, как я перестал ходить в школу, мы больше ни разу не играли в эту игру. Но в тот вечер мы играли по-серьезному, потому что не было книг с ответами на наши вопросы. Чтобы понять, в чем смысл жизни или смерти, готовых истин из учебников было недостаточно. И оценок нам никто не ставил. Никто не говорил: отлично, никто не обещал перевести нас в следующий класс. И Жозефине нечем было гордиться, твердя благодарственные молитвы и повторяя: ты должен за все говорить спасибо Боженьке, и за здоровье, и за ум. В тот вечер нам пришлось все придумывать самим. Понять, кто мы такие. Пережить смерть Корасона. Бежать от нее или смириться с ней. Порвать все нити или, наоборот, заново связать их между собой. Изобрести новый язык, способный выразить все на свете. Соединить прошлое, настоящее и будущее. Позволить нам стать теми же, кем мы были до того, или осознать, что мы изменились, и отныне нам предстоит обмениваться только разрозненными словами и произносить пустые фразы, годные лишь на то, чтобы убивать время. У нас было немного денег и несколько бесполезных вещей. Редкие звезды в небе и непокорные слова, которые больше ничем не могли нам помочь. Ни нам, ни ман-Ивонне, оставшейся без наследников. Ни Жозефине, которая так и не научилась жить с мыслью о том, что в ее постели не будет мужчины. Ни для Корасона, которого мы убили, сами того не желая и в то же время желая именно этого. Эти слова не были ни правдивыми, ни обманными. Правильно ли мы поступили, сделав то, что сделали? Не знаю. А ты как думаешь? Я тоже не знаю. Я имею в виду, правильно мы сделали, что убежали? Разве они не подумают, что мы давно к этому готовились, ну например, как к экзамену или празднику? Не знаю. В любом случае, мы не можем повлиять на то, что люди думают. Они ничего не знают, но думают, что знают. Помнишь Филидора? Его обвинили в том, что он обрезал электрические провода, чтобы загнать их старьевщику, и все были уверены в его вине. Конечно, помню. Они собрали целую команду, дали им палки и факелы и поймали настоящих воров. Но люди уже назначили Филидора на роль главного вора и не желали пересматривать свое решение. Да, я помню. А он уехал куда-то в другое место, где никто не будет думать о нем плохо. Но неужели все на свете обязаны думать одинаково? Нет, наверное. Каждый свободен в своем выборе. Просто чаще всего люди договариваются между собой, чтобы избежать ссор. Наверное, им так спокойнее – знать, что все думают одинаково. Но если ты только и делаешь, что повторяешь чужие слова, то рискуешь нарваться на неприятности, разве нет? А они нас посадят? Я имею в виду, в тюрьму или там в исправительный дом? Не знаю. Наверное, посадят. А мы будем вместе сидеть? Не знаю. Но мы всегда будем вместе. А Жозефина, она что подумает? Может, она не станет повторять за другими, все-таки теперь она осталась одна? Да ничего она не подумает. Жозефина предоставит Богу думать за нее, а себе оставит право страдать. Иногда мне приходит на ум, может, это для нее и есть счастье – вечно страдать? Слушай, насчет Жозефины… Почему ты на нее так злишься? Не знаю. Может, потому, что ее не существует. А как ты думаешь, если нас посадят, она нас забудет? Найдет себе другого, который будет ее колотить так же, как Корасон? Да нет, вряд ли. Корасона она любила, как некоторые любят крест и занимаются самобичеванием, чтобы быть как Христос. Жозефина обречена всю свою жизнь умирать. А насчет Корасона?.. Как ты думаешь, он нас простит? Ты что, Корасон умер. По-настоящему умер, не как зомби. Или как Жозефина. Он умер на самом деле, а у мертвых нет власти прощать или просить о прощении. Как ты думаешь, он нас любил? Не знаю. Вообще-то да, думаю, он нас любил. Вернее, тебя, потому что ты сильная. А меня он любил, как ты думаешь? Не знаю. Но думаю, что да, даже если сам он об этом не догадывался. А как узнать, любишь ты кого-то или нет? Ты это просто чувствуешь. Мне его уже не хватает. Их обоих не хватает. Если б можно было все вернуть назад… Ничего нельзя вернуть назад. Почему он ее бил? Не знаю. Он про это говорил, только когда напивался. «Это не я, это мои руки». В голове рождается злоба, а выход она находит в кулаках. Сейчас, когда он умер, можно сказать, что это был не он, а какая-то сила – или слабость, – не способная соображать. А у нас в руках эта злоба есть, как ты думаешь? Не знаю. У тебя точно нет. Я хочу сказать, такая сила, которая толкает тебя на что-то такое, ты ничего не можешь с этим поделать? Не знаю. Но если это все произошло не само по себе, в смысле, если мы хотели его смерти, может, мы – убийцы? Мы так мало живем, я имею в виду, весь наш квартал… Может, нам всем лучше умереть, освободить место для кактусов? Мы убийцы? Не знаю я, кто мы. Нет, правда, мы убийцы? Да не знаю я…








