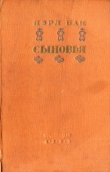Текст книги "Сыновья"
Автор книги: Лион Фейхтвангер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 32 страниц)
Нет, вот что-то стоит в святая святых. В нем стоит нога, конечно, нога женщины, шествующая, великолепная, подлая нога, которая расстроила ему ум. Это невероятное преступление, что нога стоит в целле [139]139
Целла– ниша в римском храме, где стояло изображение божества.
[Закрыть]Капитолийского Юпитера. Ее нужно убрать, он должен растоптать ее, раздробить на куски, сровнять с землею. Это нужно убрать, «вон то» – ногу. Хеп, хеп, это нужно выбросить.
Вдруг за его спиной появляется отец; конфиденциально, скрипучим голосом дает он ему совет. Это очень просто. Нужно только разрубить ногу, тогда голова Нерона упадет сама собой. Старик, конечно, прав, как всегда. Каждый согласится с тем, что легче перерезать жилы человеческой ноги, чем металлическую голову. Он кивает отцу, заносит меч.
Он вскакивает. В него врезается что-то острое, болезненное и вместе с тем благотворное. Его тело растирают снегом, жгучий мороз успокаивает жар, обуздывает бред.
Он узнает место, где находится, – имение возле Коссы. Он улыбается. Сюда он стремился. Все произошло именно так, как он хотел. Он выдержал, он открыл игры, его римляне были довольны. «О ты, любовь и радость рода человеческого!» – кричали они ему, и их нежные интонации еще звучат в его ушах. «О ты, всеблагой, величайший китенок!» А теперь он в своем имении, и он выдержал испытание. Он даст себе две недели отдыха, три недели, во время которых ничего не будет делать и ни о чем не будет думать. А затем, когда, отдохнувши, возвратится в Рим, он снова пересмотрит проект о налогах, который ему предложил Клавдий Регин, и займется подготовкой войны против парфян.
Вот и Малыш. Малыш смирился, Титу удалось сделать его тихим и покорным. Правда, это стоило денег. Если сравнить имение под Коссой со строительством Домициана в Альбане, то недешево обошелся ему братец. И нельзя сказать, чтоб он стал совсем ручным. Эта история с Юлией, – он, конечно, хотел только ему напакостить. Но пакость вышла убогая, удивительно, что Малыш не придумал ничего лучшего; во всяком случае, этой проделкой он здорово промахнулся. Тит не особенно обижен. Если Малышу нравится его Юлия, пусть они развлекаются на здоровье. Правда, белая, мясистая Юлия несколько привередлива, и очень сомнительно, чтобы ей нравился Домициан. Как бы то ни было, проделка, которой Малыш хотел «показать ему», вышла грубой и бездарной. И что это за «месть»? Луция, Луцию Тит отбил у него, выхватил из-под носа, и хотя Юлия его собственная плоть и кровь, никто не может всерьез сравнивать ее с Луцией. Кроме того, Юлия, видимо, не хотела, а Луция хотела, и Тит смеется, он смеется высоким и тонким голосом – хи-хи, – смеется над убогой, бессильной местью брата.
Мысль о том, что он, может быть, лежит здесь потому, что этого захотел Домициан, не приходит ему в голову.
Наоборот, он устремляет свой взгляд, – головы он повернуть не может, только глаза, – на Луцию. Вот она, Луция, думает он. Если бы он встретился с нею раньше, его жизнь сложилась бы иначе. Но хорошо и так. Римляне любят его, династия сидит крепко, никакой Нерон ему теперь не страшен. Вот он лежит и потеет. Это здоровый пот, его болезнь – кризис, и вместе с потом Восток окончательно выйдет из его крови. В будущем уже никакая еврейка не введет его в соблазн.
Но почему, собственно, они все здесь: Малыш, Юлия и Луция? Ага, из-за его болезни. Он был, должно быть, очень болен. Но теперь все прошло. Какое разочарование для Малыша. И Тит улыбается ему весело, насмешливо, всем лицом своим чуть ли не прося прощения за то, что он не стал богом.
Одного здесь нет. Одному должен он сказать, что теперь выздоровел и вместе с потом изгнал Восток из своей крови. Именно этот один должен узнать, это важно, и как можно скорее, еще до своего возвращения в Рим он скажет ему об этом. Он посылает курьера в Рим, в дом в шестом квартале, чтобы доставили Иосифа Флавия.
Но вскоре после этого, еще задолго до приезда Иосифа, императора схватил новый приступ лихорадки, хуже прежнего. Домициан обратился к доктору Валенту. Тот посмотрел на него холодным, испытующим взглядом и сказал:
– Я сделаю его величеству снежную ванну. Если обойдется благополучно, больной еще раз придет в сознание. Но мало надежды, что он переживет сегодняшний день.
– Вы думаете, – спросил деловито Домициан, – что император Тит Флавий четырнадцатого сентября станет богом?
– Думаю, что да, – отозвался врач и под вопросительным взглядом принца продолжал: – Я в этом уверен, – и прибавил, – ваше величество.
Когда лихорадка становилась угрожающей, врачи обычно сажали пациента в снеговую ванну. Правильно назначить время пребывания больного в такой ванне было очень трудно, и это служило пробным камнем для искусства врача. Нередко снеговые ванны спасали пациента от верной смерти; но бывало много случаев, когда пациенты в снеговой ванне умирали.
В выложенном камнем погребе дома возле Коссы снег держался долго и не таял. Под наблюдением врача Валента тяжелое пылавшее тело императора глубоко зарыли в снег. Дамы, Луция и Юлия, – Домициан уехал, – стояли, поеживаясь, в погребе, узкое окно и снег распространяли бледный свет, дамы смотрели с отвращением и напряженным вниманием, как императора зарывают.
Тит пришел в себя. Он очень волновался, что Иосифа все еще нет. Кожа посинела; он стискивал зубы, чтобы они не стучали. Ему влили в рот приготовленный Валентом напиток, который должен был подстегнуть его угасающие силы. Он молчал, молчали и обе женщины, было мрачно и холодно. Сначала ушла Юлия, затем ушла и Луция. Когда явился Иосиф, он никого не застал возле императора, только Валента.
Тит отослал врача. Иосиф стоял один перед умирающим, лежавшим в снегу, с окоченевшими членами. Иосиф еще раз низко склонился перед ним и повторил приветствие:
– Я здесь.
Но что-то в нем произнесло: «Нет мудрости, кроме мудрости Когелета: у человека нет преимущества перед скотом. Как те умирают, так умирают и эти, и все суета сует».
Тит казался бесконечно слабым, он дрожал от холода и боли, но, может быть, под влиянием напитка находился в полном сознании. Унаследованная и воспитанная в нем римская выдержка была достаточно сильна, чтобы победить страх твари в минуту умирания. Правда, он не стремился умереть стоя, как отец. Но и он хотел, чтобы в последние минуты не было ничего низменного, и он хотел, чтобы как раз этот человек с Востока был при его смерти и свидетельствовал: римский император Тит умер достойно. С трудом разжал он синеватые губы, но его голос был довольно внятен, в нем даже зазвучали остатки той звонкой повелительности, которую Иосиф часто слышал под стенами Иерусалима; и он заговорил:
– Я вызвал тебя сюда, Иосиф Флавий, чтобы ты это записал. Я тебе поставил бюст, – запомни для потомства то, что я тебе скажу. Я старался быть радостью и любовью рода человеческого, я был всеблагим, величайшим китенком, и в тот день, когда мне не удавалось сделать никакого добра, я говорил: этот день потерян. Но не это должен ты записать. Я умертвил многих людей, и это было правильно, я не раскаиваюсь. Но одно только было нехорошо. Запиши это, мой еврей, ты, великий летописец: император Тит не раскаивался ни в каких деяниях своей жизни, кроме одного. Ты слышишь меня? Запиши это, мой еврей, мой историк.
Так как Тит умолк, то Иосиф спросил:
– В каком деянии, мой император?
Но Тит вместо ответа с обращенным внутрь угасающим взглядом спросил:
– Почему Иерусалим был разрушен?
Тогда Иосиф ощутил ледяной ужас в сердце своем, и он стоял неподвижно и не знал, что ему говорить. Император же продолжал и просил его:
– Ты не хочешь ответить мне, мой еврей? Так долго ждал я ответа, и никто не мог дать мне его – только ты, и если ты не ответишь мне сейчас, то будет слишком поздно.
Тогда Иосиф, собрав все свои силы, овладел собой и ответил, и это была правда:
– Я не знаю.
Но Тит, зарытый в снег, жалобно продолжал:
– Я вижу, ты не хочешь мне сказать. У вас, евреев, хорошая память. Вы, как ваш бог, мстительны, вы не прощаете причиненное вам зло и не забываете ничего до самого конца. – И, как дитя, он продолжал жаловаться и ныть: – Я никогда не был тебе врагом, мой еврей, и не мстил тебе за то, что эта женщина мне причинила. Я оставался твоим другом, даже когда она ушла. Но ты не хочешь ответить мне.
Иосиф был глубоко потрясен бредом умирающего. На пороге самой смерти пытался тот солгать ему и себе, внушить, что женщина, которую он прогнал, покинула его по доброй воле, и он говорил это, чтобы получить ответ на вопрос, почему разрушен город Иерусалим, который он сам разрушил. Ужас перед бренностью человеческого разума охватил Иосифа с такой силой, что он забыл о холоде и темноте жалкого погреба и о страшном одиночестве этого умирающего. Значит, евреи с правого берега Тибра были правы: Ягве послал императору мушку в мозг, она жужжала там, никакой шум арсенала не мог успокоить ее. Тит был только орудием, не больше, чем красная волосатая рука капитана Педана. Теперь он ссылался на то, что был лишь орудием, но тогда, когда он действовал, он не хотел в этом признаться. Он слишком много взял на себя. Он знал, что дело шло о соединении Востока и Запада, но он повернул обратно на полпути, и вместо того, чтобы привлечь к себе Восток, он его разрушил и стал опять тем римлянином, каким был с самого начала, только римлянином, ничем иным, убогим завоевателем, жалким человеком действия, глупцом, знавшим о тщете действия и неспособным от него отступиться. Теперь он получил возмездие. Вот он лежит, и у него лицо его отца, лицо старого крестьянина, – но старик мирился с этим и был этим горд, этот же стыдится. Владыка мира, император, римлянин, неудавшийся гражданин вселенной, и он же – кучка дерьма, человек, который умирает так же, как скот.
И когда человек в снегу еще раз пошевелил синеватыми губами, – Иосиф уже ничего не мог разобрать, но он знал, что Тит повторил свой вопрос и настаивает на его ответе, – его сразило глубочайшее убожество этого вопроса и удручающее сознание ничтожности его самого и всякой твари. Он был почти не в силах выносить вид умирающего, приходилось делать усилие, чтобы не броситься вон, чтобы не бежать от вопрошавшего, и он вздохнул с облегчением, когда вошел врач Валент.
– Сегодня, – сказал Валент, – я, нарушая все приличия, решаюсь помешать вам уже через четверть часа. – Он приблизился к человеку в снегу. – Император Тит Флавий скончался, – констатировал он деловито.
Тем временем Домициан спешно возвращался в Рим верхом, без свиты. Наступала ночь. Скудно светил месяц, и было очень темно. Домициан не щадил своего коня. Теперь, когда минута настала, он не хотел верить, что власть, которой он так долго и страстно жаждал, действительно попадет в его руки, и он рисовал себе все, что могло еще встать между ним и исполнением его желания. А вдруг этот Валент предаст его и расскажет Титу о разговорах с Маруллом? Тит слабый человек и одержим нелепым желанием во что бы то ни стало сохранить престол за династией. Но если даже он забыл Юлию и все предшествующее, он не настолько одержим, чтобы стерпеть подобное предательство и не послать к нему и к Маруллу палача.
Вздор. И без всякого врача видно, что Тит умирает, будь снеговая ванна или не будь ее. Даже если Валент ошибся и Тит проживет еще один день, если он даже проживет целую неделю, против Домициана он бессилен. Домициан сейчас же, как только возвратится в Рим, просто станет во главе гвардии, – все подготовлено. А с помощью гвардии, что бы ни случилось, он продержится, пока Тит не умрет.
Но он уже умер, он уже стал богом, его нет среди живых, Домициан чувствует это в глубине души. Он умер, тот, другой, его брат. Никогда больше не услышит он неприятного звона его повелительного голоса, не услышит его спокойных, насмешливых увещаний. Конец. Это хорошо и для Луции. Она, наверное, обрадуется. Домициан скачет во весь опор в темноте, краснеет. Она должнаобрадоваться.
Как странно, что женщина, подобная Луции, не презирает Тита, глупца и труса. О чем он на прощание еще разговаривал с этим евреем? Ему нужна популярность и после смерти, ему нужен историк, он умирает для историка, так же как для него жил. Ему нужны искусственные подпорки, вот в чем дело, ему недостаточно самого себя. А все же было бы интересно знать, о чем он говорил с евреем. Не об Юлии? Жаль, что он сам, Домициан, не заговорил сегодня об этом. А теперь – конец, и он больше никогда не узнает, почувствовал ли его брат, что они – квиты? Откроет ли еврей то, что ему доверил Тит?
Ему самому, когда он будет умирать, не понадобится ни еврей, ни историк. Он в себе уверен. Единственное, чего ему недоставало, это обеспеченной, законной власти. Теперь, когда она у него есть, ему не нужны никакие историки. Не велеть ли ему умертвить Иосифа? Этот человек знает многое, чего лучше не знать. Но Луция будет недовольна, если этого человека не окажется в живых. У кого есть власть, тому достаточно знать, что он может уступать своим желаниям; уступать в действительности вовсе не нужно. Пусть этот Иосиф живет.
Домициан въехал в Рим. Он направился, – хотя была глубокая ночь, – в палатинские казармы лейб-гвардии. Потребовал к себе командира. Сообщил испуганному офицеру, что император скончался. Приказал объявить тревогу. Еще не очнувшись от первого сна, люди собирались во дворах. Им сообщили о том, что Тит умер; первое распоряжение нового императора – выдать всем награду, по восемьсот сестерциев каждому. Тот же приказ был прочитан в других казармах города. Офицеры и солдаты приносили присягу императору Флавию Домициану. Гремя оружием, довольные, приветствовали они нового владыку и охотно остались всю ночь на карауле.
По всем улицам города мчались курьеры. Улицы ожили; факелы, патрули; дома светились. Многие сенаторы, не дожидаясь вызова консулов, поспешно и взволнованно направились в зал Юлия. Они нашли здание занятым войсками; войсками были также заняты все стратегические пункты города. Каждому сенатору сообщалось, что император Домициан ждет его немедленно в библиотеке Палатина. Господа сенаторы были неприятно поражены, увидев, что каждого из них сопровождает отряд солдат, – отнюдь не в виде оскорбления, скорее как почетная стража. С неприятным чувством они отмечали, что войска находятся во всех важных общественных зданиях и что Палатин охраняется, как крепость.
По едва освещенным коридорам, по которым озабоченно сновали офицеры, растерянные слуги провели этих господ в библиотеку. Подавленные, стояли небольшими кучками «избранные отцы», поднятые со своих постелей, многие – едва успев одеться. Они сомневались в подлинности этого известия о смерти, но ни один не доверял другому, они осмеливались только шептаться о том, что всех волновало, вслух же велись немногословные разговоры о пустяках, о том, что, в сущности, пора бы начать топить, и тому подобное. Наконец, встреченный дежурными офицерами, оказавшими ему почести как императору, появился Домициан. Угловато отставив локти, тщательно одетый, но без внешних знаков власти, кроме знаков сенаторского достоинства, но также и без знаков траура, расхаживал он между отдельными группами, изысканно вежливый, даже притворно робкий и смиренный. Было неясно, чего он, собственно, хочет. Не могло быть сомнения в том, что ему присягнут, незачем было для этого вызывать войска. Но господ сенаторов мучили сомнения, утвердит ли он привилегии каждого в отдельности; прежде всего боялись друзья Тита, что он понизит их в должности и сократит их доходы. И вообще – как будет держать себя этот новый владыка, как отнесется к памяти брата? Чего он хочет? Радоваться ли им тому, что они удостоены столь благословенного императора, или тому, что утратили столь благословенного императора? Все, конечно, знали, как Малыш ненавидел и презирал своего брата. Но не пожелает ли он, чтобы повысить уважение к династии, причислить брата, как и отца, к сонму богов? Эта неизвестность настолько удручала сенаторов, что они не решались теперь называть Домициана Малышом даже мысленно или признать, что у него начинает расти брюшко и что его угловатая манера держаться только подчеркивает его брюшко.
Домициан, спокойный под защитой своей гвардии, скоро почувствовал, сколь многое он может себе позволить в отношении сената. И он начал забавляться неуверенностью господ сенаторов. Он вспомнил ту ночь 20 декабря, когда Веспасиан и Тит стояли в Иудее, а в Риме сторонники Вителлия и Веспасиана боролись друг с другом за власть. Тогда он, его дядя Сабин и сенаторы, приверженцы Веспасиана, были осаждены на Капитолии, Капитолий взят приступом. Сабин и большинство убиты, а сам он, переодетый жрецом Изиды, спасся только с большим трудом. И вот он вспоминал о страхе, пережитом в ту ночь, и ему доставляло удовольствие наслаждаться теперь страхом Титовых друзей, усиливать его мрачными шутками.
– Не кажется ли вам, Элиан, – спрашивал он одного, – что моего умершего брата следует причислить к сонму богов, так же как и моего отца? – Но когда Элиан торопливо и стремительно сказал «да», он посмотрел на него озабоченно и возразил почти покорно: – Не думаете ли вы, что заслуги государя следует взвешивать весьма тщательно, прежде чем оказывать ему такую честь? Как вы думаете, мой Рутилий? – обратился он к другому. А когда растерянный сенатор Рутилий не знал, что ответить, Домициан удивился вежливо, но с явным неодобрением: – Как странно, что даже вы, мой Рутилий, такой близкий друг покойного, не подумали сами о том, чтобы оказать ему эту честь.
Несчастный Рутилий что-то забормотал, а Домициан уже заговаривал с третьим.
Все вздохнули облегченно, когда новый владыка ушел. Они должны были ждать восхода солнца, – только тогда начнется заседание. И какое нужно вынести решение? Малышу доставляло удовольствие держать их в неизвестности. До утра еще далеко, они озябли и переутомлены, многим негде было присесть. Некоторые садились на пол или даже ложились, чтобы немного вздремнуть.
Наконец появился Анний Басс и сообщил: император ожидает, что сенат окажет его брату те же почести, какие были оказаны его отцу. Теперь, по крайней мере, было известно, какой линии держаться, и можно подремать до начала заседания. Но эта ночь надолго останется у всех в памяти.
Тем временем Домициан заперся в своем рабочем кабинете с карликом Силеном. Карлик, одетый в негнущийся, тяжелый красный шелк, прикорнул в углу. «Пусть думают, что я насаживаю мух на булавки», – подумал Домициан с мрачным удовлетворением, щелкнул языком, стал ходить по комнате. Карлик передразнил его, щелкнул языком, заходил по комнате.
Домициан отдал приказ, чтобы в эту ночь к нему не допускали никого, кроме Луции и Иосифа Флавия. Он не хотел услышать о смерти Тита и о том, что сам стал императором, ни от кого, кроме этих двух людей. Возле дома Иосифа он поставил курьера, который должен был тотчас же по возвращении Иосифа привести его на Палатин, и Домициан держал пари с самим собой, кто первый принесет ему желанную весть, – Луция или Иосиф. Если Луция – это будет хороший знак, если Иосиф – плохой.
За час до рассвета пришла Луция.
– Он умер, – сказала она. – Нелегкая у него была смерть.
– Я император, – сказал Домициан. – Я император, Луция. – Он засмеялся, его голос сорвался, при ней он давал себе волю.
– Мы император, – закукарекал карлик.
Домициан наслаждался своим торжеством.
– Это то, к чему я стремился еще с того времени, когда удерживал Капитолий против Вителлия. Путь был очень крут, я прошел его без извилин, прямо вверх, как стрела. Я прошел его ради тебя, Луция. Я сделал тебя императрицей, как обещал.
Луция села; последние часы Тита, ночное путешествие в Рим утомили ее, она чувствовала большую усталость. Она смотрела на бегающего по комнате Домициана, зевала:
– Тебе нужно больше заниматься спортом, Малыш, – сказала она. – Клянусь Геркулесом, у тебя растет брюшко.
– Ты не понимаешь, что значит быть императором, Луция, – сказал Домициан. – Ты бы видела, как они ползали передо мной.
– Для меня не новость, что в Риме осталось мало настоящих мужчин, – сказала Луция; в ее словах прозвучала покоробившая его компетентность.
– В сенате их не много, – согласился Домициан с удовлетворением и с досадой.
– А я теперь пойду спать, – сказала Луция, – очень устала.
– Побудь еще немного, – попросил Домициан. – До восхода солнца они не могут причислить Тита к сонму богов, а меня возвести на императорский престол. Я хочу позвать сюда еще кой-кого – пусть попляшут.
– Это меня не интересует, – сказала Луция.
– Но это же очень забавно, – заметил Домициан, – останься, моя Луция, – просил, настаивал он.
Он вызвал к себе из библиотеки некоторых сенаторов. Не сгибая ног, угловато откинув локти, выставив брюшко, разыгрывал он любезного хозяина, переходя от одного озабоченного судьбой своих привилегий сенатора к другому. Заводил беседу на литературные темы.
– Читали вы мой этюд о лысине, Элиан? – спросил он.
Сенатор посмотрел на покрытую редкими волосами голову нового владыки; он смутно вспомнил об этом этюде, он назывался «Похвала плеши», был написан в модном юмористическом стиле, и трудно было понять, что в нем серьезно, что шутка.
– Да, ваше величество, – ответил он неуверенно, он уже предчувствовал, что Домициан опять посадит его в лужу.
– Ваше мнение? – спросил с коварной любезностью император.
– Я нахожу ваш этюд великолепным, – решился наконец восторженно ответить Элиан. – Одновременно веселый и глубокомысленный. Я и плакал и смеялся над ним до слез.
– А по-моему, он никуда не годится, – сухо констатировал Домициан. – Мне стыдно в век Силия Италика, в век Стация [140]140
Силий Италик, Гай(ок.25 – ок.100 гг. н.э.) – автор эпической поэмы «Пуника», сохранившейся, но не имеющей никакого литературного значения. Уже современники относились к этому поэту достаточно критически. Стаций, Публий Папиний – талантливый поэт второй половины I в. н.э., льстец и любимец Домициана. Сохранились две его эпические поэмы – «Фиваида» и неоконченная (точнее – только начатая) «Ахиллеида», ныне интереса не представляющие, а также «Сильвы» – интересный сборник стихотворений, большею частью написанных на случай, или даже импровизаций.
[Закрыть]писать подобный вздор. Как вы относитесь к Силию Италику, Вар? – обратился он с вопросом к ближайшему сенатору.
– Это величайший римский писатель, – ответил с подъемом сенатор Вар.
– Но скучен, – заметил Домициан и посмотрел на сенатора задумчиво, чистосердечно, с сожалением, – очень скучен. Так и несет скукой. Мое произведение «Похвала плеши», по крайней мере, занимательно. А вы что предпочитаете, Рутилий? – приставал он снова к любимцу Тита. Рутилий попытался спрятать свои беспомощные птичьи глаза от пристальных глаз Домициана.
– Ну, ну, ну, – настаивал карлик.
– Я предпочитаю Силия Италика, – решился наконец заявить с кривой лукавой улыбкой Рутилий.
– Вот каковы наши сенаторы, – сказал Домициан и прищелкнул языком. – Даже такую скуку, как Силия Италика, они предпочитают моим шуткам.
Он обернулся, он думал, что говорит с Луцией. Но за ним стоял только карлик, Луция ушла.
– Светает, – сказал император подавленным сенаторам, – и вам пора искать нового вождя для сената и римского народа. Трудный день для вас. Трудный день и для меня, так как мне придется решить, чьи привилегии я поддержу, чьи нет. Да просветят боги меня и вас, избранные отцы, – отпустил он их.
Перед самым рассветом явился Иосиф. Домициан узнал от Луции, что этот человек был последним, с которым говорил его брат. Вероятно, этот еврей был и единственным, кто знал, действительно ли его проделка с Юлией, эта оплата старого счета, была известна Титу и насколько она задела его.
– Вы ведь, кажется, живете в шестом квартале, – качал император, – на улице Гранатов?
– Я почитаю себя счастливым, – ответил Иосиф, – что милостью императора Тита мне был оставлен дом, назначенный мне богом Веспасианом.
– Известно ли вам, что я родился в этом доме? – спросил Домициан.
– Конечно, ваше величество, – ответил Иосиф.
– И вы охотно работаете в этом доме? – продолжал расспрашивать Домициан. – И ваша работа вам там удается?
– Я очень люблю этот дом, – ответил Иосиф, – и работаю в нем охотно. А хороша ли моя работа, об этом судить не мне.
– Я жалею, – сказал Домициан и странно бесшумными шагами подошел к Иосифу очень близко на своих негнущихся ногах, – что мне приходится вас выселять. Но этот дом, в котором мой отец, бог Веспасиан, прожил так долго и из которого исходило так много счастья для империи, я хочу посвятить богам и сделать там национальный музей его памяти.
Иосиф ничего не ответил. Он знал о том влиянии, которое имел Марулл на Домициана, знал также о влиянии Анния Басса, знал, как капризен Домициан, знал, что и сам теперь под угрозой. Но он не испытывал страха, он чувствовал странную уверенность. Тщеславие, торжество, поражение, боль, наслаждение, ярость, печаль, Дорион, Павел, Юст – все это было уже позади, а перед ним была только его работа. Все происходившее до сих пор в его жизни пригодилось для его работы, и оно приобретало смысл, только когда он связывал его со своей работой. Ягве, он в этом уверен, прострет над ним свою руку, дабы с ним не случилось ничего, что могло бы угрожать этой работе.
Поэтому он ждал со спокойным любопытством, чего от него потребует Домициан.
– Вы имели счастье, – сказал тот наконец, – присутствовать при смерти и преображении моего брата, императора Тита. Чего потребовал мой брат от вас напоследок? – Домициан старался говорить спокойно, но он не мог совладать с собою, его лицо покраснело, голос сорвался.
– Император Тит, – сообщил Иосиф, – хотел дать мне поручение. – Домициан смотрел ему в рот почти со страхом. – Он просил меня, – продолжал Иосиф, – записать для потомства, что сожалеет об одном-единственном поступке своей жизни.
– О каком? – спросил Домициан.
«Ага, – подумал он, – история с Юлией все же достигла цели. Он, наверно, сказал ему о своем сожалении, что не отправил меня на тот свет». И, открыв рот, Домициан ждал, что ответит Иосиф.
– Он уже был не в силах сказать мне, о каком.
Вот все, что мог сообщить ему Иосиф.
Домициан облегченно вздохнул. Но уже в следующее мгновение он почувствовал разочарование. Значит, он так никогда и не узнает, какое впечатление произвела на Тита история с Юлией. «Разумеется, – подумал он, – Тит сказал ему, а этот хитрец не хочет мне это открыть». Вслух же он заявил:
– Среди нас не много людей, которые могли пожалеть только об одном своем поступке. Мой брат был добродетельный человек. Мой брат, – продолжал он с легкой зловещей улыбкой, – был, кроме того, счастливый человек. – И с двусмысленной, опасной откровенностью пояснил: – Он умер на вершине своей славы. Умри он позднее, кто знает, удержал ли бы он славу, а он придавал ей очень большое значение. Те, кто дал ему слишком рано умереть, – заключил он, и его наглая, мрачная усмешка стала резче, – сделали это ради его блага.
Когда он с этими словами отпустил Иосифа, солнце уже взошло и римский сенат приступил к тому, чтобы возвести Тита в сонм богов, а Домициана – на императорский престол.
Три дня спустя, 1 тишри, то есть в первый день нового 3842 года по еврейскому летоисчислению, Иосиф стоял в синагоге, носившей его имя. Бараний рог, резко, пронзительно и безобразно призывавший к покаянию, потряс его до глубины существа, взрыл его душу. Это было благое потрясение, оно словно вспахало его душу для приятия посева. Когда он во второй половине дня подошел к берегу реки Тибр, чтобы, согласно предписанию, стряхнуть с себя грехи в реку и дать текучей воде унести их в море и там утопить, он чувствовал себя действительно очищенным.
Первого тишри Ягве бросает жребии, но только десятого, в великий день очищения, в субботу из суббот, закрепляет он их; этот срок он дал мужам своего народа, чтобы они могли покаянием отвратить от себя суд. Более других обладали в те времена евреи даром покаяния; они прошли через большие грехи и большие несчастья, они знали, что вина и несчастье – не конец, но лишь возможный путь к новому началу. Иосиф в особенности, этот «вечно изменчивый», мог стряхнуть с себя прошлое, как воду – гладкая кожа, и подобно тому, как новорожденный наследует от отцов и праотцев их сущность, но не их судьбу, мог он теперь, в начале своего нового большого труда, начать новое существование так, чтобы прошлое не обременяло его. Для него не пропало то, что было в нем полезного, а что было дурного – он зачеркнул.
Десятого тишри стоял он, как и другие, в своей синагоге в простой белой одежде, в той льняной одежде, в которой он после смерти будет положен в гроб, ибо человек должен в этот день предстать перед лицом Ягве, как бы готовый к смерти.
Коллегия в Ямнии приказала, чтобы великая жертва, приносившаяся, когда храм был цел, в день очищения, теперь была заменена описанием этого жертвоприношения. Левит Иувал бен Иувал, один из немногих певцов и музыкантов храма, спасшихся при разрушении Иерусалима, был приглашен кантором в синагогу Иосифа. И вот он пел, чередуясь с общиной, о храмовой службе. Он хорошо знал старинные мелодии, и в соответствующих местах, рассказывая о покаянии в грехах или о том, сколько раз первосвященник кропил жертвенной кровью, он вводил в свой рассказ дикий, монотонный напев, сохраненный левитами с тех древних времен, когда иудеи еще странствовали в пустыне.
«Хвала глазу, – пел он, – видевшему двадцать четыре тысячи священников, утварь храма, великолепие службы; когда наше ухо теперь слышит об этом, наша душа печалится. Хвала глазу, видевшему первосвященника, когда он выходил из святая святых, примиренный, в тишине, возвещая, что красная нить греха отмыта добела милостью Ягве. Хвала глазу, видевшему его в эту минуту; когда наше ухо слышит об этом, наша душа печалится.
Ибо мы, – пел он дальше, – мы, ах, благодаря чрезмерности наших грехов, лишены искупления. Отдана осквернителям наша страна, чужестранцы стали ее главой, – мы – ступнями. Без пророков идем мы на ощупь, подобно слепым, без предсказаний. И никакое новое очищение не ждет нас. Нет у нас больше первосвященника, приносящего за нас жертву, нет козла отпущения, чтобы отнести наш грех в пустыню».
И он говорил и пел о подробностях этой великой жертвы искупления. О том, как первосвященник за семь дней воздерживался от всякого соприкосновения с миром, направив все свои помыслы лишь на свое святое служение. Как он проводил ночь перед великим днем очищения без сна и пищи, занятый чтением и слушанием Писания. Как он затем утром, в белых одеждах, сверкая храмовыми драгоценностями, шел на восточную сторону переднего двора, где, охраняемые священниками, стояли оба козла, совершенно схожие друг с другом ростом и сложением и на которых каждый в Израиле тратил часть одного динария. Как он затем вынимал из урны золотые жребии и решал, какой из двух козлов должен быть отдан Ягве, а какой – пустыне. Как он затем, возложив руки на голову козла, каялся перед всеми в грехах, совершенных им, его семьей, его родом, всем Израилем, и возлагал их затем на голову козла и привязывал грехи в образе красной нити к его рогу и отсылал прочь, чтобы он унес их в пустыню. Как он в заключение входил в святая святых и призывал Ягве его настоящим высочайшим, страшным именем, которое больше никто и никогда не смел произносить, и как весь народ, когда это имя исходило из уст первосвященника, падал ниц.