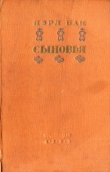Текст книги "Сыновья"
Автор книги: Лион Фейхтвангер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 32 страниц)
В конторах, организующих гладиаторские игры, вдруг исчезли всякие сомнения относительно того, можно ли использовать пленных, оставшихся от Иудейской войны. Плата добровольцам упала на сорок процентов. И уже решительно никто не интересовался молодым человеком из хорошей семьи, заявившим о своем желании стать гладиатором, чтобы заработать деньги на погребение отца.
Даже в лагерях военнопленных знали о положении дел. Пленные посылали душераздирающие просьбы иудейским общинам, умоляя помочь, выкупить. Господа, собиравшие пожертвования, работали теперь с большим успехом. И все-таки шансы каждого в отдельности на выкуп были ничтожны, пленных было чересчур много, а в лагерях царила атмосфера безнадежности и мрачной тревоги. Иные просили противников не щадить их так же, как и они не будут их щадить; ибо тот, кто одерживал победу над многими противниками, еще имел некоторые шансы остаться в живых. Однако все знали, что эти шансы очень невелики, что против большинства имен в списках стоит роковое «Р», и, тренируясь, люди в то же время готовились к смерти, каялись в грехах, писали завещания, молились.
После отъезда Береники Тит нередко погружался в глубокую задумчивость. Он останавливался перед ее портретом и размышлял. Он не мог понять, что же, собственно, произошло. Ведь Береника осталась той же женщиной, что и прежде. То же лицо, грудь, осанка, то же тело и душа, которые он любил на протяжении десяти лет. Как могло столь сильное чувство, самое неодолимое из испытанных им за всю его жизнь, вдруг так мгновенно исчезнуть? Может быть, это наказание бога Ягве, отнявшего у него высшее счастье? А может быть, наоборот, это милость Юпитера Капитолийского, открывшего ему глаза и указавшего его подлинную задачу? Однако второе, более утешительное, предположение все же не могло совершенно уничтожить первого, пугающего.
Как бы то ни было, разрыв с еврейкой создал Киту у римлян первый большой успех. Любовь народа, которой он так долго и тщетно добивался, пришла теперь сама собой. Он спокойно наслаждался ею. Слишком долго разрешал он себе всякие изысканные причуды, эзотерическое влечение к Востоку. Теперь он облегченно вздохнул, освободившись от дорого стоящих чувств.
Он упивался любовью своего народа. Изобретал все новые утонченные способы подогревать ее. Стал расточительным. Только теперь вкусил он в полной мере радость строительства, грандиозных приготовлений к играм. Все реже допускал к себе вечно каркающего Клавдия Регина. Без свиты, без маски, как частное лицо, гулял он по улицам, впитывал в себя то, что о нем говорили массы. Ибо когда они теперь называли его Китом, то делали это с любовью, с нежностью, и уже не было особенно большой разницы между этим прозвищем и тем, которое для пего изобрели придворные поэты и риторы: «Любовь и радость человеческого рода».
Вопреки совету своего интенданта, он не отпраздновал открытие Новых бань торжественным освящением в присутствии одной только знати, но с первого же дня дал доступ массам. Сам он явился в этот день в гигантское, великолепное заведение без охраны, как простой посетитель, среди тысяч других. Разделся среди них, с ними плавал в бассейне с теплой и в бассейне с холодной водой, вместе с ними массировался, разговаривал с соседями на диалекте – какой-то смеси сабинского и римского, говорил, к их великой радости, «Rauma» вместо «Roma», шутил с ними насчет того, сколько давать банщикам на чай. Он постоял вместе с другими в большом зале перед фресками, – правда, вместо шедевра «Упущенные возможности» там красовалась довольно банальная мифологическая мазня – «Венера, выходящая из морской пены». Как бы то ни было, эта фреска служила подходящим поводом для непристойных шуток. Его шутки были самые непристойные. Все узнали императора, но с готовностью принимали участие в игре и делали вид, что не узнают его.
И все-таки минутами его охватывала глубокая отчужденность.
Неужели это он среди гулких криков бросается вниз головой в воду? Неужели это он говорит вместо «Roma» – «Rauma» и отпускает шуточки по поводу стыдливости Венеры? Весело слоняется из зала в зал, хлопая своих римлян по животам, позволяя им трепать себя по плечу, пользуется огромной популярностью? Он спросил наконец прямо, рады ли они, что среди них Кит. В ответ раздался оглушительный хохот, бурное ликование. Но в то время, как он шумел и смеялся вместе с ними, мысленно даже стенографируя собственные слова, он почувствовал, что самое большое – это Кит смеется и шутит, но подлинного Тита здесь нет. Подлинный Тит далеко отсюда, не в Новых банях; он смотрел вслед кораблю, которого никогда не видел, на котором едет Береника и который он не смог бы догнать ка своем самом быстроходном корабле.
Деметрий Либаний принес интенданту зрелищ рукопись «Пирата Лавреола». Либаний был очень горд. Текст обозрения удался блестяще; это была действительно такая пьеса, о какой он мечтал с самого детства, и она появилась в нужный момент. Он в зените своих сил, он созрел, чтобы сыграть эту роль, которая содержит в себе всю эпоху.
С глубоким удовлетворением рассказывал он интенданту, как представляет себе постановку и интерпретацию этой вещи. Но обычно столь вежливый и легко воодушевляющийся интендант на этот раз сохранял ледяное равнодушие. Он полагает, заявил интендант, что постановка нового обозрения едва ли сейчас возможна. Нужно поискать что-нибудь актуальное, например, вроде фарса «Еврей Апелла»; при дворе, в очень влиятельных сферах, было выражено желание еще раз посмотреть этот фарс, а римская публика будет ему особенно рада именно теперь.
Деметрий Либаний широко раскрыл тусклые бледно-голубые глаза, почти поглупевшие от изумления. Не сон ли это? С интендантом ли он говорит? И сейчас действительно 833 год от основания Рима? Что плетет этот человек? Ведь Деметрий пришел к нему, чтобы сыграть пирата Лавреола! А что он сказал об «Еврее Апелле»? Как? Почему? Это шутка? Или он хочет испортить его радость напоминанием о кошмаре, пережитом пятнадцать лет назад, – страхи и сомнения, связанные с этим рискованным фарсом, который в настоящее время не может не вызвать погромы и беды?
– Император хочет увидеть «Еврея Апеллу»? – пробормотал он. И тогда с ним случилось то, чего не случалось вот уже тридцать лет: его изысканный греческий язык вдруг перешел в диалект, в тот полуарамейский диалект, из-за которого римляне издевались над обитателями правого берега Тибра.
– Еще определенных указаний пока не дано, – осторожно ответил интендант, – но я считаю в высшей степени сомнительным, чтобы захотели вернуться к «Пирату Лавреолу».
На этот раз Либаний расслышал. Это не было сном, это были слова – трезвые, сказанные вполне серьезно. Каждое слово было как удар по голове: они потрясли его до самого нутра. Шатаясь, с блуждающим взглядом, он удалился.
Он отослал домой каппадокийских носильщиков; ему хотелось идти пешком, двигаться. Он спустился с Палатина к Форуму, спотыкаясь, что-то бормоча про себя. Прохожие с удивлением смотрели ему вслед. Многие узнавали его. Некоторые шли за ним – праздношатающиеся, дети, их становилось все больше. Он их не видел. Он вдруг почувствовал смертельную усталость, охая, присел на ступени храма Мира. Так сидел он, раскачивая верхнюю часть тела, тряся головой, старый еврей. Друзья отвели его домой.
Горькие, покаянные мысли точили его. То, что произошло, не могло быть случайностью. Так долго ждал он этого свершения, и вот когда оно наступило, когда роль созрела в нем, когда текст удался и создана подходящая рамка, тут в последнюю минуту, в ту самую минуту, когда он хотел выйти на подмостки, эти подмостки рухнули у него под ногами. Это была кара Ягве.
Взгляд его серо-голубых тусклых глаз стал совершенно тупым, бледное, слегка отекшее лицо посерело, сморщилось, словно неравномерно наполненный мешок. Он терзал себя, он опустился.
Таким нашел его Иосиф. Иосифа, может быть, меньше всех коснулась перемена; то, чего он мог достигнуть, он достиг уже раньше. Когда он увидел отчаяние актера, его поразила мысль, что ведь и с ним легко могло случиться то же самое. Он вспомнил также все, что Деметрий Либаний для него сделал, когда он в первый раз приезжал в Рим. Хотя Иосиф в своей книге и не приводил цифр, все же он отлично умел считать. Он не забывал обиды, но не забывал и сделанного ему добра. И теперь, когда актер сидел перед ним, такой маленький и несчастный, когда Деметрий рассказал, что от него требуют сыграть еврея Апеллу вместо пирата Лавреола, Иосиф решил помочь своему другу, он отважился на смелый шаг. Он пошел к Луции.
Иосиф понимал женщин. С первой минуты, как он увидел Луцию, он уже знал, чем ее взять. Она была жадна до жизни, восприимчива к сильным страстям, не ведала страха. Марулл рассказал ему, что она порицала Тита за разрыв с Береникой, хотя этот разрыв и был в прямых интересах ее и Домициана. Если Иосифу удастся объяснить ей, как некрасиво поступили с актером, тогда – он был в этом уверен – она вступится за Деметрия.
Луция не скрывала радости, что видит Иосифа. Он заговорил с ней откровенно, как с хорошей, чуткой подругой. Он говорил о Беренике, рассказал о ее прошлом то, чего еще никому не рассказывал. О Тите он отозвался тепло, сожалел, что тот порвал с ней, но оправдывал его и увидел с радостью, что Луция страстно возмутилась такой чисто мужской точкой зрения. Теперь ему было легко действовать. Быстро, даже без помощи особенно выразительных слов добился он того, что она стала осуждать поход против евреев в Риме, и в особенности против актера. Было неблагородно сначала с этими людьми носиться, убаюкивать их сотнями надежд – а затем одним пинком ноги отшвырнуть прочь. Да, таково ее мнение. И она этого мнения скрывать не будет, даже перед деверем, перед Титом. Рослая, с резко очерченным носом и широко расставленными, смелыми глазами, сидела она перед Иосифом, высокая башня ее искусно завитых локонов слегка дрожала. Иосиф был убежден, что Тит серьезно отнесется к ее мнению.
Увидев Луцию, Тит просиял. Он видел ее по-новому. Правда, он уже в последние недели замечал, как она прекрасна и полна силы, но тогда он еще был зачарован еврейкой. Только теперь увидел он ее по-настоящему, как бы впервые, – ее смелое, беззаботное, чувственное лицо. Эта – умела жить. В дураках-то остался он, а Малыш оказался прав. Встреть он, подобно брату, еще в ранние годы такую женщину, то едва ли стал бы блудить во всех частях света, все пошло бы хорошо и он не потерял бы способности иметь детей. И тогда не подпал бы под чары еврейки и не шел бы мучительными окольными путями.
Но что говорит Луция?
– То, что вы сделали, недостойно вас. Если женщина вдруг перестает нравиться – это бывает, это в природе вещей, тут ничего не поделаешь. Но, по-моему, некрасиво вымещать перемену ваших вкусов на пяти миллионах людей. Мне лично, за редкими исключениями, ваши евреи не симпатичны, вероятно, еще менее симпатичны, чем вам. Но то, как вы сейчас поступаете, Тит, не годится. Если бы Малыш сделал что-нибудь подобное, я бы дала ему отставку.
– Знаете, Луция, – вдруг сказал Тит таинственно и словно под влиянием внезапного озарения, – в очаровании, исходившем от нее, не было ничего естественного, здорового. Только иноземное, проклятый Восток. Лишь сейчас увидел я ее настоящими римскими глазами. Это – старая еврейка, мои римляне правы. Я вдруг выздоровел, может быть, слишком внезапно, а в таких случаях легко хватить через край. Вероятно, вы правы. Я послежу за тем, чтобы не заходили слишком далеко.
Он взглянул на нее, она взглянула на него, и он понравился ей. По-своему она любила Домициана, но Тит был интереснее. Юпитер свидетель, это вовсе не кит, это резвый дельфин. Как он очаровательно неуравновешен, то по-военному подтянутый, то по-мальчишески игривый, то в глубоком раздумье о своей тоске по Востоку, погруженный в нее. Сегодня он беззаботно, по-детски показывал, как он рад приходу Луции. Он нашел верные слова, не навязчивые, но и не робкие. Это был не император, не брат ее мужа, это был просто мужчина, который ей нравился и которому она нравилась.
Доложили о приходе Клавдия Регина. Император не принял его, назначил аудиенцию на следующий день. Луция хотела уйти, он удержал ее, и когда они наконец расстались, они испытывали друг к другу сильное и приятное влечение. Только сейчас, казалось Титу, исцелился он вполне от еврейки, и снова в душе мелькнула нелепая суеверная надежда, что Луция могла бы, пожалуй, родить ему сына.
На следующий день он распорядился убрать портрет Береники. Теперь в Риме ничто больше не напоминало о ней, кроме созвездия вблизи Льва, – это далекое, тонкое сияние, нежное, как прядь волос, носившее ее имя.
Интендант с удовольствием отметил испуг и унижение Деметрия Либания. Так как актер нередко раздражал его своими повадками «звезды», он с радостью воспользовался случаем отплатить ему. На ближайшем своем докладе у Тита он пытался получить от него разрешение на постановку фарса «Еврей Апелла».
Но, едва приступив к делу, он сразу увидел по тому, как держался император, что ему не удастся добиться согласия так легко, как он надеялся. Он имел дело с Китом, животным неуклюжим, но опасным своими чудовищными размерами, так что охота требовала хитрости и уловок. Поэтому интендант искусно отклонился от темы, но через некоторое время снова, и на этот раз гораздо более туманно, вскользь вернулся к желанию римлян опять посмотреть «Еврея Апеллу». Он знал слабости Кита, знал, как тот дорожит одобрением масс. Он подчеркнул, что и сам не очень любит «Еврея Апеллу» и что «Лавреол» Марулла очень хорош. Но он считает своим долгом поставить императора в известность относительно того, насколько массы желают именно теперь постановки «Еврея Апеллы».
Странным отсутствующим взглядом смотрел Тит на интенданта, стоявшего перед ним в позе почтительного ожидания. Неужели отказать своему народу в том, что, по существу, так легко исполнимо? Правда, он обещал Луции. Обязался следить за тем, чтобы «не заходили слишком далеко». Кроме того, он вовсе не намерен обижать Деметрия.
Раздосадованный, сидел он перед интендантом, стенографируя на своей дощечке бессмысленные слова. Он охотно избегал решений, он любил компромиссы.
– А что, – сказал он, – если дать Либанию сыграть своего Лавреола, а еще кому-нибудь, – например, Латину или Фавору, – еврея Апеллу?
Интендант пожал плечами.
– Боюсь, – ответил он, – что тогда весь спектакль потеряет свою остроту. Римляне будут удивлены, что еврея играет не еврей. Кроме того, подобное решение оскорбило бы и Либания не меньше, чем народ, ибо он играл эту роль мастерски.
Видя, что император все еще колеблется, он пошел на уступки. Монарх не хочет оказывать недостойного давления на актера, – это вполне соответствует его кроткому характеру. Но он лично полагает, что есть средний путь. Можно было показать народу любимую и актуальную пьесу, не обижая актера. Что, если, например, предложить Либанию сыграть Апеллу сейчас, во время игр, твердо пообещав ему за это дать потом сыграть Лавреола?
Тит обдумывал предложение. Но хотя он и колебался, интендант увидел сейчас же, что Кит попался на удочку. Так оно и было. И если император медлил, то лишь из приличия. В душе он был рад компромиссу, предложенному интендантом. Так он сдержит и свое обещание, данное Луции, и не вызовет неудовольствия своих римлян.
– Хорошо, – сказал он.
Либаний проклинал свою судьбу. Все вновь и вновь ставила она его перед подобными горькими альтернативами. Когда он в тот раз, после мучительных колебаний, все же сыграл еврея Апеллу, это было, по крайней мере, событием, коснувшимся всего еврейства. То, что это принесло вред, и, может быть, даже из-за этого погибли государство и храм, не его, Либания, вина. Теперь же проблема касалась не всего еврейства, а его одного, но она угнетала его не меньше. Если он не выступит, если допустит, чтобы его на стодневных играх обошли, ему уже не выплыть никогда. Император отныне едва ли будет служить ему прикрытием. Несомненно, Тит, может быть, сам того не сознавая, хотел выместить на всех евреях разочарование, которое уготовила ему Береника. Если он теперь откажется играть еврея Апеллу, это послужит для Тита желанным предлогом навсегда его отстранить. А ему пятьдесят один год.
На самом деле ему было пятьдесят два, но он себе в этом не признавался.
В тот раз, когда он впервые играл еврея Апеллу, он запросил мнения богословов. Мнение оказалось двусмысленным, оно в конце запрещало то, что разрешило в начале. Теперь он их не запрашивал. Актер знал, что, сыграй он еврея Апеллу сейчас, богословы единодушно и без всякой казуистики объявят это смертным грехом. Богословы были люди ученые, и он почитал их. Но в данном деле они не смогли бы дать ему совет, – их принципы были недостаточно гибки.
Он советовался с Иосифом, с Клавдием Регином. Смеет ли он взять на себя ответственность сыграть еврея Апеллу и тем самым высмеять еврейство, как этого от него хотят? Смеет ли он, с другой стороны, поскольку Ягве одарил его столь выдающимся талантом, отказаться от этой роли и навсегда закрыть себе доступ на сцену? Ни Иосиф, ни Регин не могли сказать ни «да», ни «нет», они ничего не могли придумать.
В конце концов Деметрий Либаний решил за большие деньги выкупить пятерых евреев из лагеря военнопленных, предназначенных для игр, и выступить в «Еврее Апелле».
– Я не сентиментальна, но шрам под левой грудью я тебе целовать не позволю, – сказала Луция Титу, смеясь большими ровными зубами. – Ему я тоже не позволяю.
Это была ночь перед открытием Амфитеатра Флавиев, первая ночь, которую она провела с ним.
– Зачем ты возбуждаешь мою ревность, Луция? – спросил Тит. – Зачем мучаешь меня?
Она лежала сытая, крупная, нагая.
– Я тебе всегда говорила, что люблю его, – ответила она. – Но какое тебе до этого дело? Какое нам до этого дело? Не говори о нем. Ты совсем другой, мой Тит. Хорошо, что боги создали мужчин такими разными.
– Мне кажется, – сказал Тит, тоже сытый, счастливый, шепотом, таинственно, – мне кажется, теперь я очистил свою кровь от этого проклятого Востока. Через тебя, Луция. Теперь я – римлянин, Луция, и я люблю тебя.
Он был вполне счастлив, когда на другой день вошел в театр и его встретили бурным ликованием, и он знал на этот раз, что оно не организовано полицией. Он испытал большой соблазн назвать театр своим именем, однако пересилил себя, уступил всей династии честь этого грандиозного дела и назвал здание Амфитеатром Флавиев. Но для него было торжеством и знаком милости богов, что открыть этот театр дано именно ему, а не Веспасиану, так долго его строившему. Ясным и радостным взглядом обводил он гигантское здание, кишевшее людьми; он знал число зрителей – их было восемьдесят семь тысяч; три тысячи мраморных статуй терялись в массе живых людей.
Игры начались. Они начинались рано утром и продолжались до захода солнца. Для первого дня были сделаны особенно пышные приготовления, и за один этот день на арене умерло девять тысяч зверей и около четырех тысяч человек. В антрактах массам тоже давали чувствовать, что они в гостях у поистине щедрого императора. Они не только получали даром вино, мясо и хлеб, но среди них еще разбрасывали выигрышные билеты, и те, кому удавалось захватить их, получали право на земельные участки, на деньги, на рабов, а самые маленькие выигрыши давали право бесплатно провести ночь с одной из многочисленных, специально предназначенных для этой цели блудниц.
День был великолепный, не слишком жаркий и не слишком прохладный, и не еврейка сидела в ложе рядом с императором, а Луция, Луция Домиция Лонгина, римлянка, сильная, пышная, смеющаяся; массы были счастливы. На скамьях аристократии, даже в императорской ложе, царила радость по поводу того, что опасность восточного владычества миновала.
– О ты, всеблагой, величайший император Тит! – раздавалось все вновь и вновь со всех сторон. – О ты, любовь и радость рода человеческого. – И с подлинной нежностью: – О ты, наш всеблагой, величайший китенок!
Все же во время игр, – а они продолжались очень долго, – вскоре после полудня, с Титом случился один из припадков, характерных для первых недель его царствования. Он как бы ушел в себя, вяло смотрел в одну точку – и вдруг заплакал. Никто не знал отчего, едва ли знал он сам, и очень многие из восьмидесяти семи тысяч заметили это, ибо императорскую ложу было видно с большинства мест.
Впрочем, это случилось во время комической интермедии, называвшейся «Опыт Дедала». Искусные машины поднимали с арены людей с привязанными крыльями, так что казалось, будто они действительно летают. У каждого система канатов была другая, но все устроены так, что при определенных движениях, – при каких, пленные не знали, – канаты рвались. Тот, кому удавалось перелететь через всю арену, был спасен хотя бы на сегодня, но многие канаты рвались раньше, и крылатые существа разбивались насмерть. Было смешно наблюдать, как странные люди-птицы, особенно в последней части своего полета, старались достигнуть цели, но именно вследствие увеличения скорости многие падали. Организаторы возлагали на этот номер особые надежды. И он действительно произвел впечатление. Но оно пропало в значительной мере оттого, что зрители делили свое внимание между крылатыми существами и императорской ложей, с изумлением или, во всяком случае, с любопытством, спрашивая себя, что же такое приключилось с Китом. Направление полета этих человеко-птиц было, впрочем, таково, что они все время видели императорскую ложу. И, может быть, для некоторых из них все же было утешением, что человек, взявший их в плен и обрекший на смерть, плачет.