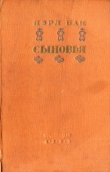Текст книги "Сыновья"
Автор книги: Лион Фейхтвангер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 32 страниц)
Иосиф был человеком минуты, его худощавое лицо отражало каждое душевное движение, и Гамалиилу было нетрудно заметить, как взволновало его это предложение. Множество мыслей проносилось в голове Иосифа. Пост, предложенный ему Гамалиилом, даст ему в жизни определенную опору и все же оставит достаточно времени для работы. Сладостна и дорога ему родина. Когда он сидел на низенькой ограде на хуторе «Источник Иалты», греясь в солнечных лучах, он мечтал о том, чтобы остаться в этой стране, на этой земле, по которой так долго ступали его праотцы, в этом воздухе, которым они так долго дышали. Заманчивая должность. Он мог бы служить посредником между Лиддой и Ямнией. С Гамалиилом ему легко сговориться, и с друзьями в Лидде он тоже найдет общий язык. Вот была бы чудесная жизнь: полгода в Кесарии, полгода в своем имении, с Марой. Он мог бы дать себе волю говорить но-арамейски, не чувствовать себя чужим, как в Риме. Только здесь понял он, чего ему не хватает в Риме. Когда он общается с такими людьми, как Гамалиил, как Ахер, как бен Измаил, он чувствует, что здесь его корни и что даже тяжеловесное раздумье галилейских крестьян и нелепые дискуссии богословов, их напевная речь, их смешной задор – часть его самого. Несомненно, все это придаст ему новые силы. Не гордыня ли отказаться от этой силы, опираться только на самого себя?
А что будет с его работой, с его «Историей»? Если он напишет ее здесь, не окажется ли она тенденциозной? Не ляжет ли на нее против его воли отпечаток мелких, скучных, провинциальных будней?
Гамалиил, словно угадав его мысли, продолжал:
– Вам удалось так написать историю войны, что евреи читают ее без горечи, а римляне – с радостью. Но я боюсь, – и он указал на мозаику пола, где была изображена виноградная лоза, эмблема Израиля, – что еще не настало время, когда человек сможет одновременно пить и виноградный сок, и молоко волчицы [128]128
По преданию, младенцы-близнецы Ромул и Рем, будущие основатели Рима, были вскормлены волчицей; поэтому волчица считалась чем-то вроде эмблемы Римского государства.
[Закрыть]. Бог наделил вас большой силой, но нужно иметь мощь древних пророков, чтобы всю жизнь переваривать и то и другое. Рим велик; когда человек живет в нем, страна Израиль кажется ему далекой и очень ничтожной. Котлы Рима доверху полны мясом, здесь же оскудело даже молоко и мед. [129]129
В Библии Палестина, обещанная богом в наследие народу Израиля, неоднократно называется «землею, где течет молоко и мед» (например, «Исход», III, 8).
[Закрыть]
Он встал, но не подошел к дверному косяку, чтобы произнести речь, наоборот, он остался рядом с Иосифом и принялся дружески, тепло уговаривать его, он даже положил ему руку на плечо.
– Я моложе вас и, быть может, кажусь вам навязчивым. Допускаю, до сих пор вам удавалось оставаться одновременно и римлянином и иудеем. И когда нам всем казалось, что вы уже не можете выдержать, что вы должны наконец самоопределиться, вы все еще находили возможность нести на плечах двойную ношу. Но если вы теперь сядете на корабль, чтобы ехать в Рим, я боюсь, это будет вашим последним решением, окончательным. Предпочитаете ли вы быть греческим писателем или еврейским? Должны ли будущие поколения видеть в вас историка еврейского народа или историка Палатина?
Гамалиил говорил настойчиво, убедительно, он нашел правильный тон. Иосиф чувствовал большое искушение. Эта страна влекла его к себе, влекли люди, дело, которое ему предлагали, сам этот человек, его молодость, его сила, его хитрая прямота, его молчание, его речи. Было бы замечательно работать бок о бок с ним, руководить общественными делами еврейства. Но не лучше ли, вместо того чтобы вершить малую историю евреев, писать великую историю иудеев?
Гамалиил почувствовал, что каждое лишнее слово теперь только ослабило бы впечатление от его речи. Он не настаивал на ответе.
– Обдумайте спокойно мое предложение, – закончил он. – До зимы и прекращения навигации времени достаточно.
Перед тем как официально сообщить коллегии требования Рима, верховный богослов призвал к себе тех членов коллегии, которые были за минеев, чтобы посоветоваться с ними.
Ошеломленные, сидели бей Измаил и его друзья в кабинете Гамалиила. Они сразу поняли, что если встанут на защиту минеев и их странствующих проповедников, то это вызовет новые притеснения Израиля со стороны Рима. Они смотрели друг на друга, смотрели на верховного богослова и не знали, что же делать.
В конце концов Гамалиилу пришлось самому ободрять этих растерявшихся людей. Его главная забота, сказал он, в том, чтобы не допустить раскола среди еврейства. Прежде всего, конечно, христиане должны, чтобы еще сильнее не раздражать Рим, прекратить свою пропаганду среди неевреев, ставшую особенно опасной после запрещения обрезания. Если они это сделают, то есть еще слабая надежда, что они останутся в лоне еврейства. Хотя они иной раз и высказывали точки зрения, весьма близкие к «отречению от принципа», все же большинство минеев лишь незначительно отступает от учения о Ягве. Он, Гамалиил, считает за лучшее, чтобы вожди минеев открыто и спокойно обсудили с богословами спорные вопросы. Он очень надеется, что такой диспут облегчит коллегии возможность дать заключение в том смысле, что христиане принадлежат к еврейству.
Даже те богословы, которые до сих пор считали Гамалиила, несмотря на его нейтральность, скрытым врагом минеев, должны были признать, что его предложение исключительно благородно. Ведь и сами христиане соглашались с тем, что в их учении много путаницы. Такой диспут, как предлагал Гамалиил, дал бы возможность вождям минеев, не отрекаясь от самого существенного, согласовать основы своей веры с догматами богословов. Предложение верховного богослова указывало христианам выход из трудного положения, он великодушно предоставлял решение вопроса об их дальнейшем пребывании в среде еврейства им самим. Сочувствующие минеям члены коллегии прославляли мудрость и кротость Гамалиила и поддержали его.
Доктор бен Измаил взялся передать предложение Гамалиила чудотворцу Иакову из деревни Секаньи – признанному вождю минеев в районе Лидды и Ямнии. Но случилось именно то, чего бен Измаил втайне опасался. Иаков, не задумавшись ни на минуту, тотчас отклонил предложение. Его гладко выбритое, деловитое лицо банкира чуть покраснело, он сохранил спокойствие, но это было напускное спокойствие.
– Мы не отзовем наших странствующих проповедников, – заявил он, – это было бы самым большим преступлением, поистине отречением от принципа. Ибо для нас Ягве остается не только богом Израиля, но и всего мира, и мы не можем допустить, чтобы у нас отняли право распространять его учение среди язычников, как он повелел нам, хотя Рим и запретил обрезание. Мы проповедуем наше вероучение, мы радуемся, когда его принимает все большее число людей, ибо мы знаем по опыту, что эта вера дает великое утешение и что тот, кто живет в ней, защищен от невзгод.
Спорить с богословами о своей вере мы тоже отказываемся. Мы не смогли бы этого, даже если бы захотели. Никто из нас не может взять на себя смелость говорить за другого, – только за себя. Этим мы как раз и отличаемся от богословов, что никого не хотим связывать определенными догматами. Мы не сопоставляем различные логические и теологические аргументы, мы погружаемся в жизнеописание нашего спасителя. Из его слов и из нашего сердца черпаем мы нашу веру. Мы разрешаем каждому понимать слова спасителя по-своему. Никто не связан пониманием другого. Потому-то многие из нас и называют себя «верующими», что мы не просто принимаем предписанные нам точки зрения, но каждый из нас должен извлечь свою веру из собственной груди.
У нашей веры нет границ, и мы не хотим их иметь. У нас даже нет общего имени. Мы называем себя то верующими, то бедняками, то христианами. Мы предоставляем богословам определить нашу веру; они больше доверяют своей мудрости, чем мы. Мы сами не можем точно назвать того, что связывает нас, да и не хотим этого, – мы слишком смиренны.
Мы считаем себя иудеями. Мы верим в то, во что веруют богословы, мы выполняем обряды, как нам предписывают богословы, но мы веруем в нечто большее, и мы подчиняем свою жизнь более строгим принципам. Мы веруем не только в священников, мы веруем в пророков. Мы отдаем кесарево кесарю, но мы не думаем, чтобы запрещение кесаря освободило нас от обязанности исполнять заповеди Ягве. И мы считаем, что мы не только дети иудейского бога, а бога вообще. Мы никого не хотим выманить из его границ, если ему хорошо в их тесноте, но на нас возложена задача прославить широту Ягве. Мы не против богословия, но превыше всего хотим мы религии. Мы не против иудейской церкви, но превыше всего хотим мы иудейского духа.
Разве не видите вы, доктор и господин мой бен Измаил, вы, относящийся к нам так доброжелательно, вы, столь близкий к нашей вере, разве вы не видите, что верховный богослов своим предложением только готовит нам ловушку? Нам будут задавать вопросы, на которые мы не сможем ответить ни «да», ни «нет», будет вестись протокол, и вместо заключения этот протокол передадут римлянам, в результате чего римляне объявят христианство запрещенной религией. Члены коллегии не отлучат нас, они предоставят это римлянам, так же, как они в свое время подсунули римлянам убийство мессии, и невинно умоют руки.
Если вы меня спрашиваете, доктор бен Измаил, во что я верую, то я охотно исследую свое сердце и показываю то, что в нем нахожу. Если к нам приходит честный и бесхитростный человек и просит объяснить ему нашу веру, мы будем искать день и ночь, пока не найдем правдивые и простые слова. Но я бы счел богохульством, если бы выступил в Ямнии и пререкался с богословами о деталях моей веры. Сами ли они отлучат нас или заставят римлян это сделать – я не хочу купить терпимость богословов тем, что буду возвещать одну половину правды, а другую половину утаю. Лучше пусть меня презирают и преследуют, но я буду возвещать всю правду целиком. Кто говорит полуправду, того господь изблюет из уст своих. Блаженны гонимые за всю правду.
Очень скоро доктору бен Измаилу пришлось убедиться в горькой истине, что лояльность Гамалиила только притворство. Нападение оказалось решительным и внезапным.
Существовала древняя молитва, которую с незапамятных времен все евреи были обязаны произносить трижды в день и которая со времени разрушения храма заменяла жертвоприношение, – это были восемнадцать молений. Некоторые из этих молений, относившиеся ко благу целого народа, потеряли после разрушения храма свой смысл и стали противоречить нынешнему положению дел. Их временно заменили моления из эпохи Иуды Маккавея. Но и они, хоть и взятые из времен, когда евреи были в порабощении и храмовое служение нарушено, все же мало соответствовали теперешним обстоятельствам.
И вот во время дебатов по поводу пересмотра благословений, произносившихся при преломлении хлебов, доктор Хелбо бар Нахум стал настаивать на том, чтобы тексту трех общенациональных молений была придана единая редакция, соответствующая теперешнему политическому положению. Прежде всего молитва о восстановлении Иерусалима в своей теперешней нечеткой формулировке дает повод для многих неправильных истолкований. Он слышал своими ушами, как верующие наполовину и даже совсем неверующие вкладывали в это моление свой собственный, еретический смысл. Люди, упрямо и коварно утверждавшие, что мессия давно пришел и что разрушение каменного Иерусалима – заслуженная кара и благословение, даже эти люди необдуманно произносят великую и потрясающую молитву о восстановлении Иерусалима и говорят «аминь», когда ее произносит священник. Они заявляют дерзко и просто, что здесь идет речь о восстановлении Иерусалима «в духе». Доктор Хелбо был тучный господин, с мощным мясистым подбородком и низким голосом, раскаты которого заполняли всю комнату.
– Что вы скажете на этот счет, господа богословы? – закончил он свою речь и выжидательно окинул взглядом присутствующих.
Обычно коллегия слушала безучастно дебаты об «отречении от принципа», которые все вновь затевали он, доктор Иисус и Симон Ткач. Доктор Хелбо знал, что коллегия будет стараться как можно дольше оттянуть решение щекотливого вопроса о том, считать ли минеев евреями. Но решится ли она и теперь, после запроса правительства, уклониться от прений? Он посмотрел туда, где сидели друзья минеев, – те смущенно переглядывались. Они не понимали, куда клонит доктор Хелбо. И предпочитали молчать.
Так как никто не просил слова, то встал и заговорил доктор Иисус из Гофны. Это был спокойный господин, он привык взвешивать свои слова. И ему, заявил он, кажется богохульством, когда его молитвы доходят до слуха Ягве, смешанные с молитвами отрекающихся от принципа. Собственная молитва кажется ему оскверненной, если кто-то рядом с ним произносит те же слова, злонамеренно придавая им обратный смысл. Тут не скажешь от чистого сердца «аминь» в ответ на молитву о восстановлении города, слыша рядом с собой «аминь» из уст человека, считающего разрушение города благословенным, то есть извращенный «аминь», ересь. Невольно в сердце даже самого спокойного человека закрадется гнев на богохульника, и вместо того, чтобы снискать милость своей молитвой, впадаешь в грех.
Все ждали, что теперь последует запрос. Но нет, и доктор Иисус удовольствовался одной констатацией. Неужели, спрашивали себя минеи, даже эти прения имеют целью только подогреть настроение или враги нашли момент подходящим для нанесения удара?
Они нанесли удар. Симон Ткач взял слово. Он спросил доктора и господина Хелбо, знает ли тот какое-нибудь средство, чтобы освободить богослужение от злого яда, о котором говорил он и его коллега Иисус.
Оказалось, что доктор Хелбо знает такое средство. При беглом пересмотре восемнадцати молений, десять лет тому назад, одно из молений просто выпало, не будучи ничем заменено, и, таким образом, основной ритм молитвы был нарушен. Теперь число молений не доходит до восемнадцати, а это, как известно, священное число жизни [130]130
Число восемнадцать обозначается двумя буквами – «хет» и «йод». Сочетание их образует слово «хай», что значит «жизнь». Поэтому число восемнадцать и поныне считается счастливым у евреев.
[Закрыть]. Можно было бы, наконец, предложил доктор Гельбон, восстановить первоначальное число молений, а именно – прибавить к трем молениям о воссоздании храма и нации еще одно, проклинающее тех, кто растлевает слово, кто подменяет прямой смысл молений «воссозданием в духе». Такая поправка не только вернет молитве ее первоначальный вид, но и устранит опасность, о которой говорил и он, и его коллеги, ибо такое моление еретики едва ли будут в состоянии произнести, в ответ на такое моление они едва ли смогут сказать «аминь».
Теперь бен Измаил и его друзья знали, куда он метит. Никто не назвал минеев, но было ясно, что эти трое хотели превратить восемнадцать молений в орудие борьбы, чтобы исключить христиан из синагог и из еврейства. Минеи дорожили участием в общем богослужении. Они охотно цитировали слова пророка: «Молитва лучше жертвы» [131]131
Мысль эта выражена во многих местах Библии. См., например, «Первая Книга Царств», XV, 22, «Книга пророка Исайи», I, 11–17, «Книга притчей Соломоновых», XXI, 3.
[Закрыть], – древние восемнадцать молений были им так же дороги, как и остальным иудеям. Они всем сердцем любили благочестивый, безыскусный напев этих молений, во многих общинах они исполняли роль провозгласителей молитвы. Если, по предложению доктора Хелбо, будет введено еще проклятие, явно направленное против минеев, то им уже нельзя, согласно предписанию, говорить «аминь», ведь они же не могут сами просить Ягве, чтобы он их изгнал. Они должны будут удалиться из молитвенных домов.
Предложение было построено очень ловко. Если его примут, то не только навяжут минеям решение, от которого они до сих пор уклонялись, но избегнут также неприятной необходимости вынести такое заключение, которое дало бы римлянам основание для преследования минеев. Флавию Сильве можно было просто объяснить: есть очень легкий способ установить, кто еврей, а кто нет. Наше учение изложено в восемнадцати молениях. Кто произносит их вместе с нами, кто отвечает на них «аминь», тот еврей. Кто этого не делает, тот не принадлежит к еврейству. Минеям было предоставлено решить самим, могут они произносить «аминь» в ответ на проклятье еретикам или не могут.
Бен Измаил быстро понял опасность, крывшуюся в предложении доктора Хелбо. Обойти мучительное для них заключение чисто литургическим путем – это должно было показаться членам коллегии благословенным решением вопроса. Но вместо того, чтобы обдумать способы, как парировать удар, бен Измаил мучился одним: является ли изобретение этого маневра делом трех богословов или оно придумано его зятем Гамалиилом. Ему было бы больно, если бы Гамалиил оказался с ними в заговоре.
Верховный богослов быстро рассеял его сомнения. Он взял слово, заявил кратко и сухо, что выход, найденный доктором Хелбо, кажется ему справедливым и мудрым; он присоединяется к его предложению.
В крупной голове бен Измаила проносились вихрем сотни горьких мыслей – обвиняющих, возмущенных, смиренных. Лишь недавно он говорил Ханне, что никогда его друзья не примут предложения, направленного против минеев. Теперь сюда замешался запрос римлян, и никого нельзя обвинять за то, что он примкнет к дьявольски хитрому предложению Хелбо; наоборот, того, кто восстал бы против него, следовало считать врагом еврейства. Бен Измаил был настолько ошеломлен, что не находил слов для возражения трем ученым и Гамалиилу.
Вместо него выступил с возражениями один из его друзей. Молитва, заявил он, существует для того, чтобы испрашивать у бога милости для себя, а не мести для других. Предоставим Ягве самому наказывать богохульников и отщепенцев.
Из-за этих слов доктор Симон, по прозванию Ткач, встал вторично, и теперь, после поддержки верховного богослова, уверенный в своей победе, он казался еще массивнее и решительнее. Нужно, заявил он, заставить еретиков показать свое подлинное лицо, – этих двуличных людей, которые утверждают, будто они евреи, а на самом деле, словно идолопоклонники, стоят на коленях перед полубогом, который якобы снял с них бремя их грехов. Точек зрения много, одни из них лучше, другие – хуже, у Ягве обителей много, но у него нет места для тех, кто ради своей веры в полубога отрицает единственное исповедание иудейской религии: «Слушай, Израиль, Ягве – бог наш, Ягве един».
Если бы верховный богослов сейчас же перешел к голосованию, то предложение Хелбо поддержали бы шестьдесят из семидесяти членов коллегии. Но Гамалиил, как всегда, остался лояльным. Ему кажется, заключил он заседание, что некоторые из присутствующих раздражены, поэтому он предлагает перенести голосование на следующий день. Ибо не подобает принимать столь важные решения, когда человек взволнован.
Бен Измаил не спал в эту ночь. С ним были друзья, миней Иаков тоже поспешил в Ямнию из своей деревни Секаньи. Все они сидели вокруг бен Измаила, растерянные и печальные.
Миней Иаков сказал:
– Вы знаете, что мы – евреи и что мы не хотим нарушать закон. Наш мессия пришел, чтобы исполнить закон. Мы миролюбивые люди. Не отлучайте нас. Есть старое учение, и есть новое учение. Мы веруем в новое, но мы не отрицаем и старого. Если вы нас исключите, то к нам будет приходить все больше язычников и в нашу веру будет проникать все больше новое учение и все меньше оставаться от старого. Не принуждайте нас отказываться от старого учения ради нового.
Мрачная и гневная сидела Ханна среди мужчин. Она заклинала их отклонить предложение и в случае, если они окажутся в меньшинстве, выйти из коллегии. В народе у них много сторонников, пусть минеи объединятся, и можно будет дать Ямнии отпор.
Бен Измаил был в страшной тревоге. Он знал одно: если предложение будет принято, минеи постепенно отстанут от ритуалов, а если предложение не будет принято, евреи подвергнутся новым преследованиям со стороны Рима. Минеи были ему дороги, многое из их учения было близко его сердцу. Но Израиль и его целостность были ему дороже.
Он явился на заседание коллегии, не приняв никакого решения. Но тем обдуманнее подготовились противники. Они настаивали на том, чтобы сначала уточнить содержание нового моления, а не его словесную форму. Было решено, что проклятие Ягве должно призываться на две категории отрекающихся от принципа: на тех, кто не верит, что Ягве един, но верит также в мессию, служащего посредником между Ягве и человечеством и уже пришедшего, и на тех, кто считает, что может толковать закон из собственного сердца, без помощи устного предания и без посредства избранных богом провозвестников его.
Бен Измаил и его сторонники во время голосования не высказались ни «за», ни «против». Предложение было принято огромным большинством. Заседание продолжалось недолго, но бен Измаил так устал, словно тяжело потрудился физически. Он рвался в свою Лидду. В Ямнию он, наверное, уже никогда не вернется. Он выйдет из состава коллегии без ненависти, но утомленный многими ненужными речами, в Лидде он будет продолжать работать над учением, не полемизируя с богословами, без учеников, для себя, для Ханны, для своего друга Ахера.
Когда он и его друзья уже собрались уходить, доктор Симон, по прозванию Ткач, еще раз взял слово. Бен Измаил, заявил он, промолчал и воздержался от голосования. Как он, Симон, ни уважает такую кротость, все же в наши дни необходимо избегать даже видимости того, что член коллегии сочувствует богохульникам, на которых коллегия решила призвать проклятие божие. Если бы такой ученый человек, как бен Измаил, был заподозрен в сочувствии минеям, это сильно подорвало бы авторитет Ягве. Нужно прежде всего показать миллионам иудеев за границей, что в Ямнии проповедуется только одно учение. Он очень сожалеет о том, что бен Измаил промолчал, и просит коллегию найти способ загладить подобный промах.
Наступило смущенное молчание. Затем встал доктор Хелбо. И опять-таки именно он предложил выход. Ягве, заявил он, наделил бен Измаила, больше, чем других членов коллегии, даром слова, и его молитвы обладают особенной глубиной и горячностью. Поэтому следовало бы возложить на бен Измаила редактирование нового моления. Если он отредактирует его, то можно быть уверенным, что он найдет настоящие слова и, кроме того, весь мир получит документальное доказательство единодушия Ямнии и единства учения.
Хелбо говорил довольно долго. Во время его речи бен Измаил смотрел прямо перед собой, его бледное лицо словно окаменело. Только уже под конец он поднял глаза, но смотрел не на оратора, а на своего зятя, верховного богослова. Долго сидели они друг против друга, в их глазах не было угрозы, эти глаза скорей наблюдали и настойчиво вопрошали. Когда бен Измаил понял, куда клонит Хелбо, его вдруг охватило ледяное спокойствие, но в этом ледяном спокойствии вихрем проносились мысли. Он не сомневался, что последнее предложение Хелбо согласовано с верховным богословом. Однако он не испытывал, как вчера, смешанной с презрением ненависти. Козел, которого посылали в пустыню, чтобы освободиться от грехов, не освободил людей, и Иисус минеев, пожелавший быть этим козлом, быть агнцем, взявшим на себя грехи мира, тоже не освободил их, ибо почему же тогда возложил Ягве на него то, что он возложил?
Больше всех здесь присутствующих жаждет он пощадить минеев, ибо понимает всю широту и мягкость их учения. А теперь члены коллегии хотят, чтобы именно он проклял минеев и изверг их из лона еврейства.
Мучительный выбор. Ему предстоит выбрать между иудейским духом и иудейской церковью, а он понимает, что иудейский дух без этой церкви невозможен.
Он отлично знает, на чем построена вся аргументация Гамалиила: мы вынуждены пожертвовать частью истины, чтобы не пожертвовать всей истиной. Однако останется ли истина истиной, если мы отречемся от ее части? Но в одном Гамалиил прав: может ли истина сохраниться, если нет ничего, в чем бы она воплощалась?
Медленно поднимает он руку, проводит ею, все еще не спуская глаз с Гамалиила, по лысому лбу. Машинально дергает брови, разглаживая их. Дьявольски ловко придумали они это, Гамалиил и его товарищи! Если он выполнит их требование, если проклянет тех, кому желает добра, то минеи справедливо обвинят его в том, что именно он отлучил их. Если же он этого не сделает, то его отлучат другие и будут правы, ибо тогда римляне найдут новый повод для недоверия к учению и для преследований. Сделает он это или не сделает – в Израиле все равно опять произойдет раскол.
Он все еще сидит совершенно безмолвно, этот статный человек. Но его гнетет чудовищное бремя, как тогда, в день очищения, когда он после странствия, с посохом, котомкой и сумой всходил по лестницам учебного зала, испытывая безмерную тяжесть и усталость, неукротимое желание больше ни о чем не думать, упасть, забыться в обмороке. Но, как и тогда, знает он и сегодня, что не смеет дать волю своему желанию, что должен сидеть здесь, дослушать противника до конца, ответить.
Доктор Хелбо умолк. Все смотрят на бен Измаила. После бесконечного молчания Гамалиил заявляет:
– Прошу доктора и господина бен Измаила высказаться.
Бен Измаил не встает, он спокоен, по его виду не скажешь, что он не в силах встать. Но его крупная голова с лысым лбом необычайно бледна, и его глубокий голос звучит глухо и хрипло, когда он наконец отвечает:
– Я составлю это моление.
Иосиф, озлобленный до самых глубин своего существа той грубостью, с какой коллегия принудила бен Измаила предать свое дело, пошел к верховному богослову. Он испытывал жгучее раскаяние, что не поднял в Кесарии вопроса об университете в Лидде. Он решил высказать Гамалиилу все, что думает об его методах, и швырнуть ему в лицо предложенную должность. Ему претила такая политика.
Верховный богослов ни единым словом не прервал его бурной обвинительной речи.
– Вы так молоды и так пылки, – сказал он, когда Иосиф кончил, и в его голосе звучала усталость, ирония, зависть.
– Вы заявили мне, – мрачно продолжал настаивать Иосиф, – здесь, в этой самой комнате, заявили вы мне, что не тронете минеев, если они не тронут устава ритуалов.
– Они тронули его, – возразил верховный богослов. – Мне достоверно известно, что в Антиохии, в Коринфе и в Риме они, согласно учению некоего Савла, или Павла [132]132
Апостол язычников, кроме «языческого» (римского) имени «Павел», имел и еврейское – Савл (Саул).
[Закрыть], утверждают, что обрезание обязательно только для тех, кто родился евреем, но не для язычников, обращенных в их веру.
Иосиф вспомнил слова Иакова-чудотворца.
– Даже если некоторые проповедники этому и учат, – возразил он неуверенно, – то разве это не временная мера, чтобы обойти запрет римлян?
– Для меня это слишком минейская точка зрения, – резко возразил верховный богослов, и его вежливое лицо стало жестким, римским. – Я не могу допустить, чтобы мотивами можно было изменить самый факт. Я не могу согласиться с тем, чтобы принятый в общину Израиля оставался необрезанным. Секта, допускающая к себе необрезанных, не может быть терпима в нашей среде. Подумайте трезво, доктор Иосиф, – убеждал он его. – Признание подобной точки зрения равносильно упразднению иудаизма. В настоящее время мы добились того, что устав ритуалов связывает даже заграничных евреев между собою так же тесно, как некогда их связывал храм. Они взирают теперь на Ямнию еще более неотступно, чем некогда смотрели на Иерусалим. Если я дам ритуалам поколебаться, то вся спайка рухнет, рухнет все. – И, приблизившись к нему, доверчиво, хитро, таинственно прибавил: – Я иду дальше. То, что римляне запретили обрезание, кажется мне знаком Ягве. Он больше не хочет принимать язычников в свой союз с нами. Он хочет сначала, чтобы мы укрепились в самих себе. Он на время закрыл список.
Иосиф мрачно продолжал повторять ему свои прежние возражения:
– Но что же останется от универсализма вероучения, если вы лишаете язычников возможности приобщаться к Ягве?
– Я должен, – возразил верховный богослов, – поставить на карту либо универсализм иудеев, либо их бытие. Неужели я вправе ради части идеи рисковать всей идеей? Я предпочитаю на время сузить иудаизм до национализма, но не дать ему вовсе исчезнуть из мира. Я должен пронести единство иудеев через ближайшие тридцать лет, самые опасные с тех пор, как Ягве заключил союз с Авраамом. Когда опасность минет, дух иудаизма может снова выявиться как дух вненациональный.
– А разве было необходимо, – с горечью спросил через минуту Иосиф, – унизить бен Измаила во второй раз, да еще так жестоко? Вы же знаете, что от подобного удара человек не оправится.
– Знаю, – согласился Гамалиил, – я не мог пощадить его. Раз операция неизбежна, нужно, чтобы она принесла пользу. Вы знаете, какой ненавистью к прозелитизму одержим Флавий Сильва. На случай, если мы совершенно явно не отмежуемся от минеев, у него, несомненно, наготове чрезвычайно суровые репрессии. В его распоряжении много способов. Он может отнять у нас привилегии, право суда, университет в Ямнии. Я вынужден нанести удар тем, кто подозревается в сочувствии минеям. Унижение бен Измаила гарантирует привилегии Ямнии.
Вероятно, Гамалиил был прав. Но Иосиф вспомнил бледное, продолговатое страдальческое лицо бен Измаила; печаль и гнев так сильно бушевали в нем, что он прижал кулаки к глазам, словно ребенок.
– Я люблю бен Измаила, – осторожно сказал через некоторое время верховный богослов. – Здесь, в этой тихой комнате, беседуя с вами, я удивляюсь, как заставил себя нанести ему смертельную обиду. Здесь я бы не смог. Гамалиил не мог бы причинить такого горя бен Измаилу, скорее он сам уехал бы из этой страны. Но Гамалиил и верховный богослов не одно и то же. Верховный богослов обязан найти в себе силу растоптать человека, если этого потребует политический разум. Я был бы преступником, если бы, желая пощадить бен Измаила, повредил интересам всего еврейства.
– У меня не хватило бы сил на такое благоразумие, – сказал уныло и с горечью Иосиф.
– Вы не хотите быть нашим представителем в Кесарии? – спросил Гамалиил, не скрывая своего разочарования.
– Я восхищаюсь последовательностью вашей политики, – возразил Иосиф, – но мне становится не по себе, когда я вспоминаю, что чуть не дал вам своего согласия.
В число восемнадцати молений, после прекрасной одиннадцатой молитвы: «Посади, как прежде, наших судей и, как некогда, князей наших», – было вставлено новое моление, начинавшееся словами: «Пусть еретики не надеются» – и кончавшееся: «Хвала тебе, Ягве, тебе, который посрамил еретиков и поразил возомнивших о себе».
Включение этого текста в ежедневную молитву имело ожидаемые последствия. Правда, многие отвратились от минеев, отреклись от новой веры и говорили «аминь», когда произносилась молитва об отлучении еретиков, веровавших в уже пришедшего мессию. Однако многие, большинство, остались верны новому вероучению. Они вышли из еврейства, решились на разрыв со своими соплеменниками. Многие эмигрировали, среди них и чудотворец Иаков из деревни Секаньи.
Последователи нового учения теперь уже решительно приступили к выполнению той миссии, которую раньше иудеи считали для себя основной: распространению веры в Ягве среди язычников. Правда, в иных минейских книгах еще попадалось старое изречение: «Не ходите по дороге язычников, не входите в города самарян, но идите только к заблудшим овцам Израиля», однако основой пропаганды стало теперь учение Савла, или Павла, утверждавшего, что благовестие Ягве и его мессии должно прежде всего служить светом и просвещением язычников. В то время как иудеи под давлением закона об обрезании все больше отказывались от пропаганды, минеи, несмотря на преследования, продолжали благовествовать о своем мессии.