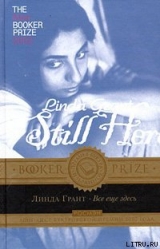
Текст книги "Все еще здесь"
Автор книги: Линда Грант
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Я выросла на самой западной кромке Европы – уже почти там, почти в Америке. Однако я все еще здесь, в моем городе. И немногие уцелевшие синагоги каким-то чудом все еще стоят на своих местах. Как и евреи из Кочина – они тоже все еще здесь.
В тот день, когда позвонил Сэм и сказал, что мама умирает, я вела подготовительную работу к следующему проекту. В отдаленной деревушке в Румынии найдена синагога с настенными росписями: с конца войны она использовалась как склад. Понимаю, что число заброшенных синагог в Европе конечно много, но всякий раз, когда в поле моего зрения появляется еще одна, я испытываю изумление и восторг, что-то сродни благоговению. Вот и еще одна выжила – как ей удалось? Я нашла деревушку на карте: она всего в нескольких милях от бывшей советской границы, к востоку от Карпат, в полудне пути от ближайшего города. Сердце у меня вздрогнуло, а потом сильно забилось, когда совсем рядом я увидела знакомое название. Кишинев! Вот с этого места на карте все и началось. Два погрома – массовые убийства, изнасилования, страшные зверства, – и тысячи евреев (среди них – и родители моего отца) снимаются с насиженных мест и бросаются на запад. И однако в этих местах, совсем рядом с Кишиневом, еще сохранилась еврейская община. Кто же уезжает, а кто остается? Кто из них делает правильный выбор, а кто – и когда – понимает, что совершил ошибку? Как может человек после семидесяти лет коммунистического правления, когда сама личность была под запретом, все еще оставаться евреем?
– Когда-то здесь были евреи, – сказал мне один человек в словацкой деревне.
– Куда же они ушли? – спросила я.
– Испарились, – ответил он. – Как роса на полях и на спинах моих овец.
– Но роса возвращается каждое утро, – ответила я резко (через переводчицу – привезенную из Праги девчушку с розовой помадой на губах и тяжелым золотым крестом на шее).
– Верно, – согласился он, – но мои поля и мои овцы всегда здесь, они не уходят и не возвращаются. Не важно, кто нами правит, не важно, есть ли нам куда идти – мы, я и моя семья, остаемся здесь.
И сейчас, ожидая маминой смерти, я всем сердцем желала вернуться в Румынию, где я знаю, кто я такая и зачем живу. Увлеченность работой помогает смириться с одиночеством. Одинокая женщина в сорок девять лет – это, сами понимаете, уже не смешно. Начинаешь всерьез опасаться, что любовь и желание для тебя навсегда остались в прошлом. Конечно, это не смертельно, но, чтобы с этим примириться, нужна большая внутренняя сила.
Мне было страшно тяжело без секса. Ни мужа, ни друга, ни любовника – вообще никого и ничего. Неудовлетворенность жгла и раздирала меня изнутри. На время я вообразила, что смогу преодолеть желание, обретя внутренний мир, победить сексуальное влечение силой воли. Тогда-то и купила деревенский домик неподалеку от Бержерака, на юге Франции. Там я приучала себя к молчанию, вела постоянную борьбу с желанием вскочить и подбежать к окну, заслышав шум проезжающего автомобиля. Часами я лежала на диване и прислушивалась к тиканью часов в тишине: напряжение сдавливало грудь, и громом отдавались в ушах мягкие шаги кошачьих лапок. Я напрягала волю, заставляя себя не заснуть от скуки, насильно вгоняла себя в транс. Но медитация продолжалась лишь несколько минут (а порой – и несколько секунд) и сменялась тяжелой дремотой, в которой мне виделись города, утопающие в жарком мареве, переполненные улицы, небоскребы со стремительными стеклянными лифтами. Когда я выходила на улицу, надо мной простиралось высокое, выцветшее, молчаливое небо. Чуть шелестела трава. Земля хранила свои тайны.
Все первое лето я пролежала в гамаке: купалась в тяжелом, головокружительном запахе сирени и лаванды, герани и подсолнухов, наслаждалась послеполуденным летним солнцем. Но на следующий год потеряла интерес к дому с белеными стенами и выцветшей зеленой краской на двери, к тропинкам, усыпанным гравием, к пруду, уже подернутому пеленой ряски, над которым неустанно вились комары. На третий год я уже вовсе не выходила в сад, а лишь смотрела из окна, как одни растения умирают и уступают место другим, еще полным бездумной энергии; забытый гамак плесневел под зимними дождями, а пленочка ряски на поверхности пруда превратилась в толстый зеленый ковер. Заброшенный сад охватила борьба за существование: воины с зеленой кровью вели здесь свои бесшумные битвы. Побеждали в них простые и упорные растения – такие, как мох.
Переезжая во Францию, я воображала, что жизнь на лоне природы научит меня одиночеству и поможет с ним примириться. Одиночеству предстояло стать моей участью до конца жизни, и я не сомневалась, что смогу овладеть искусством уединения. Но притворяться, что не нуждаешься в любви, когда на самом деле она тебе нужна, – ложь, более того, преступление. Я выросла в семье, полной любви. Сейчас, куда ни повернешься, повсюду слышишь жуткие истории о том, как обижали людей их родители. Книги на эту тему расходятся как бешеные, и каждый воображает, что самое худшее случилось именно с ним. Но наше детство – и мое и Сэма – было счастливым. Родители нас обожали. Всему свой черед под солнцем: когда-то я была молода и жадно рвалась жить, а теперь у меня морщины, три миллиона в банке и самое время обрести душевный мир в саду, под плетением вьюнков. Для меня настало время заглянуть в сердце тайны, понять, что Бог любит малых и смиренных, – а вместо этого внутри меня что-то яростно вопит: «Хочу! Хочу! Хочу!» Какая уж тут нирвана, какая уж восточная философия!
Чего я хочу? Лучшего, что есть на свете. Когда? Прямо сейчас.
Мама лежала – сперва в кресле, потом в кровати, – и грудь ее сотрясали хрипы. Мы приходили каждый день, Сэм и я, в больничную палату, где смотрели на нас со стен наши старые фотографии – осколки той счастливой поры, когда само собой разумелось, что у нас есть мать, когда мы могли себе позволить ворчать на нее, и не слушать ее наставлений, и смеяться над ее старомодными вкусами – над тяжелым узлом темно-рыжих волос и скромными юбками ниже колен. И восхищенно следить за ней, когда на чьей-нибудь свадьбе или дне рождения они с отцом кружились в медленном чинном вальсе. И вздрагивать от сострадания и смутного страха, когда, услышав по радио или по телевизору о войне, она тихо говорила: «Пожалуйста, давайте послушаем что-нибудь другое».
Мы сидели подле нее, листали книги и газеты, пили кофе. Ждали.
– Смотри! Ты видел? – Что?
– Кажется… Да нет, ничего. Показалось.
– Дышит она хуже.
– Да, совсем задыхается.
Одеяло аккуратно подоткнуто, окно закрыто, чтобы больную не беспокоил ветер с моря, на полу – ни единого пятнышка. У кровати – семейная фотография пятидесятых годов, отдых на море: Сэм обнимает меня, подражая отцу, обвившему рукой маму. Она, в купальнике, наклонилась, втирая крем в ноги, и смеется, и волосы ее развевает соленый ветер. Но в глазах ее – печаль, так хорошо знакомая нам с братом, знакомая по тем минутам, когда вдруг, без предупреждения она бросала свое дело, и застывала на месте, и из глаз ее начинали катиться слезы. «Mutter! Vater! Wobistdu?»
«Папа, что случилось с мамой?»
«А что такое?»
«Когда мы переходили улицу, я отпустила ее руку. А она накричала на меня и сказала, чтобы я всегда, всегда держалась за нее».
«А дальше что было, милая? Иди сюда, сядь ко мне на колени».
«А дальше она заплакала. Не так, как я плачу, когда упаду и расшибу коленку, – совсем тихо и без слов, одними слезами. Почему, папа?»
«Потому что мама потеряла своих отца, и мать, и брата, и очень по ним горюет».
«Где потеряла, папа?»
«Там, где очень многие потеряли своих близких».
Порой мы слышим в коридоре тяжелые шаги, а затем – осторожный стук в дверь, и на пороге появляется грузная:фигура миссис Гелфер.
– Сэм, Алике, можно мне зайти?
– Миссис Гелфер, садитесь сюда, – уступает ей место Сэм.
– Нет-нет, я на минутку, у меня еще музыкальное занятие перед обедом. Ах, бедняжка, вы только посмотрите на нее – помоги ей Боже, кожа да кости!
– Не плачьте, миссис Гелфер.
– Да как же тут не плакать? Я ведь их помню. И как можно забыть? Отец ваш был такой красавчик – вы бы только видели! Да к тому же доктор… Как он учился: все за книгами да за книгами, на улицу почти не выходил. Братья его думали, что он уедет в Америку. Сначала решено было, что в Америку поедет Айк, но у того, бедняги, ничего не вышло, и семья все надежды возложила на Саула. И – гляньте-ка, что получилось! Два года прошло, как кончилась война, – возвращается он домой и привозит с собой девицу-раскрасавицу. Все, кто ее видел, сразу сказали: вот это настоящая леди! Еще бы – жила-то она как принцесса, в доме с прислугой и все такое. Ну а дальше одно за другим: сначала ты, Сэм, родился, потом ты, Алике, и так вы и не уехали из Ливерпуля – и теперь она, куколка наша, кончается в этой богадельне. Ну ничего, все-таки дети у нее получились хорошие – ты, Сэм, прекрасный сын, и у тебя уже своих трое, тоже чудные детки, и ты, Алике, хорошая девочка… не замужем еще?
– Нет.
– И ни с кем не встречаешься?
– Нет.
– Деточка, не откладывай надолго, ты ведь с годами не молодеешь.
Я морщусь, и Сэм, заметив это, наклоняется ко мне и шепчет: «Не сердись на нее». Я киваю. Миссис Гелфер с усилием встает, и я пододвигаю к ней опорную раму. На ее расплывшемся теле – платье в цветочек, шлепанцы и шерстяные носки до колен. Иде Гелфер восемьдесят три года, ее единственный сын Саймон погиб в шестьдесят девятом, возвращаясь с рок-фестиваля на острове Уайт. Разбился на мотоцикле. Вскрытие показало, что он был под кайфом – ЛСД. Ида этого никогда не поймет, проживи она хоть двести лет. Зачем это? Ради чего? Какой-то дурацкий молодежный протест, о котором писали в газетах. Протест детей, у которых было все, против родителей, у которых в свое время ничего не было. Но ведь они как-то ухитрялись жить и быть счастливыми. Вот что самое ужасное. «Мы ведь и вправду были счастливы, – говорила мне Ида, – счастливы уже оттого, что живы, что не остались в Польше, как наша родня, даже оттого, что можем пойти в армию и бить немцев, а не сидеть и ждать, пока немцы построят нас в колонну и, как стадо, погонят на смерть…»
– Сэм, – говорит она, тяжело опираясь на свою раму, – ты ведь знаешь, я на тебя не держу зла.
– Конечно, знаю.
– Я сама во всем виновата, Сэм. Нельзя было в тот вечер выпускать Гарри на улицу. Надо было мне настоять, чтобы он остался дома. На улицах было опасно: шварцес совсем взбесились, тащили все, что плохо лежит, повсюду горели дома, и полиция не знала, как с ними справиться. А Гарри мне говорит: «Послушай, Ида, эти ребята уже повеселились прошлой ночью, а теперь сидят по домам и любуются по телевизору на свои подвиги». А я говорю: «Ладно, Гарри, как скажешь». Не хотелось мне с ним спорить, потому что по телевизору уже начиналась «Коронейшн-стрит». И он ушел, а я осталась. А потом мне позвонили из больницы. А потом был суд, и ты на суде сказал то же, что и мне говорил: «Это была самозащита, по закону каждый имеет право защищать себя». Ты прав, Сэм, я знаю, что прав. И все-таки – неужели они не видели, что перед ними старик? Неужели не понимали, что сердце у него слабое? – Она поворачивается к дверям. – Вы как-нибудь заходите ко мне, когда пойдете домой от матери.
– Обязательно зайдем, – отвечаем мы хором. Мы так ни разу к ней и не зашли – отсидев свои два часа, мы слишком спешили вырваться на свободу.
Сэм ехал обратно в город и там пешком, своей бодрой походкой, доходил до офиса – как был, в кроссовках и джинсах; в гардеробе за дверью кабинета у него висел костюм, в который Сэм переодевался, когда надо было ехать в суд или навещать клиента в тюрьме и говорить ему то же, что он изо дня в день говорил бесчисленному множеству наркоманов, проституток, карманных воришек, грабителей, пьяных хулиганов, лихачей-водил, мелких мошенников и честных граждан, арестованных по ошибке: «Ну, что у вас стряслось?» В приемной у него всегда играла музыка – не важно, нравилось это клиентам или нет. Сэм участвовал в программе «музыкального воспитания молодежи» – стремился вытеснить рэп и хип-хоп соулом, мотауном и блюзом, старыми добрыми Джеймсом Брауном, Марвином Гэем и Сэмом Куком. «Брат мой, о брат мой, сколько нас умирает молодыми!» – напевал он себе под нос, ведя «Сааб» (два года назад у него был «Меркурий») по широким улицам города, – и, должно быть, воображал хмурую ливерпульскую весну жарким летом в Детройте.
Каждый день мы с Сэмом сидели у ее постели, и каждый вечер Мэри О'Дуайер говорила нам: «Боюсь, дорогие мои, что завтра ее уже с нами не будет». Но проходила ночь, наступало утро, а мама была все еще жива. Заходил доктор Муни, ирландец из Белфаста, в вельветовых брюках и свитере с геометрическим узором, клал ей на живот квадратные ладони, прощупывал внутренние органы сквозь мучнистую бледную кожу. Из холла доносилось пение:
Выйду на Голуэй, пройдусь не спеша – Солнце садится, и жизнь хороша.
– Любимая песня сентиментальных ирландских иммигрантов, – замечает доктор Муни. – Помнится, когда я учился в медицинском, мы пели: «…Шлюхи гуляют, и жизнь хороша».
– Это поют для миссис Фридман, – объясняет Мэри О'Дуайер. – Бедная женщина. Совсем молоденькой она побывала в Аушвице и, когда наши сиделки в первый раз понесли ее в душевую, вообразила, что это газовая камера – начала, бедняжка, кричать, плакать и умолять наших девочек, чтобы они ее не убивали. С тех пор мы ее не моем, а только раз в неделю обтираем губкой в постели. Пахнет от нее, конечно, но она хотя бы не мучается. Агнес сидит с ней целыми днями и поет ей ирландские песни – это ее успокаивает.
– Я отплыл в Холихед в семьдесят третьем, и с тех пор в Ирландию не возвращался, – говорит доктор Муни, попивая кофе из фарфоровой чашки с розочками. – И евреев люблю за то, что в них ни капли кельтской крови. Вы нация прагматиков – поэтому мне и нравитесь. В вас мало романтизма, и это хорошо. Знаете, что о нас с вами сказал Шоу? Ирландцы слишком много пьют и слишком мало думают, а евреи слишком мало пьют и слишком много думают.
На кухне повариха гремит сковородками, в холле скрипит тележка, на которой развозят обеды. Кто-то захлебывается безутешным младенческим плачем, и слышится голос: «Ну успокойтесь же, Лия, сегодня невестка придет вас навестить – зачем же плакать?»
– А жена ваша тоже ирландка?
– Да, но она романтизм из себя выдавливает по капле. Она патологоанатом. Читает в людских сердцах – но не совсем так, как об этом пишут поэты.
– Могу поспорить, доктор, – говорит Мэри О'Дуайер, положив руку ему на плечо, – могу поспорить, когда вы выйдете на пенсию, то вернетесь в Ирландию.
– Ни за что. Моя жена без ума от Флориды. Ей нравится жара и пальмы.
– Бог ты мой! – расширив глаза, восклицает Мэри О'Дуайер. – Я была один раз в Диснейуорлде, но и подумать не могла о том, чтобы там поселиться! Хотя в Нью-Джерси у меня есть родня, а брат мужа живет в Бостоне. А вы, мистер Ребик, были в Америке?
– Да. Мы с женой прожили там несколько месяцев, еще в семидесятых.
– Почему же вернулись?
– Не получили разрешения работать.
– А с тех пор туда ездили?
– Не-а. Уже много лет там не были. Сначала не могли себе это позволить – поженились совсем молодыми, нам едва хватало на жизнь, – потом пошли дети,
и стало не до путешествий, а теперь моей жене это уже не интересно. Ей теперь нравится кататься на лыжах. А мне нравится, когда она довольна.
– А вы, миссРебик, бывали в Америке? – спрашивает меня Мэри О'Дуайер.
– Да, много раз. Страна как страна, ничего особенного.
– Ой, скажите это нелегальным иммигрантам, которые туда рвутся! Мы их видели в Майами – прямо удивительно' Кубинцы, все говорят по-испански, иные ни слова по-английски не знают, хотя прожили в Америке уже лет двадцать. У них там свои клубы, свои рестораны, свои фильмы…
– Совсем как у нас, – говорит доктор Муни. – Как у ирландцев в Англии.
– И у нас, – добавляет Сэм.
– Я однажды едва не вышла замуж за американца, – рассказываю я. – Не скажу, что была в него влюблена – чего не было, того не было. Даже не припомню, почему, собственно, мне так загорелось за него замуж – должно быть, потому, что все подруги уже повыходили и очередь была за мной. Встретились мы на академической конференции. Он был адвокатом, занимался проблемами коренного населения Америки, очень увлекался своей работой…
– Подождите-ка. Хотите сказать, он был индеец?
– Да нет, вовсе нет. Стопроцентный ирландец – такой же, как вы. Одним словом, он переехал из Нью-Джерси в Сиэтл. В то время ни о «Майкрософте», ни о Билле Гейтсе никто и не слыхивал, и Сиэтл был страшной дырой – настоящий край света, медвежий угол, да и только. Я приехала туда – посмотреть, смогу ли с ним ужиться. Жил он в роскошном доме в Паджет-Саунде, на самом берегу моря. Вот в дом я влюбилась с первого взгляда. Помню, сидим мы на пороге, пьем, любуемся на огни судов в гавани, и я думаю: «Что ж, может, он и не Мистер Совершенство, но мы неплохо ладим, и дети у нас получатся интересные, это уж точно». Но в первые же выходные он потащил меня в поход. Под дождем. Вы не представляете, что такое дождь на Тихоокеанском побережье! Через час мы вымокли насквозь, палатка протекла, спальные мешки отсырели. Добрались мы до какого-то места, и он говорит: «Смотри!» А я думаю: «На что смотреть-то?» Вокруг сосны. Ну, сосны и сосны. И ничего больше. На редкость монотонный пейзаж. И я сказала, что выйду за него замуж, только если мы переедем в какое-нибудь цивилизованное место – скажем, в Сан-Франциско, а еще лучше в Нью-Йорк. Но он об этом и слышать не захотел. Сказал, в этих местах утерян дух подлинной Америки, Америки первопроходцев. На том и кончился наш роман.
– Вы, должно быть, много предложений получали в свое время, – замечает Мэри О'Дуайер и наливает мне еще чашку кофе.
– Да нет. Честно говоря, это было единственное.
– Зато приятелей хватало, – вставляет Сэм. – В чем, в чем, а в этом у тебя недостатка не было!
– Я могла выйти замуж и стать американкой. Стать американкой еще могу – «Роз Розен» предлагала мне работу. А вот замуж, наверно, уже не выйду.
– И правильно. Хорошая женщина и одна не пропадет. И никакие мужики ей не нужны.
– Точно, – подтверждает доктор Муни. – Теперь для женщин настали другие времена. Даже у нас, в Ирландии.
– Все мои сестры в Лимерике пьют таблетки, – добавляет МэршО'Дуайер. – Маме, конечно, не признаются – она в этих вопросах держится старых взглядов. Но духовник на исповеди не говорит им ни слова, хотя, должно быть, догадывается.
– Моя жена работает в женском медицинском центре в Бутле, – говорит Сэм. – Ведет прием по вопросам планирования семьи. Так вот она говорит, что все осталось как было.
– Удивительно, сколько ваша семья делает для Ливерпуля! – торжественно заключает Мэри О'Дуайер.
Мама не умерла ни этой ночью, ни следующей. Еще много, много дней она оставалась с нами, и мы уже начали подозревать, что смерть никогда за ней не придет. Однажды за завтраком Сэм сказал:
– Я пригласил одного парня с нами поужинать.
– Кого? – спросила Мелани, моя золовка.
– Парень из Америки. Познакомился с ним в спортзале. Хороший мужик.
– Женатый?
– Не знаю, не спрашивал.
– А обручальное кольцо есть?
– Не заметил.
– А что он здесь делает?
– Строит отель.
– Что за отель?
– Понятия не имею.
– О чем же вы разговаривали?
– О тренажерах. О том, как сбросить лишний вес. Как все воображали, что нам по двадцать лет – и вдруг оказалось, что уже совсем не двадцать, и жирок лишний накопился, и животики торчат. Потом к нему подходит инструктор, парнишка лет двадцати двух, и спрашивает: «Не хотите ли записаться на курс „Плоский живот“?» А он отвечает: «Сынок, до сих пор во мне ничего плоского не было – надеюсь, и дальше не будет!» Паренек просто обалдел, а я чуть не помер со смеху.
– Что ж, почему бы и нет? – сказала Мелани. – А что приготовить?
Сэм покосился на меня:
– Алике?
Дело в том, что кухарка из Мелани никудышная. Кухня для нее – каторга, на которой она приговорена трудиться без выходных и отпусков. Необходимость три раза в день вовремя накормить четырех человек (мужчины-то непривередливы, а вот дочери сидят каждая на своей хитрой диете) приводит ее в ужас. Духовка, противни, соусы, приправы, рецепты, явно рассчитанные на готовку в четыре руки, – все это вызывает у нее искреннее и нелицемерное отвращение.
Целый год после свадьбы Мелани рыдала всякий раз, как входила на кухню. Однажды, вернувшись с работы, Сэм застал ее в истерике: она стояла посреди кухни и заливалась слезами, сжимая в руке прорванный бумажный пакет, откуда сыпалась фасоль. Надо сказать, что сама Мелани ест очень мало: воля у нее железная, ей ничего не стоит денек поголодать, а на следующий день не брать в рот ничего, кроме фруктового сока, – «чтобы вывести шлаки». Лакомства ее не интересуют. На едуона смотрит как на топливо – и заливает в себя ровно столько, чтобы хватило для бесперебойной работы. Сэм обнял ее и сказал, что к плите больше и близко не подпустит, что согласен до конца жизни питаться сырым мясом, сырыми яйцами, бутербродами, фруктами и прочими продуктами, не требующими приготовления, – лишь бы его Мелани была счастлива. Но она мужественно боролась с собой – и за тридцать лет семейной жизни освоила варку картошки, жарку яичницы и даже однажды приготовила у нас на глазах (по рецепту) салат «Цезарь».
– Знаете что, – сказала я, – если не возражаете, готовить буду я.
А чем еще заниматься во Франции? Каждое божье утро отправляться в ближайший городок под названием Лаленд и бродить из магазина в магазин, закупая хлеб, бриоши, баранину, помидоры, рокфор, клубнику, шоколад, мерло… Там я в первый раз поняла, что и в прозаическом хождении за покупками есть своя поэзия. Во Франции любой товар подается как произведение искусства – да и сама жизнь во Франции, кажется, есть своего рода искусство. Спаржа в связках, серебристый блеск макрели, клубника, пухлая и алая, словно ротик младенца, крепкие лимоны, чуть тронутые зеленью, запах приправ, лаванды, розмарина и кервеля под голубым июньским небом – все обостряет чувства, заставляет с особой силой ощутить, что живешь. За кофе встречаешься с новыми друзьями – и что обсуждаешь? Рецепты, разумеется. Там-то я и научилась готовить. Меня звали в гости, я приглашала друзей в ответ и сооружала праздничные блюда по своему разумению, а они хвалили и спрашивали рецепты. Искренне ли – кто знает? Но поварское искусство увлекло меня всерьез – увлекло, должно быть, своей бесцельностью: трудишься-трудишься, выбиваешься из сил, исходишь потом только для того, чтобы кто-нибудь (возможно, ты сама) пришел и съел созданный тобой шедевр. И не оставил ничего, кроме грязной посуды.
Так или иначе, мы нашли занятие, которое позволило бы нам отвлечься от тягостного ожидания. Я согласилась приготовить ужин для незнакомого американца по имени Джозеф Шилдс.
Но после обеда, когда я укладывала в холодильник свежезакупленных цыплят, лимоны и шоколад, а Сэм нянчил бутылочку «Медок», привезенную мною из Франции, позвонил доктор Муни. Сэм снял трубку и услышал: «Послушайте, не пора ли положить всему этому конец?»
– Вы хотите знать, – уточнил Сэм, – не собираемся ли мы попросить вас убить нашу мать?
– Я ведь думал об этом, – признался он мне потом, после того, как рявкнул: «Знаете что? Идите вы к черту!» – и бросил трубку. – Да, это выход. Но для меня этот выход закрыт. Напрочь. Как древние заржавелые ворота.
– А ты не пробовал их открыть?
– Пробовал. Не поддаются.
Мы поехали в дом престарелых, сели у маминой кровати и долго смотрели на нее.
– В чем-то он прав, – проговорил наконец Сэм, глядя, как мучительно вздымается и опадает под тонким одеялом иссохшая мамина грудь. – Это не жизнь.
– А что же это, Сэм? – повернулась к нему я.
Но мой старший брат – адвокат, знающий все на свете, – не знал, какое слово подобрать для медленного умирания нашей матери. Не знала и я.
– Не понимаю, зачем продлевать ее мучения? – заметил доктор Муни, которого вызвала сестра О'Дуайер. Вызвала, судя по всему, из-за стола, и, входя в палату, он утирал губы голубым носовым платком.
– А вам-то что? – взвился Сэм. – Палат не хватает? Какой-то старой карге срочно требуется кровать? Или боитесь, что нам надоест вносить пожертвования?
– Или вы не можете больше смотреть ей в лицо? – подхватила я. – Так вот, мы – можем. И если вы считаете, что у меня другого дела нет, как только сидеть над умирающей матерью, вы правы. У меня, черт побери, других дел нет. И я, черт побери, буду сидеть здесь с ней, пока ад не замерзнет!
– Мисс Ребик, прошу вас, подумайте на минуточку о ней. Может быть, ей плохо, может быть, ей больно – а сказать об этом она не может. Она не может глотать, уже несколько недель она не ела нормальной пищи; она истощена и, если так будет продолжаться, может просто умереть от голода. Самое большее, что нам удается, – влить в нее немного воды. Так или иначе, она умрет: все, что мы можем, – подарить ей быструю и безболезненную смерть. В сущности, она уже мертва – давно была бы мертва, если бы не современные антибиотики. Послушайте, как она хрипит. Это бронхит, а за бронхитом придет пневмония. Хотите, чтобы она еще и это испытала? Если сейчас я дам ей морфин, это облегчит ее страдания; но она так слаба, что не переживет ночь. Поверьте, мне случалось видеть смерть, случалось видеть убийство. Я чту жизнь, и если женщина придет ко мне и попросит сделать ей аборт, я посоветую ей обратиться к кому-нибудь другому. (Не сочтите за неуважение к вашему отцу, – поспешно добавляет он, – он был прекрасный человек и, по всем отзывам, врач замечательный, хотя, к сожалению, сам я не успел его узнать как следует.) Так вот: ваша мать безнадежна, понимаете? Без-на-деж-на. Не думайте, что в один прекрасный день, как в старых фильмах, войдет доктор с эликсиром в бутылочке и скажет: «Ура, я изобрел лекарство». Она на смертном одре. Так, ради бога, не мучайте ее, дайте ей спокойно уйти в мир иной.
– Зачем? – спрашиваю я сквозь слезы. – Вы думаете, ее там кто-нибудь ждет?
– Лично я думаю – да. Во что верила ваша мать – не знаю. Но, поймите, никто из нас не бессмертен. Когда жизнь окончена, должна наступить смерть. Это закон природы.
– Вы еще будете мне говорить о законах? – ворчит Сэм. Но ворчит .скорее по инерции, словно не в силах допустить, чтобы последнее слово осталось за противником.
– Думаю, вам надо пойти домой и хорошенько все обдумать, – замечает Мэри О'Дуайер. – Утро вечера мудренее.
Мы встаем и пожимаем доктору руку, и Сэм извиняется за нас обоих, за нашу суровость. Перед уходом Муни ободряюще сжимает мое плечо, и мне становится чуть легче. А потом он уходит домой, к жене.
Сэм живет в новой квартире, в районе доков. Мы входим в пустой гулкий холл, поднимаемся на лифте, Сэм поворачивает ключ в замке, и мы попадаем в футуристическую обстановку – некрашеные кирпичные стены, стальные колонны, поддерживающие потолок, стулья, на которые смотреть приятно, а вот садиться страшновато.
– Сэм, – спросила я, когда все это увидела в первый раз, – скажи честно, сколько ты заплатил за такую вот изысканную простоту?
– Целое состояние.
Окна от пола до потолка выходят на реку. Сквозь серые низкие тучи пробивается и озаряет воду тусклый свет. Перекрывая низкий рокот судовых моторов, знакомо кричат чайки.
– Знаешь, почему мне сейчас особенно тяжело? – говорит Сэм.
– Почему?
– Всю жизнь я был защитником, а теперь должен стать судьей. Выслушать мнения сторон и решить, кто прав. Это задача не для меня. А ты что думаешь, Алике? Ты ведь у нас эксперт по убийствам.
Верно, я кое-что знаю о смерти – годы учения не прошли даром. Мы садимся за стол: я смотрю на свои ногти, покрытые ярко-красным лаком, перевожу взгляд на обкусанные ногти Сэма. Кусочки мертвой плоти, вросшей в плоть живую. Кровеносные сосуды – кабели, по которым течет электричество жизни.
– Давай спросим себя, что бы сделал в такой ситуации папа. Думаю, он вспомнил бы о цдака. А это понятие включает в себя и справедливость, и милосердие. Спросим себя: то, что мы собираемся сделать, – это справедливо? Это милосердно?
– Понятия не имею. Давай сперва разберемся с законностью. Думаю, Муни не стал бы предлагать, будь это незаконно. Должно быть, они часто так делают.
– Это эвтаназия?
– Не знаю, черт возьми, как это называется, и знать не хочу. Это не убийство – в сущности, Муни прав, она уже мертва: просто теперь мы можем назначить день, когда она…
– Господи, хоть раз в жизни прекратите болтать! – слышится вдруг голос Мелани. А я и не заметила, что она здесь – стоит в дверях, и ее хрупкая фигурка содрогается от гнева. – Говорить здесь не о чем. Спорами-разговорами делу не поможешь. Лотта страдает, вы должны прекратить ее страдания – вот и все. Мне в Бутле многие пациентки говорили: «Миссис Ребик, ваш покойный свекор помог отойти в мир иной моему отцу», или матери, или кому-нибудь там еще. Ваш отец так поступал и не стыдился – что вам еще нужно?!
На реку опускается тьма. В незанавешенных окнах сияют огни Биркенхеда, лежат в темной воде глубокие тени судов. Все вокруг умирает, жители Ливерпуля откочевывают на юг; пройдет несколько лет – и район доков, и пристань, и почернелые склады на побережье, и подъемные краны, и пирс, и два собора, огромные и неуклюжие, словно неповоротливые звериные туши, станут призраками мертвого города.
В моей истории нет места волшебству. Не будет ни ангелов, порхающих над могилой, ни единорогов, ни русалок, ни привидений, ни демонов, ни фей, ни волшебников, ни колдунов – вообще никакого духовного мира. Здесь, в порту и на реке, действуют только железные законы приливов и отливов.
Мы проговорили всю ночь напролет – о мире и о мировом зле, о прошлом, о детстве, о родителях и о том, как они – каждый по-своему – нас любили.
– Помнишь, как мама пришла на родительское собрание в соломенной шляпке?
– Из черно-белой соломки. Ага, помню.
– И с черно-белыми бусами на шее.
– Ты на нее долго злился, верно?
– И до сих пор злюсь! Еще бы – друзья мне после этого проходу не давали!
– А помнишь, как в Эйнсдейле ты спихнул меня с дюны?
– Сама виновата – нечего было швырять в меня песком.
– Я кубарем скатилась с самой вершины. Когда приземлилась, у меня рот был полон песку. Мама завизжала от страха, а папа рассмеялся и сказал:«Не сахарная, не растает!» Но она до самого вечера глаз с меня не спускала.
– Да, ты всегда была маминой дочкой.
Как мама может умереть? Она всегда с нами: самая красивая, самая добрая, лучшая мама на свете. Мама после обеда ложится вздремнуть, задернув занавески, пока ее не разбудит пароходный сигнал или гудок приближающегося поезда на Грассендейл. Мама склоняется над поваренной книгой Робера Карье: «Сегодня на ужин у нас будет эльзасский луковый пирог – иди сюда, Алике, посмотри, вот он на картинке». Мама в зоопарке перед клеткой зебры: «Смотри, Сэм, какая полосатая лошадка! Видишь, она кушает». Мама ведет бухгалтерию: «Саул, в апреле мы продали на четырнадцать процентов больше крема, чем в марте. И это еще не все: я получила заказ из-за границы!








