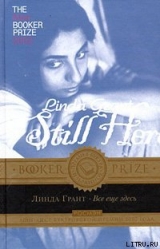
Текст книги "Все еще здесь"
Автор книги: Линда Грант
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Алике
«Людей, которые могут создать что-то фантастическое, а вместо этого сидят и охраняют какую-то старую рухлядь, надо к стенке ставить!» – сказал он. И я поняла: этот человек мне под стать.
В первую встречу с Джозефом Шилдсом, на поминках, я ничего особенного в нем не заметила. Плотный, примерно моего роста, может, чуть повыше. При ходьбе размахивает руками, словно марширует; руки у него, пожалуй, длинноваты. Курчавые жесткие волосы цвета ржавчины – он из рыжих евреев, как царь Давид, – уже поредели и подернулись сединой на висках. На веснушчатом запястье – часы «Омега»: хорошие часы, но не шикарные, не такие, как «Ролекс» или «Патек Филипп»; значит, не любит шиковать и швырять деньги на ветер. Вот жена его, возможно, другое дело. На больших ногах – кожаные ботинки без каблуков и с кисточками; у американцев такие называются мокасинами. Лицо в веснушках, глаза карие. Пухлые подвижные еврейские губы над безупречными сверкающими зубами. Единственная моя к нему претензия – волосы в носу. Вот этого не терплю. Да, люблю мужественных мужчин, но «волосатый, могучий и вонючий» – не мой тип. Вообще его не назовешь красивым, на кинозвезду вроде Джорджа Клуни совсем не похож. Пожалуй, есть немного от Майкла Дугласа (только без выдвинутой челюсти), и еще больше – от Уолтера Маттау. Словом, я увидела перед собой типичного американца средних лет и среднего класса, со всеми признаками процветания, присущими его возрасту и положению; но на ужин он пришел в джинсах, тенниске и кожаном пиджаке, совсем как Сэм, и этим обозначил в себе человека одного с нами поколения; он такое же дитя шестидесятых и семидесятых, как и мы.
Я дожила до сорока девяти, так и не побывав замужем. Возможности были (один раз – с тем американским любителем природы – я совсем было подошла к роковой черте, но в последний момент, испугавшись, дала задний ход); было трое постоянных партнеров, причем с одним я прожила целых пять лет; вообще до сорока лет в мужчинах у меня недостатка не было, и секс по первому требованию я, ветеранша сексуальной революции, рассматривала как свое Богом данное право. Что же случилось? Почему сейчас я одна?
Неожиданное явление Джозефа Шилдса вновь направило мои мысли по этому руслу. В тот же вечер, чистя зубы в ванной (зубы у меня, увы, далеко не столь безупречны – еще одно различие между Англией и Америкой), я думала: вот с кем, черт возьми, мне надо было встретиться лет пятнадцать назад, вот за кого выйти замуж! Теперь понимаю, в чем моя ошибка. Предыдущих приятелей я, сама того не осознавая, выбирала по контрасту с отцом и братом: меня тянуло к воплощениям мужественности, суровым, сдержанным и молчаливым. Если дома все вокруг болтают так, что тебе не удается и слова вставить, поневоле ощутишь вкус к тишине! Вот почему я искала и находила себе мужчин, озабоченных сохранением кислорода и не расположенных тратить воздух на болтовню. Однако такие увлечения преходящи, и через несколько недель общения с бойфрендом, на любой вопрос отвечающим односложными репликами, мне хотелось завизжать: «Да поговори же со мной! Бога ради, скажи хоть что-нибудь!»
Бывали, конечно, проблемы и посерьезнее – до моего возраста без огорчений и разочарований не доберешься. Порой я делала неверный выбор; однажды сделала выбор просто ужасный: связалась с человеком, неспособным любить… Ладно, не стоит об этом.
Расцвет моей карьеры пришелся на сорок лет: к этому времени, после многолетних копаний в библиотеках мира, я наконец-то начала чувствовать себя как дома в Праге, Дубровнике, Кракове, Сан-Диего, Сиднее, Дели, Иерусалиме и прочих городах, где проводятся международные конференции. Собирались уже и первые тучи на горизонте; кое-кто неодобрительно косился на коллегу, запятнавшую свое резюме презренной журналистикой. Да-да, я пописывала для «Гардиан», одно время – и для «Нью-Йорк тайме», а кроме того, выступала на «Радио-четыре» и в «Ночных новостях». На телеэкране я смотрелась роскошно: этакая высокоинтеллектуальная тигрица, огненные волосы, ноги из ушей, бюст сногсшибательный, на губах – алая помада от «Шанель», на груди – бюстье от Лакруа, на плечах – пиджаки от Жан-Поля Го-тье. Это на телевидении, а в реальной жизни я читала лекции на социологическом факультете университета Мидлендс. Лекции о преступлениях. Нет, не совсем о том, что вы подумали. Мотивы, по которым один псих является в родную школу с автоматом, а другой оттяпывает старушке голову разделочным ножом, меня не волновали. Я беседовала со своими студентами о справедливости. Христиане призывают прощать врагов, но, спрашивала я, какой смысл прощать врага, если он даже не понимает, что поступил дурно? В наказании ради наказания мне видится что-то от садизма. Искупление – в руках Божиих, нам об этом толковать нечего. Для реабилитации достаточно освобождения на поруки. Что же остается? В чем смысл правосудия?
Интерес к преступлению и наказанию пробудился у меня в детстве. Могу точно сказать когда – в 1961 году. Мне было десять лет; мои сверстницы играли в куклы или смотрели мультики по телевизору, а мы, Ребики, каждое утро, наскоро позавтракав, чинно рассаживались за ореховым столом в гостиной, и папа, развернув газету, читал вслух очередной отчет о процессе над Эйхманом. Отец редко вспоминал о прошлом, но эта история – организатор Холокоста, много лет прятавшийся от правосудия в Аргентине, его похищение агентами Моссада, суд не в той стране, где свершались преступления, но на земле, принадлежащей жертвам его зверств, неизбежный смертный приговор в стране, во всех прочих случаях не признающей смертной казни, – все это представлялось ему грандиозной и величественной мистерией, неким эталоном справедливости. Суд над Эйхманом воспламенил наше детское воображение. Шел шестьдесят первый год, и над нашей жизнью еще нависала бесформенная тень войны; пока соседские ребятишки палили друг в друга из воображаемых винтовок и кричали: «Падай, ты убит!» – Сэм в саду под вязом зачитывал смертный приговор врагам евреев. Врагов изображала его младшая сестренка; я стояла с опущенной головой, проникшись торжественностью момента, и руки у меня были связаны прыгалками. А потом в школе, на практическом занятии «Покажи и расскажи», на которое требовалось приносить вышивки, коллекции марок, засушенные листья и прочую безобидную ерунду, белобрысая Мэрилин Шоу показала номер «Манчестер гардиан» с фотографией своей тети. Тетя Мэрилин сидела в зале суда в Иерусалиме, с блокнотом на коленях, напряженно вслушиваясь в слова свидетеля; оказалось, она – официальная стенографистка на том самом суде! Вот повезло! – думала я. Она там – пусть всего лишь секретарша, но она там, она слышит и записывает каждое его лживое, подлое, ядовитое слово. И показания свидетелей, разоблачающих его ложь. Тем же вечером, лежа в постели под фотографиями балетных звезд (в то время я мечтала стать балериной), я черкала в блокноте, купленном специально для этой цели, закорючки собственного изобретения – на случай, если и мне придется стенографировать историю. Под томным взглядом Марго Фонтейн в белоснежной балетной пачке десятилетняя Алике молила Бога, чтобы тот послал ей нациста. Господи, пожалуйста, хоть одного фашиста оставь для меня!
Годы спустя я пришла к мысли, что преступление – яд. Оно отравляет мир, и суд и наказание есть попытка вернуть мир в прежнее состояние, компенсировать моральный ущерб, причиненный ему преступлением. В этом, казалось мне, и состоит основная цель правосудия. Что же касается самого судебного процесса, у него две цели: во-первых, сделать явными для каждого скрытые страдания жертвы, во-вторых, исследовать на практике природу добра и зла. Суд – очистительный ритуал для жизни, запятнанной преступлением; значит, он должен быть как можно более открытым и гласным. Мне хотелось бы, чтобы судебные процессы показывали по телевизору, а роль присяжного каждый исполнял в обязательном порядке, хотя бы раз или два в жизни. Пусть каждый из нас своими руками очищает запятнанный мир.
Из-за этой-то концепции у меня и начались неприятности в университете. Точнее сказать, из-за нее мои неприятности закончились. Начались они намного раньше истории с Мирой Хиндли; когда одна девушка сдала мне работу, где сравнивала экспорт живых телят на Континент для убоя с перевозкой евреев, которых, как известно, тоже везли через Европу в вагонах для скота. С одной разницей, сказала я: евреи знали, что их ждет, а телята не знают. «Но мы же не знаем, что думают телята!» – ответила она. Увы, я не создана для преподавания: работа с молодежью требует бесконечного терпения и безграничной снисходительности к человеческой глупости.
Того, что я говорила о справедливости, эти ребята в упор не понимали. У них в голове было одно прощение да искупление, и слезливую чепуху Миры Хиндли они принимали за чистую монету. Однажды я распечатала им абзац из книги, раздала и сказала: «Прочтите. Это написал один раввин, Лео Байек, главный раввин Берлина. В 1942 году его отправили в Терезиенштадтское гетто, где у него было время поразмыслить над сказанным».
Как существует поиск виновного, так должен существовать и поиск невинного, заслуживающего помощи в нуждах своих. Рука, отмеряющая суд и кару, должна быть и рукой, дающей пропитание, – только тогда справедливость становится совершенной. Рука, дающая пропитание, должна быть и рукой, отмеряющей суд и кару, – только тогда совершенство становится полным. Благосклонность к невинным и суровость к виновным вместе составляют праведность.
С телеэкрана дважды в неделю такие проповеди звучали блестяще: произносил-то их не какой-нибудь замшелый богослов в белом воротничке, а роскошная и сексапильная дама-криминолог. Но преподавание все сильнее меня раздражало и однажды, когда я не сумела сдержать свой бурный темперамент, окончилось позорным изгнанием из университета «за словесное оскорбление учащейся». Скандал был жуткий, о моем проступке даже национальные газеты писали. А все из-за детоубийцы Миры Хиндли, которую одна юная идиотка в своей курсовой выставила героиней феминизма.
До этого рубежа я была вполне довольна жизнью. Ездила в университет три раза в неделю, а все остальное время принадлежала самой себе: писала доклады для конференций, ходила на вечеринки, общалась с интересными людьми, путешествовала, училась плавать с аквалангом в Красном море вместе с Маршей Гуд, с которой мы когда-то учились на одном курсе и снимали одну квартиру на двоих. Несколько раз съездила в Москву (я тогда изучала процессы тридцатых годов – как пример наказания без преступления), завела там одновременно два романа; а потом мне однажды не возобновили визу – побоялись, наверное, что я совсем уж развращу пролетарскую общественность.
В те дни я снимала квартиру в Суисс-Коттедж. Энергия моя не имела пределов. Порой я просто не могла усидеть дома и с утра отправлялась бродить по улицам: через Примроуз-Хилл, вниз по Бейкер-стрит и дальше – Гайд-парк, Грин-парк, Сент-Джеймс-парк, сады Кенсингтон. Ленты тротуаров. Стук каблуков по асфальту. Чай из бумажного стаканчика на скамейке. Парки, одетые зеленью, разноцветье улиц. О, Лондон! Как же я тогда была счастлива!
Приезжает мама; мы пьем кофе, и в воздухе смешиваются запахи наших духов. Рука об руку – по Бонд-стрит.
– Скажи мне, милая, какую длину носят в этом году?
– Мама, не все ли тебе равно? К чему следовать за модой? Носи то, что тебе нравится.
В витрине – алое платье с вырезом по самое не могу.
– Пожалуй, стоит примерить. Нет-нет, милая, не мне – это платье для тебя. Я для него слишком миниатюрна.
Изумрудное ожерелье на черном бархате.
– Боже мой! Должно быть, стоит целое состояние.
– Давай зайдем и померяем. Просто померяем, покупать не будем.
Куда исчезла жена провинциального доктора – перед ювелиром в «Эспри» стоит императрица!
– Покажите, пожалуйста, это… теперь это… Знаешь, дорогая, мой бизнес в последнее время приносит неплохую прибыль. Хочешь, подарю тебе бриллиантовое ожерелье?
– Мама, ты же знаешь, бриллианты не в моем стиле.
– Подожди, милая, вот какой-нибудь мужчина подарит тебе кольцо с бриллиантом – посмотрим, что ты тогда запоешь!
Алое платье. Черное кожаное пальто. Черные сапожки на шпильках. Черные замшевые перчатки.
– Милая, ты у меня настоящая красавица. Впрочем, что я тебе говорю – сама знаешь!
Обед в «Фортнеме и Мейсоне». После обеда мама возвращается в отель.
– Нет, Алике, извини, но у тебя я не останусь. Не хочу покидать Вест-Энд. Слишком много дурных воспоминаний связано у меня с этим городом.
Вечером идем в театр. «Кошки». Я целую ее на прощание, оставляя на припудренной щеке след губной помады; она склоняет голову мне на плечо:
– Боже мой, какая же ты высокая!
А потом – ключ в сумочке, через реку на такси, дверь открывается мне навстречу:
– Что это на тебе? Давай снимем!
Шорох молнии. Алое платье падает на пол. Грудь в сиреневых кружевах, влажные трусики; жадные мужские губы пьют сок моих жадных губ.
Я была типичной «женщиной в большом городе» – из тех, что вполне довольны своей работой, всегда одеты по моде, не имеют ни времени, ни сил на хобби и должны следить за собой, чтобы, во-первых, не впасть в бессмысленное и разрушительное потака-ние своим прихотям, а во-вторых, каким-нибудь неосторожным словом не нажить себе врагов.
На самом пике славы меня попросил об интервью журнал «Вог». Потому что я хорошо выглядела, потому что выступала по телевизору, наконец, потому что они, к большому своему удивлению, выяснили, что эта высокомерная и надменная моралистка – дочь женщины, создавшей тот самый замечательный очищающий крем с прелестным названием («"Крем Лотта" – ах, какая прелесть!»), которым пользуются все, от студенток до кинозвезд. Почему я согласилась? Черт возьми, сказала я себе, почему бы и нет? Хотя многие меня отговаривали. «Ты прекрасно понимаешь, что такое женский журнал, – сказала мне Марша Гуд. – Сама не заметишь, как начнешь вещать банальности. В лучшем случае произведешь впечатление пустоголовой дурехи, в худшем – изобразишь криминологию занятием для идиотов и перессоришься со всей вашей ученой братией». Но я была упрямой и самовлюбленной и к добрым советам не прислушивалась – а зря.
В журнале мне пообещали прислать на дом визажиста – одного этого хватило, чтобы меня соблазнить. Пока визажистка колдовала над моим лицом, я излагала журналистке свою теорию шопинга. Существуют четыре типа покупок, говорила я. Первый – покупка продуктов и всяких повседневных мелочей: необходимое, но скучное дело, не доставляющее ровно никакого удовольствия. Второй – покупка таких вещей, какие приобретаются не каждый день, например постельного белья, полотенец или даже микроволновой печи. Такие покупки уже доставляют удовольствие. Ты тщательно выбираешь новую вещь, надеешься, что она прослужит долго. Чувствуешь, что обновила дом, что и в тебе самой появилось что-то новое. Третья разновидность ужасна: это покупка любых предметов, имеющих колеса, экран или клавиатуру. Такие покупки я всегда стараюсь сваливать на мужчин, потому что для меня это сущий кошмар; мучаюсь-мучаюсь, а едва выхожу из магазина, выясняется, что я все перепутала и купила какую-то дрянь. Наконец, четвертый тип, обожаемый женщинами и ненавидимый мужчинами, – это покупки бескорыстные, совершаемые просто потому, что так захотелось. Предположим, ты увидела на витрине замшевые сапожки, и тебе просто загорелось купить такие же. Для начала обходишь все обувные магазины на Бонд-стрит и Бромптон-роуд, смотришь, прицениваешься, может быть, даже меряешь пару или две. Вернувшись из этого похода домой, открываешь гардероб и в задумчивости созерцаешь свою одежду. Если мужчина в этот момент спросит тебя, чем это ты занята, ты ответишь: «Думаю». – «О чем думаешь?» – «Подойдут ли замшевые сапожки вот к этим брюкам». На следующий день отправляешься во второй поход: теперь выбираешь два-три магазина и занимаешься своим делом на совесть – в каждом меряешь по двадцать-тридцать пар, пока наконец весь магазин, включая других покупателей, не собирается вокруг тебя и не начинает давать советы. Домой ты летишь, как на крыльях, бережно держа перед собой пакет с эмблемой магазина, в котором скрыта заветная коробка; надеваешь сапожки и начинаешь вышагивать в них перед мужчиной взад-вперед. «Ну как?» – гордо спрашиваешь ты. А он отвечает: «Гм… а они воды не боятся?» И, если бы эти сапоги не были тебе так дороги, ты бы непременно запустила ими в этого дуралея – потому что при чем тут какая-то там вода?
Так вот, эти мои рассуждения и составили костяк статьи в «Вог». А от преступления и наказания почти ничего не осталось. Марша оказалась права: мою репутацию это интервью, мягко говоря, не улучшило.
Меня и так считали узколобой и отсталой – в век постмодернизма абсолютные ценности не в моде; а тут еще выяснилось, что я – просто пустоголовая вертушка, все свободное время бегающая по магазинам! Марша не ошиблась: я на всех парах неслась к катастрофе. И катастрофа разразилась шесть месяцев спустя, в кабинете декана, куда явилась с жалобой на меня рыжеволосая девица в бескомпромиссных армейских штанах и тяжеленных «Мартинсах», а с ней – четыре подружки для моральной поддержки. Эта девица получила двойку за курсовую (и не просто двойку – из беседы с деканом выяснилось, что мои замечания на полях «подорвали ее самооценку»). Все пятеро свято верили в прощение, искупление и милость к падшим и горели праведным гневом на отсталую преподавательницу, не желающую понимать таких простых вещей.
– Поймите же, – говорила я им, – эта женщина – психопатка. Это не ругательство – это термин, точно описывающий ее психическое состояние. У нее мозги устроены не так, как у нормальных людей. Она не способна к состраданию – под состраданием я понимаю не сентиментальную слезливость, а простую способность поставить себя на место другого. Она ничего, кроме себя, не видит, не замечает и ничем, кроме себя, не интересуется. И когда она говорит: «Я знаю, Бог меня простил!» – это значит только одно: она сама себя простила. Видимо, смутно поняла, что все-таки что-то сделала не так, но тут же себя за это простила. В самом деле, что значит какой-то убитый ребенок по сравнению с душевным спокойствием Миры Хиндли?
– Все это одна болтовня, – мрачно заявила девица в армейских штанах. – Вы просто играете словами.
Я остолбенела.
– Да чем же мне еще играть, идиотка ты чертова?! – заорала я.
И вылетела из университета.
Случилось так, что работу я потеряла тогда же, когда начала терять красоту. В двадцать лет в Оксфорде я дала себе слово, что никогда ни в чем не стану себе отказывать, – и слово свое сдержала. Я шла по жизни как завоевательница: пришла, увидела, победила. Помню, на втором курсе мы с Маршей сидим у себя на задворках Ботли-роуд, погибаем от холода – у нас почти не топили, и, когда все-таки начинали топить, мы прикладывали к слабо светящейся багровой спирали сигареты, чтобы их согреть, прикладывали лица, глотали тепло губами. Так вот, мы сидим, дуем себе на пальцы, потягиваем дешевое винцо по пятьдесят пенсов бутылка. На Марше вельветовые брюки и кружевная блузка, глаза у нас обеих густо подведены пахучими тенями. И я говорю:
– Я хочу жить как Анаис Нин: соблазнять мужчину, потом вставать и уходить, пока он спит. Никакой любви, никакой привязанности, никакой ревности, никаких обязательств.
Помню, как Марша возвращается из путешествия по магазинам, размахивая набитой сумкой: «Алли, иди сюда, смотри, что я купила!» Сумка из «Либерти»: в одном пакете – узкие изумрудные брючки, в другом что-то пурпурное – для меня.
Мы жили, не считая ни дней, ни мужчин. По утрам делились впечатлениями:
– Знаешь, а он очень хорош. Попробуй.
– Что, большой?
– Да уж, не маленький!
Запах мужчин оставался на простынях; мы относили простыни в прачечную и начинали сначала. Сколько их было? Десять, пятнадцать – и это только за студенческие годы. А теперь – ни одного. Как же так? Что со мной стряслось ?
Мы с Маршей Гуд (у Марши двойной подбородок и лимонно-желтые волосы, тяжелым водопадом спадающие по спине) входим в ресторан, ждем метрдотеля… Но никто на нас не смотрит. Как будто нас здесь нет. Никто не задается вопросом, что это мы здесь делаем. Не окидывает восхищенным, возмущенным или оценивающим взглядом. Люди смотрят сквозь нас, как будто мы из стекла и за нами находится что-то куда более интересное. Каждый день, глядя в зеркало, я вижу, что стала на день старше – и нет на свете кремов, способных повернуть время вспять. В первый раз я оказалась одна не по собственной воле. Я привыкла гордиться своим умением отшивать мужчин, тем, что не цепляюсь за приятелей, что в любой момент могу сказать: «А теперь я хочу остаться одна!» – и он уйдет. И вдруг однажды – в ночь с субботы на воскресенье, читая в постели биографию Альберта Шпеера, – я остро ощутила, что не хочу больше оставаться одна.
Что мое тело страждет по мужским объятиям. Начала перебирать в памяти отставных любовников, выискивая, кого бы вызвать из небытия, – и не нашла никого, кому можно позвонить. Последний раз я занималась сексом восемь месяцев назад. На конференции в Женеве. Он был женат. И тот, что перед ним, тоже был женат. С Аланом мы прожили пять лет, но я выставила его из дому, когда узнала, что он мне изменял – хоть он и клялся, что тот роман давно окончен. Ненавижу, когда меня обманывают, это так унизительно. И вдруг оказалось, что неженатых мужчин вокруг не осталось. Правда, браки у них то и дело распадаются – но только из-за интрижек, по большей части с собственными студентками. И приходится спать с женатыми и, не желая того, унижать и обманывать их жен, потому что ничего другого не остается.
Мои одинокие подруги (не думайте, я не исключение, таких целые толпы) решают эту проблему по-разному. Марша, например, полгода назад, когда мы с ней ужинали в «Николь» под многоугольными зеркалами, в каждом из которых отражалась сотня женщин, одинаково одетых в пастельный кашемир, – так вот, Марша сказала мне:
– Алике, честно говоря, я не понимаю, откуда у тебя предвзятое отношение к платному сексу. Ты смотришь на это так, как смотрели в пятидесятых. Почему? Это просто сделка, обычная платная услуга.
– Ну хорошо, предположим. Но ведь на меня и у платного любовника не встанет. Вряд ли им нравятся старухи – иначе они встречались бы с нами просто так, без денег.
– Ой, боже мой, ну откуда мне знать, как они это делают? Может, какие-то таблетки пьют или упражнения… Наверное, есть у жиголо какие-то профессиональные секреты. В любом случае это не твоя проблема. И вообще, почему ты так зациклилась на традиционном сексе? Есть же всякие способы… Попробуй барашка, очень хорош.
Я попробовала барашка – он и вправду оказался очень хорош.
– Так что ты говоришь?
– Думаю, нам надо учиться у геев. Когда разразилась эпидемия СПИДа, им пришлось как-то выкручиваться. И чего-чего они только не наизобретали! Вот ты никогда не пробовала играть в раба и госпожу? Это сейчас очень модно.
– Марша, – ответила я, – ты удивишься, но в постели я занудна и консервативна до ужаса. Оральный секс еще понимаю, но в остальном – никаких извратов. Меня даже к кровати никто никогда не привязывал.
– Так почему бы не попробовать?
– Нет, спасибо. Понимаешь, Марша, я не хочу нанимать себе платных любовников, не хочу быть ни рабыней, ни госпожой. Мне нужны свободные и равные отношения. Неужели я хочу слишком многого?
– Я смотрю, ты на старости лет в романтизм ударилась, – скорчив гримаску, заметила Марша и помахала официанту, чтобы принес счет.
Нам перестало хватать чего-то. Понятно чего – молодости. Она утекает сквозь пальцы, и ничто в мире не сможет ее заменить. Мне сорок девять. Тридцать лет назад я смотрела на старых теток с ужасом и жалостью, не подозревая, что однажды сама стану такой же.
Наверное, я в самом деле неисправимо романтична. Лежа в постели в квартире Сэма на Альберт-Док, я предаюсь своей любимой сексуальной фантазии. Глядя в потолок, вспоминаю то, что рассказывал сегодня Сэм о постройке дока: как его возводили из камня, кирпича и железа, не используя горючих материалов, как кораблестроители настилали крышу из цельных металлических листов; о том, что кирпичные своды складов поддерживают изнутри полые стальные колонны, раздваивающиеся книзу, словно перевернутые буквы Y, что в стенах дока находится прямоугольный бассейн и вода в нем с каждым приливом прибывает и убывает на полтора дюйма. Я думаю о том, что в 1845 году, когда открылся наш док, во всей Англии не было ему равных, что эта мощная громадина, серым утесом нависшая над морем, стала достойными западными воротами великой империи.
Не знаю, как выглядел Джесс Хартли, построивший этот док; но мне кажется, он вышел из-под того же пресса, что и Изембард Кингдом Брунел. Недавно я увидела его фотографию и буквально влюбилась. Сигара, цилиндр, руки в карманах, одно колено, чуть выдвинутое вперед, наконец, фон фотопортрета – огромная, свернутая кольцами якорная цепь построенного Брунелом корабля под названием «Великий Восток». Все так и дышит неукротимостью, бешеной энергией Викторианской эпохи. Какая небрежная элегантность! Какая сила и гордость в осанке, в повороте головы! Он работал по восемнадцать часов в день: строил мосты, тоннели, корабли, водонапорные башни, локомотивы – настоящие произведения искусства, способные делать по шестьдесят миль в час, – а в свободное время, если верить биографии, найденной мною на полке у Сэма, показывал фокусы, разыгрывал целые представления под музыку своего друга Феликса Мендельсона, в том числе глотал монеты; однажды монета застряла в горле, и он чуть не умер. Он не отдыхал, пока доктор не прописал ему отпуск, а вместо медового месяца отправился на открытие железной дороги Ливерпуль – Манчестер. Ростом он не вышел – всего пять футов четыре дюйма – и под цилиндром прятал обширную лысину; и все же он безумно меня возбуждает. И в Джозефе Шилдсе, ниспровергателе старины, явствую ту же брунеловскую мощь и брунеловский сверкающе-стальной напор.
Мой Иззи. Руки в карманах – вызывающе мужская поза, энергичный излом колена, сигара в сильных губах. Как я хочу ощутить в себе его викторианское орудие! Как хочу, чтобы он взял меня, быстро и грубо, прямо на этих цепях! Ни один массажист, ни один лыжный инструктор, ни один тренер по теннису не разожжет во мне такой огонь, как Иззи; в нем я чувствую равного себе. Мужчина, возводивший из камня и стали новый мир, – мне он под стать.
Не все у Иззи выходило гладко. Строительство «Великого Востока» шло трудно. Воображение Брунела унесло его далеко за пределы реальных технических мощностей середины девятнадцатого века; чертовы моторы просто не давали мощности, которая ему требовалась. Мало того – компания навязала ему помощника по фамилии Расселл. Наверное, каждому художнику хоть раз в жизни хочется убить заказчика. При постройке корабля творилось черт-те что: дурное руководство, слухи, интриги, денежные проблемы, никакого контроля за качеством; и только благодаря неистощимому упорству Иззи судно вообще вышло из верфей. Но при спуске на воду произошла катастрофа: якорная цепь – та самая, что на снимке, – сорвалась и убила нескольких человек. Скандал в прессе, публичное унижение. Иззи этого не пережил. А было-то ему всего пятьдесят три года.
Он приходит ко мне по ночам, невысокий плотный инженер с сигарой во рту, уже полтораста лет лежащий в могиле. Я снимаю с него шляпу, откладываю сигару, расстегиваю на нем сюртук, расшнуровываю ботинки, стягиваю с усталых ног узкие, по моде столетней давности, брюки. Он очень устал: засыпает, едва голова его касается подушки. И, пока он спит, я беру его член в ладонь, провожу пальцами по длинной темной вене. Не просыпаясь, он нащупывает мою грудь; я чувствую его возбуждение; вот он открывает глаза, и мы целуемся. Я ласкаю его ртом, а потом он входит в меня, яростно и резко, впиваясь зубами мне в шею; голова его лежит у меня на плече, и я вижу на лысине капельки пота. Оба мы кончаем, каждый в свой черед (он ждет меня); а потом он откидывается на подушку, сшитую через полтораста лет после его смерти, я протягиваю ему сигару и пепельницу, и он курит молча, размышляя о гудронированных дорогах, виадуках, акведуках, о моторах, которые со временем заменят лошадей; и я говорю ему: «Послушай, Иззи, хочешь знать, как построить машину, которая сможет летать?» Я рассказываю ему о домах, пронизанных проводами, о невидимых кабелях в толще стен, об электричестве, дающем нам тепло и свет, – достижениях нашего века, которых он не дождался. «Все дело в энергии, Иззи, – говорю я ему. – Мир мчится все быстрее, мы обгоняем сами себя; а теперь докажи, что энергии у тебя хватает, – возьми меня еще раз».
Я кончаю сильно и ярко, как всегда, когда мечтаю об Иззи; потом принимаю душ, одеваюсь и, поймав взглядом свое отражение в зеркале, вижу там стареющую женщину с раздавшимися бедрами и такими же, как у старухи матери, обвисшими складками кожи на руках. И думаю: кого ты обманываешь, Алике? Я и сама-то себе отвратительна – чего уж мечтать, что на меня позарится кто-то другой. Груди у меня обвисли, на них сильно проступают вены. Ареолы сморщились, вокруг сосков торчат редкие волосинки. Волосы на лобке седеют. В прошлом году месячные у меня приходили всего семь раз. Эстроген уходит из моего тела, испаряется, как вода на солнце, и я остаюсь сухой, безводной, бесплодной пустыней. Влагалище мое пересыхает, как речное русло, покинутое потоком. Кожа обвисает унылыми складками. Хватит дурачить себя: Джозеф Шилдс, привлекательный мужчина, от которого ни одна молоденькая не откажется, на меня лишний раз и не взглянет.
Некоторые мои подруги считают, что в нашем возрасте самое время принять обет целомудрия. Но как я могу остаться без секса? Я, Алике Ребик, в двадцать лет поклявшаяся, что никогда и ни в чем не стану себе отказывать?
Никогда, говорила я себе, никогда я не стану потакать ничьим желаниям, кроме своих собственных. Никогда не стану отдавать больше, чем получаю (правда, получать я собиралась изрядно). Никогда не стану умерщвлять плоть – ни воздержанием, ни модными кнутами и наручниками. «Все эти разговоры о сексе сильно преувеличены», – говорит кое-кто из моих подруг. О, только не для меня! Для меня секс всегда был высшим наслаждением. Кончала я легко и быстро, не знала проблем с оргазмом, не выискивала подходящих поз и не копалась в книжках типа «Радости секса». Все, что знаю, я изобрела сама. В двадцать один год, без всякого опыта в этой области, не зная даже слова «фелляция», вдруг спросила себя: а что почувствует член, если погрузить его в другое влажное местечко? Ему понравилось; еще больше понравилось мне. С тех пор тело мужчины стало для меня одной большой эрогенной зоной: внутренний изгиб локтя, колени, затылок (когда касаются моего затылка, я впадаю в экстаз, как будто именно на это место положил руку, создавая меня, божественный Творец – в которого я, конечно, не верю); анус, ямочка на подбородке, нежная кожа под ногтями, до которой можно добраться только языком. Но – с платным любовником?..








