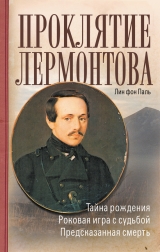
Текст книги "Проклятие Лермонтова"
Автор книги: Лин фон Паль
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Лин фон Паль
Проклятие Лермонтова
© Лин фон Паль, 2014
© ООО «Издательство АСТ», 2014
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)
Цена бессмертия
Профессионалы до сих пор спорят, кто в нашей отечественной литературе самый мистический писатель. Одни считают, что это, вне всякого сомнения, Гоголь. Хотя бы потому, что написал «Вия» и «Страшную месть». И приводят разные случаи из его жизни, включая последний – что якобы похоронили его заживо. Другие с таким же азартом доказывают, что гораздо более «роковой» писатель – Лермонтов: мало того что вся его жизнь подчинена фатальным закономерностям, точно он подчинялся предначертаниям судьбы, так еще и был настоящим пророком. Предсказал революцию 1917 года, свержение самодержавия и расстрел царской семьи. Причем в возрасте шестнадцати лет, когда другие интересуются барышнями и прочими молодежными развлечениями. Пьют «Клико», например. Сторонникам Гоголя на это возразить нечего – с пророчествами у Гоголя плохо. Зато у Лермонтова, кроме пророчеств, – целый список прочих роковых происшествий. В последнее время чаша весов склоняется явно в пользу Лермонтова, не в последнюю очередь, наверное, в связи с близящимся двухсотлетием со дня его рождения.
Юбилеи всегда вызывают в обществе интерес к страдальцам, которых оно когда-то убило. Начинаются публикации хвалебных статей, политические лидеры припоминают вдруг пророческие строки несчастных мертвецов, а то и не пророческие, а первые, которые пришли им на память. Школьников целый год заставляют писать сочинения по юбилейной тематике. Художникам заказывают соответствующие картины, скульпторам – соответствующие монументы. Одним словом, юбилярам возносится фимиам – приторный как патока и чаще всего омерзительный на вкус.
Но не только «по государственной линии» происходит чествование покойников. Юбилеи удивительным образом пробуждают дремавших до этого на лесном суку падальщиков. Вот тут-то и слетаются они на юбилейное пиршество. Бедняге Пушкину припоминают человеческие слабости и всерьез обвиняют его в склочном характере и не столь уж и значительном таланте, из всего Достоевского с умилением цитируют дневниковые записи о его нелюбви к полякам и евреям и всерьез называют его величайшим… антисемитом, из Льва Толстого, человека весьма своеобразного, делают едва ли не Антихриста и всерьез рассуждают, что его душа после похорон приняла обличье змеи (очевидно, адской), и что эта змея выползла из его гроба и, сколько ее ни пытались изловить, многих изжалила, а потом ускользнула в ближний лес…
Михаил Юрьевич Лермонтов, круглая годовщина со дня рождения которого приходится на нынешний 2014 год, тоже не обойден ни фимиамом, ни злословием. Впрочем, и при жизни злословие преследовало его по пятам. Он был очень талантливым и невероятно сложным человеком, не терпел никакого насилия над собой и доверял свои мысли только чистому листу бумаги. У него было мало друзей (а были ли вообще?) и множество врагов и недоброжелателей. Его характер был соткан из противоречий: он никого не хотел обидеть – и многих обижал, он жаждал душевного тепла – и сам всех отталкивал. Мечтал жить как все, выглядеть как все, ничем не выделяться из окружавшего его общества – и казался в этом обществе чужаком и мятежником. Недоброжелатели не видели в нем даже искры таланта. Друзья не понимали в полной мере, как много он сделал для русской литературы. Десятилетия после нелепой гибели на Кавказе его имя было под запретом – даже после смерти императора Николая Павловича, самого высокопоставленного из его недругов.
Может, поэтому современники не сразу поняли, какого художника слова потеряли. И не сразу стали собирать материалы к биографии. Историю его жизни пришлось складывать буквально по кусочкам, благо сохранились письма – его и к нему, воспоминания немногих друзей, но больше – людей плохо его знавших или почти с ним не знакомых. Даже портреты, которые сохранились, писаны словно не с одного человека – каждый художник изображал «своего» Лермонтова. Причем таким, каким сам Лермонтов хотел предстать перед портретистом. Неудивительно, что его биографам приходилось не проще, чем живописцам. Они пытались написать портрет его судьбы. И у всех получался «свой» Лермонтов.
Вся его жизнь укладывается в несколько строк: детство провел в Тарханах, недолго учился в благородном пансионе и университете в Москве, потом – в школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров в Петербурге, был трижды выслан в армию на Кавказ, наконец – убит на дуэли. Всей этой жизни было отпущено двадцать шесть лет, семь месяцев и семнадцать дней. Но этих двадцати шести лет, семи месяцев и семнадцати дней оказалось довольно, чтобы его имя навсегда осталось в русской литературе. Словно бы течением этой жизни руководила судьба или рок – называйте как вам больше нравится. Трагическая и ранняя смерть добавила к портрету его судьбы и вовсе сочные роковые мазки.
Перед последним отъездом на Кавказ он начал писать повесть «Штосс» – совершенно мистическую – роковой номер квартиры, который снится его герою, роковой портрет на стене, роковое стечение обстоятельств, роковая встреча с судьбой, роковая игра с судьбой в карты. Ставка: жизнь или смерть. Обыграл его герой судьбу или нет, так и осталось неизвестным: повесть он не дописал. Не успел. Но свою судьбу – не обыграл: тем же летом в страшную грозу погиб на дуэли, убитый старым товарищем по юнкерской школе. И вроде бы не должен он был ехать в Пятигорск, где поджидала его смерть, но в последнюю минуту изменил решение – подбросил монетку. И монетка выпала стороной смерти…
Вся его недолгая жизнь полна подобных совпадений, словно бы из двух возможностей развития событий – плохой и наихудшей – он всегда выбирал наихудшую. Для него, для его жизни, все последствия выбора были печальны, они приводили к резким переменам – нежелательным, несчастным, непоправимым. Но для дела, которым он занимался, для литературы они оказывались благими. Чем больнее играет душой судьба поэта – тем громче и чище звучит его лира. Это – непреложный закон, хотя ничего хорошего самому поэту он не сулит. Счастья в личной жизни, которого желают именинникам, с таким предначертанием души не бывает. Дар небес для поэта становится его проклятием. Лермонтов это понимал, хотя невыносимо желал быть счастливым и отыграть у злой судьбы и лиру, и счастье. И не раз писал об этом пронзительные и горькие стихи – с такой прямотой и искренностью, которая одна и делает рифмованные строки поэзией.
Увы! В этих стихах открывалась не только душа самого поэта, но и очертания будущего, которое уготовила ему судьба. Здание судьбы, как известно, можно окинуть взглядом только в ретроспективе. А пока оно строится – это всего-то отдельные кирпичи, и от того, как встанут эти кирпичи – просто в ряд или с арками, и какое будет здание – с замысловатыми фигурами при дверях, с вензелями и колоннами или же с недостроенными проемами и незавершенными стенами, без крыши и с обвалившимися потолками, – зависит и общий абрис судьбы к моменту смерти. Это потом, из нашего далека, можно всплескивать руками и недоумевать: «ну как же он этого не видел?!», «ну зачем же он был так своеволен?!» – а из его «там и тогда» и здания-то никакого нельзя было увидеть. Только отдельные кирпичи. Удивительнее другое: Михаил Юрьевич Лермонтов выстроил такую неординарную конструкцию, словно бы у него перед глазами имелся завершенный проект собственной судьбы. Словно он точно следовал намеченному судьбой плану.
Значит, в план судьбы входила его ранняя смерть? Многих возмущает такая несправедливость! А чего бы он достиг, рассуждают они, если бы прожил подольше? Не прожил. И не стоит по этому поводу ни скорбеть, ни гадать, каких шедевров литература лишилась. Его славе вполне хватит и того, что он успел. А остальное – неважно. Кшиштоф Камиль Бачинский, прекрасный польский поэт, прожил и вообще двадцать три года. А Артюр Рембо, гениальный французский поэт, прожил тридцать семь, но стихи перестал писать в двадцать. И это – тоже судьба. Пятна рока, не видимые другим отметины будущего, которые творческая душа собирает как пазлы. И если правильно сложит – вот и получается единственная в своем роде жизнь.
А мы потом ищем мистику, рассуждаем о небесных откровениях и проклятиях, пытаемся голыми руками поймать выпущенную в сердце творца пулю или остановить стремительно падающий на его шею нож гильотины. Но все – напрасно. На Гревской площади палач поднял в воздух отрубленную голову Андре Шенье. Уже отошла из Ливорно шхуна «Ариэль», на которой утонет Перси Биши Шелли. Уже хлынул греческий ливень, который сведет в могилу Джорджа Байрона. На Черной речке упал на снег смертельно раненный Пушкин. Уже прицелился в грудь Николая Гумилева безвестный красноармеец. Уже взял на мушку беспечного Джона Леннона искатель славы Марк Чепмен. Бессмертие покупают ценой жизни. Прошлое нельзя переиграть. Будущее можно сделать прошлым только прожив его. А творец – пребывает в настоящем. Это его счастье и его беда. И любой его выбор – правильный.
Орел или решка?
Орел? Решка? Или ребром?
Жизнь или смерть?
Жизнь? Смерть? Бессмертие?
Судьба Лермонтова распорядилась даровать ему бессмертие. Сколько раз он мог сделать шаг в сторону, уклониться от рокового выбора – но словно следовал по лекалу, отмеченному судьбой! Делал выбор, от которого его отговаривали, пытались остановить, умоляли одуматься… Давайте же вглядимся попристальнее в его жизнь, попробуем найти в ней узловые моменты, развилки судьбы, разберемся, как работает роковое предназначение, посмотрим, что в его жизни от выбора человеческого, что – от предначертания рока. И не является ли человеческий выбор в то же время и роковым предназначением?
Существует латинская поговорка: «Желающего судьба ведет, нежелающего – тащит». Не будем уподобляться римлянам и гадать по внутренностям животных. Мы просто будем читать Лермонтова – его письма, его заметки, его прозу и стихи. Ибо, если вы хотите вникнуть в роковые тайны его судьбы – доверьтесь словам главного свидетеля на Суде Вечности – самому Михаилу Лермонтову.
Итак, начнем?
Часть 1
Тарханы
Темные тайны рождения
Как всякую летопись несчастий, эту историю следует начинать с начала. Не с того начала, которое обычно открывается панорамой московских событий осени 1814 года, когда в ночь со 2 на 3 октября (по старому стилю) безымянный младенец мужского пола сделал свой первый вдох, а с событий провинциальных, за год до вторжения в Россию армии Наполеона. Почему нам это столь важно? Да потому, что сегодня официальную биографию Михаила Юрьевича хорошим тоном стало пересматривать. И по этим новым разысканиям никакого младенца мужского пола в Москве, в доме Толя у Красных Ворот, в ночь со 2 на 3 октября не рождалось.
Чеченская искательница лермонтовской правды Мариам Вахидова «порождает» его в 1811 году. Само собой, порождает не от Юрия Петровича Лермонтова. И одним росчерком пе… простите, парой ударов женской ручки по клавиатуре превращает в бастарда. Таковые попытки делались и раньше благодаря, так сказать, сбору устного народного творчества, но в дате рождения никто не сомневался. Для обвинения в бастардстве в целом не столь уж важно, какой там был год – 1811-й или 1814-й. Для госпожи Вахидовой это важно по очевидной причине: несчастная девица Арсеньева никак не могла бы забеременеть от абрекского кандидата в папаши поэта в 1814 году, поскольку о событиях этого 1814 года известно и из воспоминаний современников, и из «показаний» ее матушки Елизаветы Алексеевны, урожденной Столыпиной. А вот 1811 год практически в истории семейства Арсеньевых не отражен. И не беда, что первый биограф Лермонтова, начавший свою трудную работу в последней четверти 19 века, когда запрет на упоминание имени поэта был снят, объездил – по его словам – все отечество в поисках сохранившихся документов, писем, рукописей поэта, устных воспоминаний о нем и создал тот каркас, на коем базируется все, что мы знаем о Михаиле Юрьевиче. Несмотря на то что после гибели внука Елизавета Алексеевна раздала все его вещи, избавилась от всего, что он написал, истребила любое напоминание о нем, Павел Висковатов собрал целый том свидетельств. Наше право – доверять им или не доверять. Как наше право – вводить новые документы, если они есть.
Увы! Документов в поддержку версии, что Михаил Юрьевич родился в 1811 году, не существует. А за 1814 год Елизавете Алексеевне было выдано свидетельство из Московской Духовной консистории, когда ей срочно потребовались бумаги, чтобы определить Мишеньку в хорошее учебное заведение. Конечно, в схеме изысканий госпожи Вахидовой сей документ проще всего объявить обычным подлогом. Право, чего не сделает богатая барыня, дабы узаконить горячо любимого бастарда – последнее, что оставила ей после своей ранней смерти единственная дочь? В защиту своей версии далеких от нас событий исследовательница ссылается на Ираклия Андроникова. Якобы однажды, сильно пьяненький, он сознался, что Лермонтов наш на самом деле – никакой не Лермонтов, а бастард. И поскольку захмелевшего лермонтоведа тащил в гостиницу чеченский коллега, то настоящий отец поэта был назван чеченцем. В трезвом виде Андроников никаких таких порочащих честь поэта высказываний себе не позволял. Хотя почему-то на него ссылаются и создатели иных версий происхождения Лермонтова.
Мариам Вахидова «доказывает», что отцом Михаила Юрьевича был предводитель чеченского сопротивления Бейбулат Таймиев, которого в России писали Тайми Биболт, он якобы совершил налет на станицу Шелкозаводская, где в имении Акима Акимовича Хастатова гостила пятнадцатилетняя Машенька Арсеньева, и забрал эту Машеньку в заложницы, точнее – в наложницы. А потом между ними вспыхнула любовь до гроба. Само собой, документальных свидетельств у исследовательницы нет никаких. Только стихи Маши Арсеньевой из альбома да стихи самого Михаила Юрьевича, из коих при старании можно вычитать все что угодно. Зато какой простор для предположений! Упоминает барышня о несчастной любви, разлуке и чужой стороне – все ясно: «запретная» любовь к абреку по лекалу мыльных опер, потом насильственный увоз в Тарханы и мечта соединиться со своим возлюбленным, осложненная неожиданным последствием – беременностью. А то, что у книжных барышень в начале 19 века мода была такая – писать в альбомы стихи о несчастной любви, так это не в счет. Зато нам вверяют как великое откровение сведения, что отчаявшаяся Машенька пыталась сгубить и себя, и будущего ребенка, травясь уксусом. И что пила она этот уксус регулярно на протяжение шести лет – с 1811 года, когда почувствовала утолщение живота, и до 1817 года, когда отрава наконец-то подействовала.
Самое смешное, что исследовательница сама себе противоречит: захотела бы Машенька расстаться с жизнью, так хлебнула бы не разведенный уксус, а эссенцию, столовый же уксус барышни использовали совсем для иных целей – считалось, что это лекарственное средство делает кожу белой и матовой. Его, чего греха таить, пили еще в начале следующего века, и все для тех же целей. Правда, в ту эпоху к уксусу для наведения особой изысканности и утонченности добавляли еще и атропин – закапывали в глаза, чтобы блестели, а зрачки делались огромными. Красота, как всем известно, требует жертв. Откуда, кстати, Мариам Вахидова почерпнула «уксусную историю»? Из книги о Лермонтове Татьяны Толстой! Из… художественного произведения. И даже процитировала, что Машенька «пила иногда рюмочками уксус и говорила, вздыхая, что от этого скорей можно умереть». Ну, если шесть лет – это «скорей», о чем тогда вообще речь? Спорить с такими «фактами» смысла нет.
Правда, другие версии бастардства Михаила Юрьевича ничем не лучше. Уважаемый лермонтовед Владимир Захаров нашел в бумагах своего покойного учителя В. А. Мануйлова неопубликованную статью с заманивающим названием «Лермонтов ли Лермонтов?». И, конечно же, опубликовал. Статья была связана с фольклорным материалом, собранным в Тарханах еще в тридцатые годы минувшего века. Местные крестьяне, ни один из которых не мог бы помнить Лермонтова, поскольку столько не живут, рассказывали, что слышали будто бы Лермонтов на самом деле родился не от своего отца-дворянина, а от кучера, которого барышня сильно полюбила. Правда, о годе рождения крестьяне ничего не говорили и официальную дату не оспаривали. А про кучера, в имени которого путались, говорили, что, как только помещица Арсеньева поняла, что ее дочка беременна, кучера сразу погнали вон. Машу, чтобы грех покрыть, тут же выдали замуж. Никаких документальных подтверждений «кучерской версии» тоже конечно же нет и не может быть. Да и рассказывали Мануйлову эту историю не старцы, которые могли бы знать ее в пересказах отцов и матерей, а… тарханские школьники. Иными словами, дошла она даже не через третьи, а, наверное, через десятые руки…
Еще один вариант темной тайны рождения поэта озвучили Савелий Дудаков и израильский ученый Моше Надир (псевдоним Ицхака Райза) – они сделали отцом поэта личного врача Елизаветы Алексеевны Ансельма Леви (или Левиса, как тогда писали). Французский еврей Леви якобы пользовал не только Елизавету Алексеевну, но и Марию Михайловну. Получается, Арсеньева была не так строга к согрешившему с ее дочерью доктору, если не прогнала его прочь. Напротив, он с младенчества лечил и маленького Мишу, только права не имел признаться, что он – его настоящий отец! Моше Надир считает, что без доктора не обошлось: он предлагает посмотреть на портреты отца и матери поэта, чтобы убедиться – нет, не Юрия Петровича сынок. И по цвету кожи, и по цвету глаз и волос – француз, испанец, итальянец, еврей, но не русский, пусть и с предками шотландцами в седьмом колене. Вероятно, желание сделать из мсье Леви отца поэта возникло из-за внешности доктора: маленький, страшненький, с бородавкой на носу и подслеповатый… А то, что, по воспоминаниям современников, взяли его в дом уже послерождения ребенка, – так это мелочи…
Сами понимаете, в свете подобных изысканий проверенная официальная версия со скоропалительной помолвкой и последующей, не отраженной документально, свадьбой Марии Михайловны Арсеньевой и Юрия Петровича Лермонтова представляется вполне убедительной. И надо обладать удивительно извращенным умом, чтобы поверить в отцовство врача, кучера или же абрека. Конечно, истории неравной любви случались и при жестких сословных границах, характерных для начала 19 века, но… не с этими персонажами. Романтическая трагедия страсти к горцу? Усадебная драма любви к ученому доктору? Пошлый водевиль увлечения девицы кучером? Мария Михайловна Арсеньева была девушкой совсем иного толка.
Машенька. Любовь – причина смерти
Машенька была всего на четыре года старше Пушкина. Из тех дворянских барышень, которые запоем читали французские романы, музицировали на фортепьяно и рукодельничали. Красавицей она не была. Большеглазая, бледная, темноволосая. Задумчивая. Как писал о ней Висковатов: «Марья Михайловна, родившаяся ребенком слабым и болезненным, и взрослой все еще выглядела хрупким, нервным созданием». В начале 1810 года, когда в Тарханах давали рождественское елочное представление, девушку постиг страшный удар: она потеряла отца.
Елизавета Алексеевна была женщина упорная, напористая и бескомпромиссная. Первый ребенок в многодетной семье Алексея Столыпина – друга, как он любил хвалиться, самого графа Орлова. Елизавета Алексеевна была высокая, дородная, крепкая и с совершенно мужским характером. От отца она унаследовала редкую практичность и здравомыслие. Муж ее, Михаил Васильевич Арсеньев, был натурой иной – широкой и увлекающейся. Трудно сказать, была ли между супругами любовь изначально или же, как большинство браков, и этот был заключен по расчету, но, скорее всего, девицу Елизавету отец выдал за друга молодости Василия Арсеньева, чтобы породниться с человеком, к которому питал самые искренние чувства. В молодости братья Арсеньевы и Столыпин служили вместе, только Арсеньевы в службе так и остались, а Столыпин занялся хозяйством и сделал большие деньги на производстве спиртного. Тогда это мероприятие именовалось винными откупами. С друзьями Арсеньевыми отец Елизаветы не порывал, они нередко встречались, благо имения находились в относительной близости. Молодой чете было куплено новое родовое гнездо – Тарханы, имение продавалось по дешевке.

М. М. Лермонтова (мать поэта)
Неизвестный художник (1810-е)
Привыкшая к строгой экономии, скуповатая Елизавета Алексеевна желала наладить в Тарханах стабильный быт, но столкнулась в лице мужа совсем с другим взглядом на жизнь. Михаил Васильевич жил на широкую ногу, денег считать не желал, зато удовлетворял все свои прихоти, чем и вызывал раздражение супруги. Он любил красивые вещи, не скупился покупать понравившиеся диковины и даже завел у себя театр. Театром, конечно, в конце 18 века никого уже удивить было нельзя, но это его увлечение происходило не из стремления к моде, а из страстной любви. Он сам выискивал полюбившиеся пьесы, сам их ставил и сам же в них играл. Елизавета Алексеевна этой театральной страсти не разделяла, но терпела. А он ожидал от крепко сбитой молодой жены многочисленного здорового потомства. Увы! Живой на свет появилась только хилая дочка. И роды были такие тяжелые, что после этого Елизавета Алексеевна детей иметь не могла.
Вот эта слабая девочка Мария и стала потом матерью Михаила Лермонтова. Болезненной она осталась и на всю жизнь. Видимо, поэтому и получила сугубо домашнее воспитание. Тихая, замкнутая, молчаливая, послушная, она полностью разделяла отцовские увлечения. Для нее Михаил Васильевич устраивал праздники – значит, звучала музыка, пели песни, играли пьесы. А с женой отношения у него разладились совершенно, и Михаил Васильевич нашел себе предмет для страстных воздыханий – хорошенькую соседнюю помещицу Мансыреву, бывшую замужем за офицером, который все время пребывал в разъездах по службе. Тоже любительницу музыки и театра. Эта любовь и стала причиной его смерти. В начале января 1810 года, когда в Тарханах собирались играть шекспировского Гамлета, и сам хозяин, переодетый могильщиком, ожидал свою драгоценную гостью, слуга принес ему записочку, что предмет его страсти посетить спектакль не сможет – муж вернулся. Не в силах этого пережить, отец Машеньки не то принял яд, не то умер от разрыва сердца. По преданию, увидев мертвое тело мужа, Елизавета Алексеевна воскликнула: «Собаке – собачья смерть!..» И буквально на следующий день отбыла с дочерью из Тархан, предоставив хоронить и оплакивать своего хозяина челяди. Машеньке в тот год исполнилось пятнадцать лет.
Машенька – все, что у Елизаветы Алексеевны осталось, единственная наследница. Мать ее любила, но страшно боялась, что девочка унаследует от отца его беспечность и пылкость натуры. Прежде, при жизни Михаила Васильевича, Машеньку было решено отправить учиться в Смольный институт, в Петербург. После смерти мужа Елизавета Алексеевна это решение изменила. Она хотела быть уверена, что дочь хорошо устроит свою судьбу. Очевидно, Елизавета Алексеевна испугалась петербургских соблазнов и случайных встреч с молодыми людьми. До пансиона Маша так и не доехала. После некоторого времени проживания в Пензе осиротевшая семья вернулась в Тарханы и занялась приведением дел в порядок. Первое, что надлежало предпринять, – перевести на себя оставшееся от мужа наследство. Часть этого наследства была тут же, в Тарханах, а часть – в имении Арсеньевых в селе Васильевском. Вот туда-то в 1811 году и отправились Елизавета Алексеевна с дочерью Марией Михайловной.
Дело о разделе наследства требовало, очевидно, частых поездок. И Маше в Васильевском нравилось: дом Арсеньевых был шумный и веселый, всегда полно гостей. Именно там Машенька и встретила обаятельного соседа Арсеньевых – Юрия Петровича Лермонтова. Юрий Петрович только что вышел в отставку из армии – якобы по болезни, но на самом деле потому, что в том году умер его отец Петр Юрьевич, и капитан Лермонтов, согласившись на отставку без выплаты пенсиона, приехал домой к матушке и сестрам. Само собой, он посетил гостеприимных Арсеньевых. Маша увидела Юрия, Юрий увидел Машу.
Елизавета Алексеевна была в ужасе: не такого мужа для своей Маши она желала. Лермонтов был крайне беден, крайне легкомыслен, но очень хорош собой. Тарханская помещица хотела устроить судьбу дочери так, чтобы та была за мужем как за каменной стеной, но Маша стояла на своем решении твердо, да и тетки Арсеньевы тоже встали на ее сторону. Елизавета Алексевна дала согласие, чтобы молодые обручились. А год спустя началась Отечественная война, и капитан вернулся в действующую армию. И даже, как пишут некоторые исследователи, был ранен и попал в госпиталь, а невеста его Марья Михайловна ездила его проведать.
Документов о заключении между ними брака не сохранилось. Венчались они не в Тарханах, а, скорее, в Васильевском. И разлучить их Елизавете Алексеевне не удалось. Так что не стоит искать Михаилу Юрьевичу в отцы ученого еврея, деревенского кучера или чеченского повстанца. Отца его звали Юрием Петровичем. И свою фамилию он передал не бастарду, а своему родному сыну.








