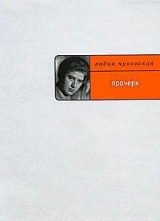
Текст книги "Прочерк"
Автор книги: Лидия Чуковская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– Это аппендицит, – сказал Михаил Михайлович и помолчал. – Гнойный. С операцией уже опоздали. Гной уже в брюшине. Перитонит!
– Михаил Михайлович! – вскрикнула я. – Как же вы ставите такой страшный диагноз, а сами даже не осмотрели ее?
– До нее сейчас нельзя дотрагиваться. Нельзя ее переворачивать, выстукивать, щупать. Да ведь и по лицу видно.
– Михаил Михайлович! – взмолилась я. – Да ведь аппендицит – это боль, а Люша уверяла профессора Буша, что ей не очень-то больно.
– Разве вы не знаете Люшу? Она не любит жаловаться, – сказал Михаил Михайлович и пошел к телефону вызывать «скорую».
– А профессор Буш, – добавил он, воротившись, – отличный специалист, но не по детскому аппендициту. У детей иначе.
В машине Люша дремала. Мы с Митей сидели, прижавшись друг к другу, боясь, что нас высадят. Митю в здание больницы не пустили, он сказал, что подождет меня в парке. Это было на Выборгской, в больнице при Институте материнства и младенчества.
Когда Люшу везли по коридору, мимо комнаты для выздоравливающих, где стояли цветы и рояль, она подняла голову, вытянула шею и сказала:
– Хорошо, что я здесь не потеряю времени зря. Я буду учиться музыке.
И уронила голову.
Ее повезли сразу в операционную, прямо на операционный стол. Меня оставили ждать в той комнате, где Люша собиралась учиться музыке. Операцию делал дежурный врач, Иван Михайлович. Меня позвали к нему тогда, когда Люшу из опе рационной перевезли уже в палату. Это была палата на одну коечку в самом конце коридора. Люша еще не очнулась. В палату внесли раскладушку, с трудом втиснули возле Люшиной постели. Сестра сказала, что я, если желаю, могу ночевать здесь. Я побежала к дежурному врачу.
– Я удалил аппендикс, – сказал он, не поднимая глаз, – но это вряд ли поможет. Вы опоздали на двое суток.
Я не знала, куда бежать – к Люше в палату или к Мите в парк. Люша все спала. Я выбежала в парк. Митя стоял, прислонившись к стволу липы. Порывами сыпался косой мелкий снег.
– Я так понимаю, что Люша умирает, – сказала я. – Ты иди домой. Я позвоню тебе в 7 утра.
Спать не пришлось ни мне, ни Люше. Наркоз отошел, пришла боль. Рану оставили незашитой. Рана гноилась.
– Да вы, мамаша, не надейтесь, – сказала мне нянечка. – Раз опоздали, значит, опоздали. Да в эту палату только таких и кладут.
Это была особая палата, недаром на одного. Чтобы других детей не пугать зрелищем умирания. Палата для смертников.
Каждые два часа приходил врач – Иван Михайлович – и сестра.
Сестра брала у Люши кровь. Анализ крови показывал, как быстро нарастает общее заражение.
У Люши не было сил плакать. Мучила гноящаяся рана. По-видимому, не было сил и глядеть – она с мукой в глазах опускала веки. Не разговаривала ни с кем, отвечала движением век. Пальцы исколоты. Бледные, они казались мне мертвыми. Один раз, когда Люша помедлила, прежде чем протянуть руку, я сдуру протянула свою. Я так чувствовала ее собой, а себя ею. Пусть бы меня кололи, меня резали, а не ее. Насколько мне было бы легче.
Выходила вслед за Иваном Михайловичем в коридор. Ждала от него какого-нибудь слова в помощь.
– Ничего, ничего утешительного сообщить не могу, – говорил он. – Мы бессильны. (Напоминаю читателям: антибиотиков в ту пору не существовало.)
Один раз, уже к утру, когда Люша минут на 10 уснула, Иван Михайлович, поглядев на нее, вдруг спросил: «А скажите, пожалуйста, кто у вас в семье „Митя“? Я, конечно, прошу прощения...»
Оказалось, когда Люшу хлороформировали, то, как всегда это бывает, задавали ей вопросы: проверить, уснула уже больная или нет. Люшу спрашивали:
– Как зовут твою маму?
– Лидия Корнеевна.
– А папу?
– Цезарь Самойлович.
– А дедушку?
– Корней Иванович.
– А бабушку?
– Мария Борисовна.
Конец вопросам. Веки опущены. Неподвижность, молчание. Хирург уже готов был приняться за дело. Но вдруг поднялись веки.
– Ау нас еще Митя есть, – пробормотала Люша уснувшим голосом. – Почему вы не спрашиваете? Его называют Матвей Пе... – Тут она уснула.
Да, у нас еще Митя был. Когда утром я позвонила ему (Иван Михайлович, сменяясь, позволил мне позвонить из врачебного кабинета), я, услышав в трубке Митин голос, захлебнулась слезами и не могла выговорить ни слова.
– Слушаю, слушаю! – кричал Митя отчаянным голосом.
– Это я, – сказала я наконец и снова умолкла.
– Лида! – кричал Митя. – Ну говори же!
– Еще жива, – сказала я.
– Я привезу Шаака, – ответил Митя. – Ты слышишь, Лидочка? Я привезу Шаака. Мне посоветовал Михаил Михайлович. Он говорит, это гениальный хирург. Одна из его специальностей – дети... Он не только врач, он ученый... У него специальные работы по нагноительным процессам... И по местной анестезии... Михаил Михайлович дал мне телефон и адрес. Я уже с ним созвонился и еду за ним.
Далее я помню все в обрывках, не по порядку. Рану не зашивали, рана все гноилась. Вдруг Люшу снова взяли в операционную. Я шла рядом с каталкой и держала Люшу за руку. Рука была равнодушная, холодная и, когда я ее отпустила, упала на простыню. Я осталась в коридоре, а в операционную вошли трое – Иван Михайлович, затем главный врач всей больницы (или одного лишь хирургического отделения? не помню), профессор Берг, а с ним еще один, тоже в белом халате, рыжеватый, высокий. Я слышала, что Люша громко плачет – это ей меняли в ране тампон. Потом ее повезли обратно в палату, все трое врачей вышли следом и меня позвали с собою.
Мы в кабинете Берга. В окно глядят черные, в белом снегу, благородные липы. Берг сел за свой письменный стол. Он казался мне важным и строгим. Только пробыв в больнице около двух месяцев, я поняла, что и строгость, и важность прикрывали нежную любовь к детям и недоверие к взрослым: всяким там мамам, бабушкам, папам, которые своею невежественной, излишней заботой могут загубить больного ребенка: то возьмут его на руки, когда нельзя, то накормят чем попало.
Иван Михайлович смотрел на меня с соболезнованием.
Рыжеватый был Шаак.
Стульев не хватило, я села на подоконник, а передо мной остановился Шаак. Но заговорил не он.
– Девочка безнадежна, – сказал из-за стола Берг. – Теперь все зависит от вас. То есть я хочу сказать, попытка спасти. Аппендикс удален с опозданием. Вильгельм Адольфович предлагает собрать гной в другом месте и вторично вскрыть брюшину. Операция рискованная. Мы таких обычно не делаем. Да они и не отработаны. Без вашего разрешения мы не вправе рисковать. Но профессор Шаак находит, что процентов десять на успех все-таки есть. Я с ним согласен. Иван Михайлович тоже. Требуется ваше разрешение.
Он порылся в ящике стола и вынул какой-то бланк.
– Значит, надежда есть? – спросила я у Шаака.
– Я не Бог, я всего только Шак, – ответил он, глянув мне прямо в лицо. – Я согласен сделать попытку.
– Я бы на вашем месте согласился, – сказал Иван Михайлович. У него были добрые и сострадающие глаза. – Мне кажется, не десять процентов, а все двадцать пять.
Я подписала.
Следующие два дня я помню смутно – они слились в одном сплошном Люшином крике. Собирали гной. Рана справа, а Люше клали грелки на живот слева. Криком этот прерывающийся легкий звук назвать, впрочем, нельзя. На настоящий крик у Люши не хватало сил. Она напрягала голос как могла, он казался мне криком. На самом деле, он, вероятно, был еле слышен. Тянулась и тянулась днем и ночью еле слышная ниточка звука. Каждые три часа приходил Берг. Люша, не открывая глаз, кричала. Он клал ей руку на лоб – температура была около 40, нарыв назревал, – потом откидывал одеяло. Люша не поднимала век. Жизнь ее была только в крике, она не шевелилась, не спала, не пила, не открывала глаз. Всякое мое слово или прикосновение мешало ей. Чему мешало? Не видеть, не слышать, кричать.
Иногда сестры или нянечки вызывали меня в раздевалку. В палату Берг настрого запретил пускать кого бы то ни было – даже ближайших родных. «Мы разрешили дежурить матери – мать при ней, – а более никому в палату я не разрешаю». Мне он сказал: «Не пускаю никого, кроме вас, – палата маленькая, вы и так отнимаете у ребенка воздух». Я вжималась в стену и рада была бы отучиться дышать. Выходила в раздевалку, скинув у двери халат. Там плакал, уткнувшись в вешалку, Цезарь. «Ну как?» – кидался он ко мне. «Еще жива», – отвечала я. Мне казалось, я и в раздевалке слышу Люшин крик. Приходила няня Ида, распухшая от слез. Приходил Корней Иванович. Приходили друзья из редакции – Шура, или Туся, или Зоя. «Еще жива», – отвечала я. Приходил Митя, брал меня за руку. «Ты слышишь?» – спросила я его один раз. «Что слышу?» – «Люшин крик». Митя наморщил лоб, добросовестно вслушался, снял даже зачем-то очки. «Нет, не слышу, тебе кажется». Я побежала обратно. Когда я, после встречи с Митей, вернулась в палату, Люша кричала шепотом. Надо было низко наклониться над ней, чтобы услышать.
Она от нас уже ушла, ее не было. О ее присутствии свидетельствовал только этот нескончаемо длинный шепот боли.
На третий день Люшиных страданий меня снова позвали в кабинет к Бергу. Там вместе с Бергом ждали меня Иван Михайлович и Шаак, и я поняла, что решающая операция будет сейчас. Мне поставили стул возле Берга. Все молчали.
– Вот что, – сказал мне Берг с какою-то новою строгостью. – Девочка очень слаба. Изнурена. Наркоз увеличит шансы на неблагополучный исход. Профессор Шаак просит разрешение сделать операцию без общего наркоза.
Они тоже, видно, не слышали, как Люша кричит. Молча кричит.
– Нет, – сказала я. – Без общего наркоза я не позволю. Мучить не дам. Кончайте скорее.
Берг неодобрительно вздохнул. Вечно эти мамы и папы мешают разумной медицине. Все встали.
Когда я вернулась в палату, Люши там уже не оказалось. Я пошла по коридору к знакомой операционной. Я шла мимо палат с открытыми дверьми, оттуда детский плач и смех, и стон, и говор; мимо меня сновали врачи, нянечки, матери – но я шла ни на кого не глядя, ничего не слыша и, кажется мне, ни о чем не думая. Стала у белой закрытой двери. Времени я не понимала, и не знаю, сколько минут или часов длилась операция.
Белая дверь наконец растворилась на обе половины, и оттуда выкатили Люшу. Лицо неподвижное, голова глубоко ушла в подушку. В глубине, неотличимо от наволочки, белело лицо. Не поймешь, мертвая она или живая.
Я не пошла за каталкой, а вошла в операционную. Пусто. Не прибрано. Сладкий запах хлороформа. Какие-то блестящие штуки на операционном столе; вата; на полу ведра. У стен сверкающие стекла шкафов. Куда они провалились все – Берг, Шаак? Иван Михайлович? Я пошла дальше. Из операционной две двери вели еще куда-то. Я открыла одну, не постучав. В маленькой комнатке за маленьким письменным столиком, руками охватив голову, сидел Шаак.
– Умерла? – спросила я.
– Нет, нет! – ответил он и опустил руки. – Девочка жива и, есть надежда, останется жить. Но я чуть не убил ее. Я только в последнюю минуту велел перевернуть ее с живота на спину. Гнойник оказался на животе слева, сравнительно близко к поверхности. Если бы я начал оперировать со спины – рана была бы слишком глубокая и она умерла бы.
А дальше? Дальше жизнь начала возвращаться к Люше, но в первое время только в разнообразии страданий. Обе раны оставались незашитыми и гноились. Однако глаза она уже открывала, на зов откликалась, пила воду с лимоном. Она больше не кричала, но в ответ на любые мои попытки отвлечь ее или развлечь начинала сердито плакать. Если я решалась рассказывать сказку или о чем-нибудь спрашивать – губы кривились. Я умолкала. Она не хотела отвлекаться от боли, все мои попытки казались ей фальшью. Врачам отвечала односложно или движением век.
Каждый день санитары возили ее в операционную – на новую боль: менять тампоны. В палату входили двое с каталкой или носилками.
– Подождите одну минуту, – внятно и вежливо говорила Люша. И потом: – Теперь можно.
Что она успевала сделать с собой за эту одну минуту?
...Но вот Люша уже спит по ночам – значит, боль уходит. Позволяет мне поворачивать ее. Вот я уже кормлю ее с ложечки каким-то немыслимым лимонным желе: назначил ей это волшебное кушанье Берг. (Институт материнства и младенчества славился искусной кухней: институт выкармливал осиротелых грудных младенцев.) Вот переводят ее из одиночной палаты в палату на четверых: мальчик с отнятой ногой (возле него день и ночь мать); девочка после обыкновенной операции обыкновенного аппендицита; семилетний мальчик со сломанной рукой. Палата окнами в парк.
– Мама! А почему этому мальчику отрезали ногу? Мама! А как зовут ту девочку? Мама! Скажи Иде или Мите, пусть принесут мне мою Нину. Я по ней соскучилась.
На следующий день Митя подходит к открытому окну, заглядывает, передает мне куклу. «Что же ты, Митя, – громко, на всю палату, укоряет его Люша, – Ниночку мне принес, а одеяло забыл? Как же ее без одеяла спать укладывать?»
Мы с Митей переглядываемся счастливо. Если Люша уже захотела куклу, да и куклино одеяло в придачу, – значит, смерть уже отступилась от нее, смерть дежурит в палате смертников, а Люша жива и наново набирается жизни.
Вместе с Люшей набиралась жизни и я. Не только сном, едой, но пробудившимся интересом к судьбам и горю других. Я больше не глядела на одну только Люшу, а всматривалась в детей, во врачей, в сестер, в посетителей. Воспринимать чужую жизнь – ведь это и значит жить. Какие страдания испытывала женщина, сидевшая возле сына круглые сутки? Андрюша у нее на глазах попал под трамвай, ему отняли ногу выше колена... Не ногу – ножку, Андрюше всего четыре года. Мать считала виноватой себя. Она шла через Троицкий мост. Андрюша держался за ее юбку, а сама она несла на руках трехмесячную Аню. Вдруг Андрюша увидал на Неве пароход, подплывающий к мосту с другой стороны и, оторвавшись от материнской юбки, кинулся поперек моста, пароходу навстречу. «Андрейка, Андрейка!» – кричала мать под грохот и звон трамвая, летящего с кручи. Вожатый затормозить не успел. Вызывали «скорую», вызывали и пожарную команду: долго не могли добыть мальчика из-под вагона. «Это я виновата, – объясняет мать каждому: врачу, сестре, санитарке, – Аню положить бы мне на мостовую, руки освободить, тогда я Андрюшу схватила бы». – «Бог с вами! – говорила я. – Как же грудного ребенка – на мостовую? Ведь машины там на полном ходу». – «Нет, они заметили бы и объехали. И Андрейка был бы цел». – «Да не объехали бы на полном ходу!» Такой разговор повторялся между нею и мною раз по двадцать в сутки. Страшно было видеть, как она поправляет на мальчике простыню: она каждый раз заново убеждалась – одной ноги нет. «Это я виновата», – объясняет она сестре, принесшей в палату ужин.
Сестра не слушает. Ей недосуг. Берг удивительно подобрал в этом отделении своих помощников – всех, от врачей до сестер, санитарок и нянечек. За редким исключением это сердечные, внимательные люди, терпеливые и ласковые. Сестра и рада бы дослушать несчастную женщину – но где тут! ей некогда: медицинского персонала, разумеется, как всюду и везде, не хватает.[9]9
По нынешним нормам, в тридцатые годы в больницах существовал избыток персонала. В настоящее время, если исключить привилегированные медицинские учреждения, в обыкновенной городской больнице больные вообще лишены ухода. Нянек и медсестер почти нет. «Лежачие» брошены на попечение «ходячих», а все вместе – предоставлены заботам родных и знакомых. Не хватает лекарств, бинтов, ваты, постельного белья, пленок для рентгеновских аппаратов. Нянечки и сестры, случается, пьяные. И это не где-нибудь в глуши, а в столице. – Примеч. 1988 г.
[Закрыть] В больницу ежедневно и ежечасно привозят детей, упавших с третьего этажа, детей из-под машин и трамваев, детей с перитонитом и сотрясением мозга, с переломами позвоночника – весь персонал вечно мобилизован на спасение от смерти или тяжкого увечья. Для выздоравливающих или обыкновенных, сравнительно благополучных, не хватает времени и сил. Вот девочка (зауряднейший аппендицит и уже выздоравливает) пролила на одеяло кисель – не скоро она дождется, чтобы кто-нибудь избавил ее от этого озера, а оно, колеблемое посреди одеяла, не дает ей пошевелиться. Дети ноют, просятся домой, скучают: ведь легко они больные или тяжко – они все равно дети – раненные и разлученные с домом.
Люше лучше. Люша спасена и выздоравливает – и я постепенно становлюсь чем-то вроде «сестры-затейницы» для выздоравливающих: читаю им сказки, сочиняю наудачу новые, выслушиваю сны... По несколько раз в день я выбегаю в раздевалку к чужим мамам, папам, бабушкам, дедушкам – рассказываю им, как и что с Вовой и Катей.
Я знаю уже всех ребятишек в нашем конце коридора. И родственников.
Но вот наступает теплый, даже жаркий, май. Люшу вместе с другими ребятишками выносят каждый день на зеленую поляну в парк, под липы. У Люши, как и у меня, множество знакомых, кто на костылях, кто лежачий, и она требует, чтобы ходячие к ней подходили, а с лежачими переговаривается через меня, да и сама. В палате выздоравливающих целый день похвальба. «С меня сегодня сняли гипс!» – «А у меня температура подскочила! Целых 38 – во!» – «А мне через три дня швы снимут!»
...Однажды ночью, когда Люша спокойно спит (правда, ни на левом, ни на правом боку – только на спине), возле ее постели задерживается дежурный врач, Иван Михайлович.
– Поздравьте меня, Лидия Корнеевна, – говорит он. – Моя жена сегодня родила сына. Мы решили назвать его Ильей, а звать будем Люшей. В честь вашей Люши. И в честь необыкновенной операции, совершенной профессором Шааком. Известно ли вам, что операция эта, как уникальная, описана в специальном медицинском журнале?
А утром вот и он сам перед нами – «Не Бог, но Шак». Иван Михайлович, Берг и Шаак выходят из дверей корпуса на зеленую поляну: Шаак – последний раз осмотреть Люшу.
Нянечка накануне утром надела на нее хорошенькое пестрое платье.
– Разве вам неизвестно, – говорит мне с суровостью, нет, со свирепостью, Берг, – разве вам до сих пор неизвестно, что в хирургическое отделение из дому мы запрещаем приносить детям одежду?
– Профессор, это наше, больничное! – заступается за меня сестра. – Мамаша не приносили.
Злюка Берг доволен. (Читатель, наверное, уже давно догадался, что он вовсе не злюка, а добряк.) «Наше? У нас в больнице – такие платья?» И не одно, а целых три нарядные платьица! Дети одеты здесь чисто, но все латаное, все не по росту, старье. И вдруг – новое, нарядное платье! И впору!
Он, Иван Михайлович и Шаак осматривают Люшу.
– Ну, Люшенька, – объявляет Берг, – послезавтра мы тебя выписываем. Поздравляю тебя, ты можешь ехать домой. Ты рада?
– Мне все равно, – потупившись, отвечает Люша. – Как хотите.
Врачи уходят. Я провожаю их до дверей корпуса.
– Неужели ты не рада отсюда выбраться? – спрашиваю я Люшу, вернувшись. – Мы с тобою поедем в Тарховку, к морю, на дачу. Митя снял для нас большую комнату, и с балконом!..
– Мама! – отвечает мне рассудительная Люша. – Как ты не понимаешь? Не могла же я сказать им, что рада уехать отсюда. От них? Это невежливо.
В последние две недели я уже не только читала и рассказывала, а мне доверено было выздоравливающих и с ложечки кормить, и переворачивать, и переодевать. Матерей я пыталась утешить повестью о Люше: вытащили ведь ее из смерти. И ваших вытащат!
Больница запомнилась мне как вершина человеческого разума и человеческой доброты. Сквозь страдания. Потому и пишу я о ней с такой любовной замедленностью.
Неотвратимо надвигался «тридцать седьмой». Более отступать мне в моем повествовании некуда: ни в труд, ни в горе, ни в радость. Я лицом к лицу с безличием – с машиной бесчеловечья, запущенной на полный ход. Цель запуска? Превращать живых в мертвых. Запущена она была уже давным-давно – второе десятилетие! – и я уже успела испытать на других, да отчасти и на самой себе ее металлические когти.
Но «тридцать седьмой» убил стольких и стольких вблизи меня, убил Митю – «ближайшего из близких» (просто так, между прочим, для ровного счета!) и мою жизнь переломил на две части: до и после.
Этим он и отличается в моей памяти от прочих годов.
ГОД ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ
1
«Тридцать седьмой» именуется так для краткости. Длился он дольше: не год, а около двух лет. Начался осенью тридцать шестого, окончился в тридцать восьмом, осенью. (Не террор начался и окончился, не аресты, казни и лагеря, но «ежовщина», то есть аресты, казни и лагеря образца тридцать седьмого года.)
К этому времени массовое выселение на Север – на гибель – русских, украинских, белорусских крестьян в основном было завершено. Началась массовая облава на горожан. Речь, как и при коллективизации, пошла уже не о сотнях и тысячах, а о миллионах. На этот раз о миллионах городских жителей.
Я подчеркиваю слова «массовое истребление» потому, что не о расправе с оппозицией, не о внутрипартийной борьбе, не об уничтожении бывших членов бывших «буржуазных партий» я говорю. И даже не об убийстве Кирова в 34-м, за которым последовали убийства «троцкистов» и высылка в 35-м из Ленинграда в казахстанские степи сотен людей дворянского происхождения. Не о расправе с интеллигенцией, сопутствовавшей всем расправам.
Я говорю именно о «ежовщине», то есть о массовой расправе с населением советских городов – с людьми партийными и беспартийными, занимающимися любой профессией, принадлежащими к любому социальному слою. Руководители заводов и фабрик, типографий, разнообразных советских учреждений, научно-исследовательских институтов; руководители и вовсе никакие не руководители парикмахерских, бань, больниц; рядовые рабочие, зубные врачи, юристы, академики, пригородные молочницы, студенты, актеры, эсперантисты, чистильщики сапог; русские, русские, русские, грузины, евреи, финны, поляки; те из советских людей, которые побывали в Испании, – все, чьи жены и матери ночами стояли в тюремных очередях Ленинграда, Москвы, Киева, Харькова, Минска, Тбилиси, Еревана, Ташкента, Севастополя и Симферополя, Уфы, Омска, Томска, Пскова и Порхова, Курска и Пензы – столиц и не столиц, областных и районных центров, городов и городишек, им же числа нет – люди, разные люди, массовая облава на людей, живших в городах – на горожан; словом, «тридцать седьмой» – год, начавшийся осенью тридцать шестого и окончившийся осенью тридцать восьмого.
Тогда не спрашивали друг у друга: «как вы думаете, за что арестовали Ивана Алексеевича?», но: «по какой линии?», а линий было великое множество и самых разнообразных, а потому в ответ на заданный вопрос можно было услышать: «по линии глухонемых», или «по линии поляков», или «по линии библиотекарей».
Массовость пострадавших усугублялась тем, что в «тридцать седьмом» совершались в обязательном порядке расправы не только лично с «врагами народа», но и с членами их семей: дети – в особые детские дома; братья, сестры, тетки – вон с работы! а жены и матери в лагерь. Или в Казахстан – в степь. В соответствии с рубрикой «член семьи врага народа».
Интересно было бы заняться статистикой: если жертвы исчислялись миллионами, то в каких цифрах следует исчислять палачей?
О других событиях, о другой стране и по другому поводу Пушкин сказал:
От Рущука до старой Смирны,
От Трапезунда до Тульчи,
Скликая псов на праздник жирный,
Толпой ходили палачи...
Если бы наши палачи тридцать седьмого – следователи, прокуроры, солдаты охраны, солдаты из расстрельных команд, специалисты по обыскам и специалисты по истязаниям на допросах – если бы они открыто, среди бела дня, ходили по улицам – они шли бы не «толпой», а шагали в стройных рядах. Хаос тридцать седьмого был отлично организован. И никаких псов не хватило бы, чтобы полакомиться: пир слишком изобилен. А главное: и палачи – и жертвы были глубоко запрятаны в многоэтажных зданиях, в подвалах, в железнодорожных вагонах, за колючей проволокой. Жертвы и палачи не «от Рущука до старой Смирны», а от Черного моря до Белого, от Невы до Енисея, передвигались по стране многомиллионными невидимками, а видимая, обыденная человеческая жизнь между тем продолжалась как ни в чем не бывало.
Страна трудилась и спала под усыпительно-обличительные речи газет и радиотарелок. Трудились на полях, на заводах, в литературе, в науке, в живописи, в киноискусстве. Иногда с ленцой и бездарно, карьеристски и подхалимски, иногда с пафосом и вдохновенно. Оттрудившись, люди отдыхали: совесть спокойна. Пожалуй, это и было самое страшное.
2
В 36-м году умер Горький. «Не умер, а убит», – гласила официальная версия. Я тоже так думаю – не умер, а убит. Но не какими-то мифическими «врагами народа», как лгали газеты, а врагом всех людей и всех народов – Сталиным. Думаю, убит потому, что полного доверия к Горькому Сталин никогда не испытывал. Не испытывал даже после фразы, присвоенной и превращенной палачами в практически осуществляемый лозунг: «Если враг не сдается, его уничтожают». Сдался ли Горький до конца, до самого донышка? не проснутся ли в нем очередные несвоевременные мысли? не лучше ли проявить предусмотрительность и заблаговременно его уничтожить? Тем более что в тридцать седьмом предстояло уничтожить людей, Горькому близко знакомых: Бабеля, например, или Пильняка. Это уж чуть ли не из его дома. Не прозреет ли он тогда по части «врагов» и не начнет ли снова, как в начале двадцатых и в начале тридцатых, заступаться за «нежелательные элементы», то есть прежде всего за интеллигенцию? Одно дело какие-то там иксы и игреки, мелькающие на газетных страницах (продавшиеся иностранным разведкам), другое – Пильняк или Бабель, которых он знает насквозь.
А показательные суды над старыми большевиками, уличенными будто бы в шпионаже, – ведь и из их числа многих Алексей Максимович знал отлично. Вышинскому ли он вверится или Бухарину? Самая множественность разнообразно-однообразных спектаклей не заставит ли его заподозрить наличие режиссуры?
Последнее десятилетие жизни Алексея Максимовича засекречено.
Не ведаем мы ничего толком ни о последних годах жизни Горького, ни об обстоятельствах его смерти.
Некоторые косвенные факты указывают, что в последние годы находился Алексей Максимович, в сущности, под роскошным домашним арестом.
...Но права я или нет в своих домыслах, а существование «ленинградской редакции», всегда обороняемой Алексеем Максимовичем, было его кончиной прикончено. Некому более нас защищать.
Маршака Горький приметил еще мальчишкой-вундеркиндом. В родном Воронеже мальчика не принимали в гимназию: для евреев – процентная норма. Горький взял его к себе в Ялту, где с «нормой» было полегче – там Маршак и ходил в гимназию. Потом, уже взрослым человеком и опытным литератором, Маршак гостил у Горького в Италии. Не раз, в ответ на призыв Маршака, Горький вступался за выпускаемые нами книги и за вовлеченных нами в работу литераторов. Вступался статьями в «Правде», в «Литературной газете», личным обращением к власть имущим... И вот – Горького нет. Звать на помощь некого.
Разгром редакции начался исподволь: прежде всего сняли нашего директора, Льва Борисовича Желдина, не глядя на всю его правоверную партийность. В замену ему явились двое: Криволапов (директор) и Мишкевич (главный редактор). Им, по-видимому, и поручено было Большим Домом подготовить «материал»: сначала мы должны оказаться вредителями, а потом уже Большой Дом сам рассортирует, кого и как отправить на тот свет: прямиком, тут же в коридоре (выстрелом в затылок), или долгим эшелоном на долгую предсмертную муку (в лагерь).
Мишкевич и Криволапов нашли себе в искоренении крамолы достойных помощников. Это был секретарь партийной организации, заведующий производственной частью, Комолкин; затем Дмитрий Иванович Чевычелов – существо без возраста и национальности, уродец в тюбетейке, не лишенный, однако, профессиональных навыков: он был нашим политредактором, или, попросту говоря, прикрепленным к Ленинградскому Детгизу цензором. О Чевычелове и его профессии Маршак сочинил однажды веселую «Песенку утренних птиц»:
Чевы-чевы-Чевычелов!
Чего в «Чиже» ты вычитал?
Чего в «Еже» ты вычеркнул?
Чевы-чевы-чевы!
Чевычелов вычитывал и вычеркивал и проверял политическую грамотность редакторов с большим усердием.
Так, побудил он однажды Желдина объявить мне выговор в приказе с занесением в личное дело. В послесловии к одной из редактируемых мною книг говорилось: советские люди строят социализм. Книга – о Палате мер и весов – вообще была толково, дельно написана, а в казенное послесловие я не вникала. Между тем в 1936 году лично товарищ Сталин объявил, что социализм нами уже построен и мы теперь строим уже не социализм, а коммунизм. Читать газеты мне было недосуг, и потому построения социализма я не приметила. Годилась ли я в редакторы? И своевременно ли подтрунивал над Чевычеловым Маршак?
В течение многих лет Большой Дом вглядывался в «группу Маршака». Было о чем беспокоиться: ни одного осведомителя изнутри! Вокруг нас, разумеется, стукачей хоть отбавляй, но внутри основного редакторского состава – никого. А ведь именно мы отвергали одни рукописи, другие приветствовали; мы решали, какие к какому писателю предъявлять требования. И среди нас ни единого стукача! (Да еще одна бывшая ссыльная – именно я!) Достойны ли мы высочайшего доверия?.. Каждого из нас, редакторов, изредка, по одиночке, приглашали на беседу в Большой Дом, вели беседы весьма вежливо – но безрезультатно. Вежливая настойчивость встречала столь же вежливый и столь же настойчивый отпор. (О своей беседе со следователями в 1935 году, которую учтивой отнюдь не назовешь, я еще расскажу.) Для разгрома редакции понадобилось мобилизовать окружение: Анну Григорьевну Сасову – тупицу-стажерку, невежественную бездельницу, которую мы пробовали было учить, но бросили за безнадежностью. (Во время разгрома донос ее был предъявлен, например, заведующему нашей редакцией, Михаилу Моисеевичу Майслеру: она сообщала, будто бы, шагая на первомайской демонстрации, он, Майслер, подговаривал своего десятилетнего сына петь Интернационал с издевательским выражением лица.) Быстро нашла общий язык с новым начальством и курьерша, Васса Фаркаш, – толстенная баба «от станка и от сохи сразу». Она любила сидеть у окна и вязать, а мы частенько отрывали ее от любимого занятия, посылая с корректурами и рукописями к Маршаку. (Маршак подшучивал: лозунг «ближе к массам» означает «ближе к Вассам»... Ах, вовремя ли он расшутился?)
Что всех этих людей – Мишкевича, Комолкина, Фаркаш, Сасову – объединило? Ну, прежде всего, «где бы ни работать – лишь бы не работать». По должности они имели то или другое касательство к выпуску книг для детей – но именно эта обязанность их не занимала нисколько. Никакой чуткости к литературе, никаких суждений и мыслей, кроме последней инструкции Наркомпроса или ЦК комсомола. А главное – отстоявшаяся, давняя ненависть к нам. Их паразитическое существование рядом с нашей одержимостью слишком бросалось в глаза. То, что гранки сдать вовремя мы успевали, а пообедать – нет, то, что мы постоянно брали работу домой, продолжая трудиться и в выходные дни, и в отпуске, было смешно им, вызывало презрение. Да и «приказ есть приказ». Велено таких-то разоблачить – они и разоблачили.
Кем велено и кто выбирал имена будущих мертвецов? Этого я не знаю. Заказывал доносы Большой Дом, а Мишкевич—Фаркаш с наслаждением спешили заказчику навстречу. Так. Но кто предписывал Большому Дому заказать донос на того человека, а не на этого? Фирма ли Мишкевич—Фаркаш, ощутив, что наступил ее звездный час, побуждала Большой Дом к действию и составляла списки – то есть действовал ли Дом по инициативе снизу или только по предписанию свыше, не внемля хищным мольбам Мишкевича и ему подобных? Что раньше – курица или яйцо?








