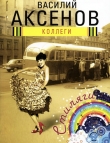Текст книги "Особенная"
Автор книги: Лидия Чарская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
– Так нельзя! Нельзя! – захваченная своим волнением, пылко говорила, торопясь и несказанно горячась Лика: – вы доводите до полного отчаяния таким отказом бедную девочку. Поймите одно: она же говорила, ей нельзя возвращаться в мастерскую, хозяйка ее там прибьет до смерти. Кто знает? еще могут ее искалечить побоями. Ведь она просила, ах, как просила оставить ее здесь… Верните же ее… нельзя ее пускать! Господи! Господи! как страшно все это! До полусмерти забьют неповинного ребенка. Что тогда будет со всеми нами? Да наша совесть замучает нас всех, членов общества защиты от жестокого обращения с детьми! Разве мы ее защитили, эту Феню? Разве мы сделали для нее все, что надо было… Завтра уже может быть поздно будет. Завтра. Да если бы я, кажется… Господи… не знаю только, только…
Лика не договорила. Крупные слезы, все время наполнявшие ее большие серые глаза, медленно выкатились из них и повисли на длинных ресницах.
Едва только она закончила свою так неожиданно вырвавшуюся из уст ее пылкую речь, как тотчас же, вслед за нею загудел могучий бас баронессы Циммерванд, в свою очередь с волнением ловившей каждое слово молодой девушки.
– Пойди ты ко мне, моя прелесть, дай ты мне, старухе, как следует расцеловать тебя! – и когда золотистая головка Лики прильнула к ее могучей груди, великанша продолжала гудеть своим неописуемым басом, оглядывая собрание торжествующими и умиленными в одно и тоже время глазами: – А ведь она права. Устами детей Сам Господь глаголет! Девочка, ребенок, всех нас, взрослых да старых, уму-разуму научила. Мы тут бобы разводим, тути-фрутти всякие, а там молодые жизни гибнут. Куда как хорошо!
– Девочка моя! – обратилась она к смущенной Лике, – большое тебе спасибо, что ты меня, старуху глупую, уму-разуму научила! Ведь и я тоже… против Фени этой грешна была, а ты мне точно страницу из Евангелия прочла, как мне поступать велено. Ах ты, умница моя, родная!
– Арсений! Что эта девочка, не ушла еще? – обратилась она к почтительно склонившемуся пред нею лакею.
– Никак нет-с, ваше превосходительство, она здесь, еще на кухне!
– Так подавай нам ее сюда да скажи ей по дороге, кто за нее ходатайствовал, – обрадовалась и заторопилась старая баронесса.
– Слушаю-с!
И Арсений вышел, мягко шурша подошвами.
– Ну, что притихли? – снова обратилась старуха ко всему действительно притихшему обществу, – не по-формальному, не по-законному Циммервандша поступила скажете? а? «сбрендила»? на старости лет старуха? – Да, пусть «сбрендила», по вашему по-законному вышло. Что делать? Что делать, друзья мои! Еще раз повторяю, устами детей сам Бог… – она не договорила, махнула рукой и повернула голову к двери, на пороге которой уже стояла Феня. Баронесса улыбнулась девочке своей доброй улыбкой: – Вот твоя ходатайша, благодари ее! – и она указала рукой ребенку на смущенную Лику.
– Барышня моя золотая! Ангел вы мой! Спасительница! всю мою жисть неустанно за вас Богу молиться буду. Спаси вас Господи, – снова залепетала Феня и, как сноп, рухнула к ногам Лики.
– Господи! Ей худо! Худо ей! Помогите, – взволнованно пролепетала испуганная девушка, – ах, Боже мой, какое несчастье! Воды! Капель… Феня! Феня… Что ты!
Лика сама была близка к обмороку в эту минуту от потрясающего ее волнения. Почва точно уходила из-под ее ног, голова кружилась. Ей хотелось и плакать и смеяться в одно и то же время.
Все переживаемое ею давало себя сильно чувствовать молодой девушке.
– Успокойтесь! – вдруг раздался звучный мужской голос над ухом Лики, – вот вода! Выпейте! Она вас несомненно успокоит, бедное дитя! – и чья-то рука протянула ей стакан, до краев наполненный водою.
Лика повернула голову и встретилась глазами с князем Гариным.
– Благодарю вас, – тихо, чуть слышно прошептала она.
– Нет, уж не вам, мне, старику, позвольте лучше поблагодарить вас, дорогое дитя, – произнес он своим певучим красивым голосом, – за то, что познакомили меня сегодня с настоящим драгоценным порывом настоящей русской души! – и низко склонив перед вспыхнувшей до ушей Ликой свою красивую седеющую голову, князь отдал всем короткий общий поклон и исчез за толпою окружавших Лику дам из глаз девушки.
В ту же минуту Лика услышала взволнованный голос матери, и перед ней предстало нахмуренное лицо бледной Марии Александровны со следами явного волнения на нем.
Лика едва узнала в нем прежнее, всегда обаятельное, чудно ласковое лицо прежней ее чаровницы мамы.
От Марии Александровны как бы веяло ледяным холодом. Что-то суровое залегло между бровями.
– Pardon! – еще раз сухо проронила едва пробираясь сквозь толпу дам к креслу дочери. Потом взяла под руку Лику и вывела ее из залы.
На пороге вестибюля их догнала великанша баронесса.
– Послушайте, chere ami, вы должны привести ко мне вашу прелестную девчурку! – прогудела она вслед им своим неподражаемым басом.
– Что за ужас вы выкинули сегодня! – словно чужим, деревянным голосом, вдруг ставшим внезапно похожим на голос Рен, начала Мария Александровна, лишь только она с дочерью очутилась в карете, все время ожидавшей их у дома княжена.
– О, мама! – могла только выговорить Лика.
– Ты скомпрометировала меня перед обществом, Лика, – еще строже произнесла Мария Александровна. – Эта Нэд Гончарина и обе княжны Дэви сегодня же разнесут по городу, что у меня невоспитанная оригиналка-дочь. Какой ужас!
– Но, мамочка! – снова взмолилась Лика.
– Молчи лучше! Ты была неподражаема с твоей защитительною речью! Точно какой-то присяжный адвокат в юбке. Ужас! О чем думала тетя Зина! Как она воспитала тебя! Разве можно молоденькой девочке таким образом разговаривать со старшими? Что ты хотела показать, наконец, своим поступком; что все мы отсталы, бессердечны и глупы, а что ты одна только сумела вникнуть в самую суть дела и придать ему истинную оценку? И эта странная, вроде тебя самой, баронесса, прославившаяся на весь Петербург своей оригинальностью, и князь такой же оригинал и эксцентрик! Что скажет обо всем этом принцесса Е…, высокая покровительница нашего общества?.. А графиня Муримская и графиня Стоян? У них дочери воспитаны в полном повиновении старшим и твоя выходка поразила их всех.
«Мама! – хотелось крикнуть Лике в порыве детского отчаяния и тоски, – не будь такою суровою, мама! Прости меня, ради Бога. Не сердись, умоляю тебя, милая, золотая! Мамочка! сердце мое, голубушка! Будь прежней ласковой, вернись ко мне, вернись».
Но, внезапно поймав на себе критическо-строгий, чуть насмешливый взгляд матери, Лика разом осеклась и замолчала на первом же слове.
И мать и дочь впервые в этот вечер разошлись опечаленные, огорченные по своим комнатам. Мария Александровна негодовала на Лику за ее резкую выходку, не вязавшуюся по ее мнению с условиями светских приличий. Лика страдала.
VIII

Князь Всеволод Михайлович Гарин жил в роскошном доме-особняке на самом конце Каменностровского проспекта.
Это было чудесное здание старинного барского типа, какое очень трудно встретить между новыми постройками Петербурга. Дом стоял среди огромного сада. Разросшиеся липы, буки и дубы почти скрывали его от любопытных глаз прохожих со стороны улицы.
Было около восьми часов вечера, когда князь Всеволод после утомительного дня разъездов по делам общества остановился в своем изящном кэбе у ворот своего роскошного сада, еще не потерявшего вполне своей багровой и желтой в это осеннее время листвы.
Князь возвратился домой сегодня позднее обыкновенного.
После отъезда матери и дочери Горных с заседания общества, он побыл еще около четверти часа в гостиной княжен, потом отправился хлопотать по делам общества, исполнять не легкие обязанности его секретаря. По пути мысли князя то и дело возвращались к сегодняшнему случаю, происшедшему на заседании.
Добрый, отзывчивый и очень чуткий по натуре человек он не мог не оценить поступка Лики Горной, вызванного горячностью и добротою девушки. Ее личико, возбужденное, дышащее восторженным порывом, взволнованное и прекрасное в своем порыве, стояло перед ним, как живое в ореоле золотистых кудрей. Большие, серые глаза, чистые и исполненные огня, неотступно светили князю с той самой минуты, как он увидел в них слезы, – эти прозрачные слезинки, так беспомощно повисшие на длинных ресницах Лики. А молодой звучный сильный голос девушки, напоминающий ему другой такой же сильный, врывающийся прямо в душу голос его умершей жены, не переставал слышаться князю и заставлять его вспоминать Лику.
И потом эта страстная сила, этот чистый экстаз, скрывающий в гибком, стройном, духовном облике девушки в соединении с ее изящной головкой еще более напоминали ему его любимую жену-покойницу, такую же экзальтированную молодую и прекрасную, но ни одной внешней красотою, сразу привлекла его к себе почти не знакомая ему чужая девушка. Лика Горская совсем не походила на тех светских барышень, которых он встречал до сих пор. Разве которая-нибудь из них решилась бы произнести в присутствии большого собрания свою пылкую защитительную речь в пользу бедной обездоленной девочки? Разве бы другая молоденькая барышня выступила бы так смело со своей просьбой! Разве все эти эгоистичные, жаждущие только удовольствий, девушки осмелились бы защищать права человеколюбия и милосердия?
Князь печально усмехнулся, живо вообразив себе одну из молодых баронесс Циммерванд или Нэд Гончарину на месте Лики.
Когда князь только что вошел в зал Столпиной, он сразу увидел ее с ее большой шляпой и чудным личиком.
Он сразу заметил ее сходство с покойной женой Кити, которую он обожал и которую пять лет тому назад схоронил от скоротечной чахотки – в далекой, чужой стране, где тогда служил в консульстве.
– Какое сходство! Точно то были две сестры, две родные сестры Кити и Лика!
Князь сошел со своего высокого, щегольского кэба, приказав откладывать лошадь, а сам по широкой аллее прошел к дому. Войдя в просторный вестибюль его, он проследовал оттуда дальше, минуя ряд больших просторных комнат, поражавших роскошью убранства, достиг, наконец, кабинета, сплошь заставленного массивными шкафами красного дерева и бюстами Вольтера, Ницше, Шопенгауэра, Спенсера и прочих крупных философов мира.
Князь любил философию больше прочих родов науки. Не меньше ее любил и путешествия князь Гарин. Почти всю свою жизнь он проводил за границей. Его манила красота, та античная красота древней Греции, которая водила слепца Гомера во время его создания «бессмертной» «Илиады», которая создавала людей, похожих на богов и титанов, которая воздвигла мощную силу классической Эллады. Манила не менее и красота в природе. Только причудливо переплетенные кисти плюща, чуть дышащие лепестки розы и готические колонны древних развалин какого-нибудь греческого портика действовали в почти одинаковой силе на причудливую натуру князя.
Он рыскал по свету, делал огромные концы, кидался от холодных волн Ледовитого океана к певучим водам теплой Адриатики, ища чего-то неуловимого и неопределенного, чего-то смутного, как сон.
И только когда он погружался в чтение своих философов, отыскивая в них решение того, что казалось ему самому непонятным и что они решали так просто и легко или же занимался пением своих излюбленных, им самим скомпонованных песен, князь Гарин находил некоторое удовлетворение и затихал на время от своей печали.
А печаль у него была крупная, большая, мучительная и неизлечимая. Пятнадцать лет тому назад он встретил на своем пути хрупкую, нежную и очаровательную девушку и назвал ее своей женой. Счастье их брачной жизни было не прочно. Прелестная Екатерина Аркадьевна таила злой недуг в груди. Ее родители передали ей в наследство этот семейный недуг. Чтобы поддержать эту хрупкую жизнь, князь Гарин увез жену за границу. Там она тянула десять мучительных лет, чтобы растаять, умереть на одиннадцатом. За год до смерти своей, молодая еще, двадцатисемилетняя княгиня, не имея собственных детей, привязалась к маленькой японочке-сироте, которую они с мужем подобрали на улице. Это было в Токио, столице Японии, в стране «Восходящего солнца». Малютка Хана, княжеский приемыш, так привязалась к умирающей, так полюбила княгиню, что перед смертью молодая женщина умоляла мужа оставить у себя девочку, перевезти ее в Россию, лелеять и холить, как родную дочь. И князь Гарин без малейшего колебания исполнил просьбу обожаемой супруги. Княгиня Екатерина Аркадьевна умерла под кровом далекого восточного неба… Там, на берегу Тихого океана, потерявшийся от горя и отчаяния князь, ухватился как утопающий за соломинку – за свою последнюю привязанность на земле, оставшуюся ему в наследство после княгини, – за маленькую еще тогда семилетнюю японочку Хану. Благодарный и тронутый ее рабским обожанием покойной воспитательницы князь Гарин, в свою очередь, как родной отец, привязался к девочке. О ней думал он и теперь, сейчас, вместе с мыслями о доброй, милой Лике, сидя в своем огромном кабинете, с потухшею сигарою в руке.
Внезапный легкий стук в дверь вывел князя из его глубокой задумчивости. Он спросил по-французски:
– Ты, Хана? Войди, малютка!

Портьера зашевелилась и между двумя половинками тяжелых бархатных драпри появилась странная, маленькая фигурка, совсем молоденькой девочка в голубом, расшитом цветными шелками по лазурному фону, кимоно, [9]9
Японский халатик.
[Закрыть]особенный род платья, какие носят японки. Вошедшая была еще совсем ребенком. Она казалась крошечной куколкой с ее прелестным, как бы фарфоровым личиком, по которому то здесь, то там ясно и отчетливо проступали голубые жилки; с черными кротко-шаловливыми глазками и с алым ротиком, похожим на два маковые лепестка. Ее изжелта-белое личико напоминало своим цветом цвет слоновой кости. Высокий, розовый оби (шелковый пояс) с золотыми шнурами на концах был завязан громадным щегольским бантом на узкой тонкой спине этой маленькой куколки; из-под распахивающихся пол халатика-кимоно выглядывали крошечные ножки девочки, обутые в щегольские, шитые золотом европейские туфельки, на голове вздымалась высокая прическа из блестящих, словно глянцем покрытых волос, прическа, обильно снабженная всевозможного рода черепаховыми гребнями, золотыми ободками и металлическими стрелами и шарами. Руки этого миниатюрного создания были почти сплошь унизаны бесчисленными браслетами и запястьями, которые при каждом движении производили металлический звон.
Ее можно было бы свободно принять за семилетнюю по росту, хотя Хане было уже от роду двенадцать лет.
– Здравствуй, papa Гари! – проговорила она едва понятно по-русски. (Этому языку выучил ее князь). И, подбежав к отцу, вскарабкалась на ручку его кресла.
– А ты опять по-своему оделась, Хана! Зачем? Сколько раз я просил тебя, дитя мое, приучаться к нашему европейскому платью, – недовольно нахмурив брови, но скорее печально нежели строго, произнес князь, бросив беглый, проницательный взгляд на прелестный костюм японочки.
– Так ты никогда не приобретешь европейский образ, моя девочка.
– Но ведь Хана надела же русские сапожки, – засмеялась звонким совсем детским смехом, похожим на шелест весеннего ветерка, Хана, забавно ломая и коверкая слова. – Гляди! они золотые, точно желтые хризантемы нашей страны. А если бы и так, – прибавила она с лукавой усмешкой, – а если бы и так! Хана не любит русского платья, в нем тесно, неудобно; у себя в Токио Хана его же не носила никогда.
– Но у себя Хана была маленькой дикаркой. А теперь, когда Хана в России, ей надо вести себя иначе, – с улыбкой проговорил князь, ласково гладя блестящую, черную головку своей воспитанницы.
– А papa Гари разве едет сегодня куда-нибудь? – с любопытством, понятным ее возрасту, осведомилась японочка, не отвечая на замечание отца.
– Нет, твой papa проведет с тобою вечер, будет читать тебе книжку и учить тебя русской азбуке, – печально и ласково говорил князь. Таким печальным и ласковым он был всегда со дня смерти любимой жены, в лице которой лишился большого друга.
– Вот славно! – обрадовалась Хана и даже, подпрыгнув на своем месте, захлопала в крошечные ладоши, причем все ее бесчисленные браслеты зазвенели еще музыкальнее и звонче на ее руках. – А потом Хана споет тебе песенку о красавице-мусме (девушке), взятой морем? Хорошо, papa Гари? Хочешь, папа Гари? Да?
– Нет! Не пой мне сегодня, Хана! Мне не до песен, моя малютка.
– Ты опять скучаешь по маме Кити? ты болен? – уж тревожно спрашивала маленькая японочка, подняв свои тоненькие, словно выведенные кисточкой с тушью брови и делаясь уже совсем похожей на маленького ребенка с этим, замечательно шедшим к ней, наивно-милым выражением лица.
– Успокойся! Со мной не случилось ничего особенного, Хана, мне просто взгрустнулось нынче, – успокоил ее князь.
– Тебе скучно! – печально улыбнулась малютка, с преданностью собачки глядя в глаза названного отца, которого она называла papa Гари не будучи в силах произнести его имени. – Но позови тогда своих друзей и родственников, papa, купи сладкого, фруктов и конфет, вели Хане надеть ее новый, лучший кимоно и новый пояс оби и вели ей спеть свою лучшую песенку. И тогда милый отец перестанет скучать… Верно говорит Хана?
– Нет, моя малютка, не перестанет, – печально усмехнулся князь и, взяв в обе руки ее крошечное личико, поцеловал в детский открытый лобик. Маленькая японочка вся просияла от этой ласки единственного близкого ей в мире человека. Всю свою бесконечную любовь к покойной княгине она теперь перенесла на князя. Он был для нее в одно и то же время и отец и друг, добрый старый друг сироты Ханы, увезший ее так далеко от голубого неба ее родины, который любил и баловал ее как собственного ребенка. Князь, на сколько мог, старался скрасить жизнь своего маленького приемыша.
По ее неотступной просьбе, он отделал с возможной роскошью ее комнатку, разбросал в ней мягкие циновки и татами, [10]10
Подушка для сиденья. В Японии сидят на циновках и подушках прямо на полу.
[Закрыть]расставил всюду хорошенькие ширмочки, выписанные из Японии, развесил разноцветные фонарики, чтобы как можно точнее воспроизвести родную обстановку в ее памяти и напоминать ей ее далекую, покинутую родину, по которой она скучала. В углу комнаты князь устроил настоящую японскую хибаччи, [11]11
Жаровня огня.
[Закрыть]около которой грелась малютка. В противоположном же углу комнатки стояла высокая конусообразная самогрелка-ванна, [12]12
Японцы ежедневно берут горячие ванны.
[Закрыть]которую ежедневно наполняли горячей водою и в которой купалась Хана, согласно привычке своего народа.
На полочках по стенам комнаты, выстеганным голубым атласом, были расставлены крошечные изображения Будды и маленькие кумиры. Перед ними лежали засохшие цветы, травы; кусочки пирожного и конфет казались в виде жертвоприношений перед ними, тут же стояли японские чашечки величиною с наперсток, наполненные до краев душистым, ароматичным чаем. Словом, всевозможные дары, которые ежедневно приносила в жертву своим божкам аккуратная маленькая Хана.
Князь никак не мог убедить девочку принять, христианство. Хана молилась по-своему своим божкам и ни о чем другом и слышать не хотела. В этой странной азиатской комнатке постоянно пахло ирисом или мускусом, и сама ее маленькая хозяйка походила на редкий и нежный цветок. Даже самое имя «Хана» значило цветок по-японски, – красивое имя, по мнению маленькой девочки, которым она справедливо гордилась.
Здесь, в ее прелестном уголке, было немало и настоящих цветов. Князь заботился о том, чтобы его приемной дочурке, любившей цветы с трогательным постоянством, было приятно видеть их всегда перед глазами. Тут были и желтые и розовые и белые, как снег, хризантемы, наполнявшие фарфоровые вазы, расставленные на низеньких, в виде подносов и скамеечек, столиках, и редкостные лотосы, дети оранжерей, и розы всевозможных цветов и оттенков. Цветы заменяли игрушки Хане.
И когда ей становилось невыносимо тяжело и грустно без этой родины, без ее славного «Дай-Нипон», о котором она сладко и грустно мечтала, бедная девочка брала свой музыкальный ящик и извлекала из него жалобно-певучие звуки, подтягивая им своим тонким, как пастушья свирель, голоском.
Обыкновенно это случалось в то время, когда ее дорогой приемный отец уезжал из дома, а гувернантки, приставленной к ней, Хана дичилась и избегала почему-то.
Умерла княгиня Гари, «мама Кити», и papa Гари оставляет Хану одну, – трогательным голосом жаловалась девочка в своих, ею самой сочиненных, песенках. Она тут же развивала приходившие ей мысли в целые песни и пела эти заунывные японские песенки на весь дом звонким и нежным голоском.
Но сегодня ей не хотелось плакать. Ей было хорошо сидеть так, подле ее названного отца, который раскрыв большую книгу азбуки с раскрашенными картинами, учил по ней читать маленькую Хану.
Сегодня Хана как-то особенно трогала князя и в голове его, в этой убеленной, благодаря пережитому горю, ранними преждевременными сединами, голове невольно вставала мысль!
– Бедная девочка жестоко скучает в одиночестве. Никакие гувернантки не смогут заменить ей той сердечной ласковой привязанности, которую она встречала в лице покойной княгини. Хорошо было бы найти ей такого же доброго друга, любящего и отзывчивого, который бы позаботился о ней; старшую сестру и подругу, которая бы сумела занять, развлечь Хану, приучить ее понемногу, исподволь к мысли принять христианство, быть ее названной матерью и руководительницей, как трогательно его просила перед смертью своей княгиня Кити, обожавшая маленькую японку, как собственное горячо любимое дитя.
– Женись поскорее вторично, Всеволод, иначе тоска загубить тебя и нашу бедную малютку в одиноком огромном Петербургском доме… Душа Ханы ищет веселых детских радостных впечатлений, звучит еще и сейчас в его ушах нежная предсмертная мольба покойнице.
Но князь был далек от мысли вступить в брак вторично. Слишком уж исключительно прекрасно было сердце усопшей доброй княгини!
И такой другой женщины, по мнению князя, не могло более встретиться на земле. Так, по крайней мере, думал князь до сегодняшнего дня, а сегодня перед ним неотступно стоял образ бледной взволнованной девушки с золотистыми прядями пушистых волос, со смелой горячей речью, образ Лики Горной с ее прекрасным порывом любви и милосердия, с ее ангельской добротою.
И потом, это поразительное сходство с покойной женою! То же обаяние, та же кротость во всем существе.
– Ты хотела бы снова увидеть море, Хана? – чтобы спугнуть странное впечатление, обратился он к своей питомице.
– Море? Какое? – так и встрепенулась она точно маленькая птичка.
– Ну море… океан, что ли, ваш океан, тихий… Хотела бы ты его повидать?
– О!
В этом «о» вырвалась такая бездна чувства и скорби по оставленному родному краю, что князь Гарин невольно крепче прижал к себе черненькую головку, исполненный жалости к ней.
– И Токио хотела бы видеть? И Физияму? [13]13
Красавица – гора близ Токио, считающаяся у японцев священной.
[Закрыть]– и родные зары… и дженерикши, [14]14
Колясочки, которые возят на себе люди.
[Закрыть]и Курума… [15]15
Человек-лошадь.
[Закрыть]Да? Хана? Скажи мне все, что чувствуешь, скажи мне правду, крошка моя!
Глаза маленькой японки блеснули, личико ее заалелось.
– Ради всего тебе дорогого не говори этого, отец мой! Не говори так! – вскричала она, прижимая свои крошечные ручонки к сильно забившемуся сердечку.
– Ты тоскуешь по родине, Хана? Хочешь вернуться туда?
Глаза маленькой японки расширились в каком-то благоговейном ужасе.
– Кван-Нан! [16]16
Богиня милосердия.
[Закрыть]Родина! Наш океан. Наше солнце!
– Хана моя, бедная, маленькая девчурочка! Хочешь ехать со мною на родину, спрашиваю я тебя?
– В Дай-Нипон? Навыки? Совсем? – чуть слышно поняли ее дрожащие губки.
– Это будет зависеть от тебя самой, пожелаешь – вернешься в Россию, нет – останешься там навсегда, малютка?
– А ты разве, papa Гари, останешься там со мною?
– Нет, я отвезу тебя туда, помещу там в надежные руки, останусь ждать тебя здесь, пока ты не пожелаешь вернуться ко мне, моя дочурка! – ответил князь, ласково гладя Хану по головке. Она забилась сильнее и вдруг застонала, до боли прикусив зубами свои яркие губки.
– Не хочу! Не хочу! Не останусь, не останется там без тебя твоя Хана! Помнишь, что «она» сказала Хане? Она велела беречь отца, papa Гари… Беречь до смерти… А Дай-Нипон и океан сберегут боги небес. И Хана останется с тобою, отец, ей не надо и родина, если papa Гари не останется там с нею! – волнуясь, заключила девочка.
И в экстазе любви и самоотречения, Хана прижалась губами к рукам ее названного отца.
– Крошка моя! – радостно произнес князь Всеволод, растроганный этой беззаветной преданностью своей приемной дочери.
– Да благословит тебя Бог за твое сердечное чувство к твоему papa Гари!