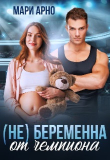Текст книги "Джаваховское гнездо"
Автор книги: Лидия Чарская
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
ГЛАВА 6

Величественно и гордо вздымаются горы. Мохнатые, темные купы деревьев кроют их склоны. Уступ за уступом, терраса за террасой. Целая лестница вверх, к белой, покрытой вечным снегом шапке старого великана Эльбруса. Синеватым туманом окутаны горы. Грудь их темна, а белые вершины сверкают ослепительным светом в лучах восходящего солнца.
Простым взглядом не окинуть эту великолепную, непобедимую голову. Ослепнешь в ее сиянии в яркое летнее утро. Среди теснин – зеленые, как изумруд, долины, прорезанные потоками, берущими свои воды и силы у знаменитого аварского Койсу, этого князя-властителя всех дагестанских рек. Там, где княжество Койсу, там голые, дикие скалы, там редкие сосны, простоявшие века, там цепкие кусты карагача и каменные отвесы с холодным поутру росистым склоном.
Здесь – горы зеленые и пышные, как надежды юности. Здесь чаще бывает солнце. Здесь, в зеленых полянах, примыкающих к скату, в затерянных среди утесов котловинах, пасутся овцы, бараны и табуны лезгинских, легендарных по выносливости коней.
Среди котловин мелькают дивные и редкие цветы. К угрюмым скалам льнут нежные золотые гроздья азалий. А рядом – дикие лилии, нарядная ярко-розовая персидская ромашка, лазурно-белая аквилегия, великанши центаврии.
А еще дальше, выше, где нет лилий, ромашки, азалий и роз, где высятся хмурые головы скалистых горных теснин, по самому скату их лепятся сакли. Это дагестанский аул Бестуди. Как ласточкино гнездо к крыше, прилеплен он к склону горных великанов, тесно прижавшись к их могучей груди. Над ним высятся развалины когда-то крепкой и неприступной сторожевой башни. Есть в нем и несколько каменных двухъярусных зданий: наиба селения, муллы, какого-то горского князя. Но все больше глиняные, сложенные из горных обломков домики-сакли. Узкие улицы, как горные потоки, разбегаются от площади, среди которой стоит мечеть с ее длинным минаретом, с высоты которого три раза в день мулла-муэдзин призывает к намазу мусульман. А ниже, за скатом гор, открывается огромная котловина, оцепленная утесами. Там усадьба богатого, знатного бея Мешидзе, покойного наиба аула, умершего два-три года тому назад.
Бек-наиб умер. Жена его тоже. Усадьба состарилась, обветшала. Но чьи-то зоркие глаза сторожат ее. Чья-то властная рука оберегает эту каменную, недоступную, благодаря окружающим ее горам-стражникам, саклю и прилегающие к ней угодья. «Совье гнездо» – называют лезгины таинственную усадьбу. И с невольным жутким смятением проезжают мимо нее по ночам запоздавшие путники.
* * *
Вечер. Запахло ночными цветами. Поднялись из бездны синие туманы, окутали горы. Закурилась пропасть знойным душистым паром.
Молодой, в рваном бешмете, унизанном серебряным почерневшим позументом, мальчишка-лезгин гонит баранов по горной тропинке в селение.
Солнце не скрылось, а как-то разом упало в бездну. Звонче, голосистее запели горные ручьи. В зеленой котловине зажглись огоньки. Осветилась большая каменная сакля, прильнувшая к каменной груди соседа-утеса. Круглые и продолговатые оконца ее единственного яруса светло улыбнулись синеокому принцу-вечеру, скользнувшему из-за гор.
В небольшой освещенной горнице, на широкой тахте сидит Леила-Фатьма, закутанная в чадру.
Стены и пол сакли обиты коврами. Всевозможное оружие, с чеканными, отделанными в серебро и золото рукоятками, навешено поверх них. Перед Леилой-Фатьмой прибор для курения. Из тонкой трубки вьется душистый дымок кальяна. На грифельном одноногом столике стоит небольшая чашечка с черным турецким мокко. Кругом на полках расставлена дорогая серебряная домашняя утварь. Серебро – любимейший металл лезгинского племени – дорого ценится и в Бестуди, тогда как к золоту здесь равнодушны. Женщины-лезгинки проводят в труде весь день с утра до ночи. Они, между прочим, ткут тончайшие сукна за самодельным станком, расшивают их хитро сплетенным серебряным позументом, в то время как мужья-повелители их лежат на тахтах, беседуют с соседями и пьют шипучую бузу. Помимо пряжи, шитья, вышивания, лезгинки работают и в поле, и в лесу, и на дворе.
Леила-Фатьма – лезгинка. Но она богатая, важная лезгинка. Не для работы создана она. Ее руки непривычны к труду с самого детства. Она сроднилась с довольством, богатством и золотом. Золото, деньги она любит больше себя самой.
Точно мумия, неподвижно сидит Леила на тахте. Ее наряд – не наряд лезгинки. Те носят простые бешметы, синие рубахи, красные покрывала до пят из кумача, сплошь зашитые монетами с бахромою. У нее – смесь пестрых цветов, алого канауса, персидского бархата, голубого шелка. Она по виду почти старуха, хотя ей нет еще и сорока лет.
Восточные женщины старятся рано. И Леила кажется много старше своих лет. Ее седые космы торчат из-под чадры. Глаза ее дикие и блуждающие, неспокойные глаза. Жутко и хищно ее бронзовое, морщинистое лицо. Но наряд ее блещет яркостью и красотою.
Кораллы, монеты, серебряные бляхи, ожерелья броней кроют ее высохшую грудь.
Она курит кальян, чего не делает ни одна женщина аула. Курение – запрет Аллаха. Но что Леиле-Фатьме Аллах!
Шайтан, грозный дух бездн и гор, – ее защитник и повелитель. Ему служит Леила-Фатьма, ему! Раз она уклонилась от него, приблизилась к Алле и что же? Грозный дух поразил ее безумием. И она была пленницей у этой гордой, ненавистной «уруски» – Нины Бек-Израил.
Теперь она снова на свободе. И снова может служением шайтану нагребать кучу денег от проезжих богачей.
То, что умеет делать она, Леила-Фатьма, не сможет, не умеет ни один смертный.
При одном воспоминании об этом молодо вспыхивают ее глаза, выпрямляется сгорбленная фигура и горделиво поднимается голова.
Почтительное, несмелое покашливание у дверей приводит ее в себя.
– Ты, Гассан?
– Так, госпожа моя, твой верный Гассан пришел тебя потревожить.
Пожилой татарин стоит перед нею. Его фигура высока и сильна, как у атлета. Его грудь – грудь гиганта. Маленькие глаза блещут пронырливостью и умом. Несокрушимой силой веет от всего его существа, точно высеченного из камня.
Он, Гассан, помнит еще с юности Леилу-Фатьму, служил ее отцу, теперь служит ей верой и правдой.
– Там пришли дидайцы наниматься. Клянутся, что будут немы, как рыбы. Два мужа и один мальчишка.
– Как одеты они?
– У них больше заплат, нежели речей. За туман в месяц будут покорны, как псы, и…
– Позови их, Гассан. Ты знаешь, я распустила прежних слуг. Только ты с семьею остался у меня. На соседей-лезгин нельзя положиться. Опять известят Нину. Опять та приедет сюда и увезет меня с собою. Дидайцы надежнее, их можно купить золотом, этих цунтов.[12]12
Оборвышей – так называют другие, богатые племена дидайцев.
[Закрыть]
– Они величают себя цези,[13]13
Дидайцы зовут себя орлами-цези.
[Закрыть] госпожа, – усмехается Гассан.
– Пусть войдут, – приказывает Фатьма.
– С чистыми помыслами, с душами хрустальными, как слеза, войдите!
Гассан приподнимает полу ковра.
В отверстии двери появляются три фигуры. Косматые, старые, грязные папахи клочьями падают им на лица. Одежды всех троих рваны, как решето.
– Привет мудрой Леиле-Фатьме! – выходя вперед, говорит один из них. – Мы прослышали, что ищешь нукеров для своего гнезда.
– Да будет благословен ваш приход пророком! Вы слышали правду. Я ищу слуг. Гассан и его сыновья-джигиты у меня в усадьбе и в доме. Вас же возьму я сторожить мою низину, саклю и поля. Я буду щедра, как шах, дидайцы, но молчание – высшая служба ваша. Сумеете ли хранить его, друзья?
– Как бездны хранят свои тайны, госпожа, так и мы сохраним твою!
– Все, что делается в моей сакле, для людей – могила. Что бы ни увидели вы – да умрет в вас, да умрет!
– Клянусь за себя и друзей моих! – отвечает старший оборванец, Мамед.
– Все мы клянемся именем Аллаха! – вторят остальные.
Леила-Фатьма встает. Глаза ее полны мрака. Грозно лицо ее под легкой чадрой.
– Повторяйте за мною, – говорит она повелительно. – Пусть померкнет свет очей наших, пусть дикий тур растерзает наши тела, пусть горный дух задавит нас своими когтями, пусть бездна проглотит нас и сам шайтан заглянет нам в лицо, если мы откроем тайну Леилы-Фатьмы! Да будет так!
– Да будет так! – в голос произнесли дидайцы, подняв правые руки к потолку.
– А теперь жена Гассана заколет в честь вас барана и откроет свежие кувшины с бузой. Пируйте, джигиты! Утро вечера мудреней. Завтра на заре Гассан разбудит вас и раздаст вам новое платье, патроны и винтовки.
* * *
Снова вечер. В котловине «Совьего гнезда» жгут костры с той минуты, как ушел в бездну кровавый диск вечернего солнца. Исчадьями гор кажутся тени людей, подбрасывающих сухие сучья в огонь. Это Гассан, его два сына и три дидайца наблюдают за кострами.
В главной сакле усадьбы мелькает быстрая фигура юркой старушки.
Жена Гассана, Аминот, расставляет в кунацкой для гостей приборы для курения, кувшины бузы и блюдечки с шербетом и вареными в меду плодами. На дворе за саклей жалобно блеют молодые барашки. Их ждет печальная участь. Их заколют в честь приезжих гостей.
Эти гости не простые люди: кабардинский князь, который едет через горы, в самую Темир-Хан-Шуру по личному делу и его друзья. Богатый князь Казан-Оглы-Курбан со своей свитой.
Он знал еще старого наиба Мешедзе, давно знает и дочь его Леилу-Фатьму, слывущую пророчицей, колдуньей. И теперь, проездом, хочет изведать у нее Казан-Оглы-Курбан свою судьбу, будущее своей поездки, а кстати и попировать на перепутье. Посланный вперед в «Совье гнездо» нукер Аги сообщил своему господину ответ Фатьмы, пророчицы Бестуди: «Просит пожаловать отважнейшего из джигитов, просит поглядеть на такие чудеса, каких не встречал он, наверное, у себя на родине, ни в Верхней, ни в Нижней Кабарде».
Какие такие еще чудеса?
Ночь подкрадывается тихо и незаметно.
Полнеба уже заткано золотыми блестками звездных очей. Ржание коней слышится за соседним утесом.
– Гассан! Юноши! Мамед! Рагим! Али! Спешите навстречу! Подержите стремя князя. Введите почетного гостя под руки в дом. Аминот, клади на вертел свежего барана. Готов ли хинкал?
Хриплый голос Леилы-Фатьмы теперь стал точно моложе, звонче. Властные нотки зазвучали в нем.
Суетливо забегали черные очи. Она задумывается на минуту, соображает.
– Гостям еще не скоро попасть в саклю. Пойду приготовить мою белокурую гостью.
Дочь наиба отбрасывает ковер у двери, входит в соседнее помещение. Здесь ее горница. В углу из войлоков и подушек ложе для отдыха. Какие-то пучки трав, удушливых по аромату, разбросаны здесь и там. Легкое пламя ночника, жировой плошки с фитилем из кудели, колеблясь, освещает спальню. Быстро минует она ее. Дальше, дальше. Еще ковер, еще дверь.
Голубой фонарь, приобретенный еще отцом, наибом, у проезжих торгашей-персов, бросает неверный, словно лунный, свет на обстановку комнаты. Странная обстановка! Окон не видно, дверей тоже. Легкая шелковая, персидской же ткани, завеса в углу. Она колеблется неверно от малейшего движения воздуха.
Здесь нет ни тахты, ни диванов. На полу, поверх ковров, пушистых и мягких, как мхи на горных склонах Аварских ущелий, раскиданы звериные шкуры, меха: темно-бурый – медвежий, темный – лисий, белый – заячий и козий и золотисто-коричневый – олений, гладкий, отливающий сталью в голубых лучах фонаря. Поверх них набросаны серебром затканные подушки. В четырех углах этой странной комнаты стоят грифельные треножники. На них курится что-то пряное, сладкое, невыразимо пахучее, дурманящее мозг. Серебристый дымок чуть заметной струйкой плывет вверх к потолку со всех четырех концов комнаты и сливается в одно прозрачное облачко посередине ее.
Удушливый аромат мускуса, амбры и еще какого-то неведомого ядовитого цветка наполняет горницу, странную, как храм какого-то непонятного и неподвижного божества.
Тяжелая шелковая ткань тщательно укрывает стены. На ней начертаны вязью непонятные арабские письмена, изображения луны, полумесяцев и звезд, рельефно выделяющихся на фоне голубой ткани.
Леила-Фатьма, жадно вдохнув в себя всею грудью смесь ядовитого курева и духов, легкой кошачьей поступью пробирается к таинственной занавеске.
Взмах руки, и моментально отскакивает на серебряных кольцах воздушная ткань.
Перед Леилой-Фатьмой пестрыми коврами крытое низенькое ложе. Поверх него наброшен мех дикой козы. С ее белоснежной шерстью спутываются белокурые волосы спящей. Голубой свет фонаря падает на них и на бледное, тонкое, исхудавшее личико, в котором нет ни кровинки, падает на сомкнутые черные ресницы и брови. На бледном лбу атласная повязка. Тускло играют камни на матовой коже его. Серебряный пояс плотно охватывает талию. Под широкими кисейными рукавами сквозят тонкие руки.
Этот наряд – наряд царевны. Но царевны из зачарованной сказки, из далекой, нездешней, фантастической страны.
Девушка и хрупка, и бледна, и нежна, как лилия теплиц.
Леила-Фатьма наклонилась к спящей и смотрит жадным взором в это юное бледное лицо.
О, сам шайтан помог ей в ее деле!
Такой подходящей для нее, Леилы, красавицы не найти было бы по всему Дагестану. Чутка, впечатлительна и податлива на ее чары. И к тому же сама, по своей охоте, глупая, бедная бабочка, прилетела на огонек. Такая помощница и во сне не снилась Леиле-Фатьме. С такой помощницей она будет богата, как их могучий, далекий, сказочный царь.
И, наклонившись еще ниже к самому лицу спящей, она шептала:
– Проснись, моя роза! Старая Леила пришла за тобою.
И кладет корявые черные пальцы на белокурую головку.
Лицо девушки озаряется бессознательной улыбкой. Ее губы шепчут в полусне:
– Гема? Тетя Люда? Это вы здесь, милые?
– Ха-ха-ха! Красавица! До них так же далеко, как до сакли Аллаха! – своим густым, как у мужчины, смехом разражается Фатьма. – Я здесь с тобою, стройная лань дагестанских стремнин, – я, твоя учительница и благодетельница. Проснись, восточная роза, греза самого пророка, проснись!
Синие глаза открываются широко.

– Ты, Леила-Фатьма? Опять ты?!
Румянец, чуть видный при голубом свете фонарика, нежным заревом обливает щеки.
– Ты, верно, пришла сказать мне, что мы едем? В Тифлис едем? Или в Темир-Хан-Шуру? В Москву, может быть? Или еще дальше? Неужели в Петербург? В самый Петербург? О, скажи мне, не мучь меня, не мучь меня, Леила-Фатьма! Скажи скорее, куда мы направимся?!
Глаза Дани полны надежды. Слабая радость охватывает ее душу. Она смотрит в безобразное лицо Леилы, сжимает ее руки.
Вот уже целых две недели, как она здесь, в этой душистой коробке-горнице, в этой зеленой котловине, среди диких, поросших лесом, утесов и гор.
И каждое утро Леила-Фатьма на вопрос ее, когда же они тронутся дальше, когда же начнут путешествовать с целью давать концерты, – твердит одно и то же, все одно и то же всякий раз:
– Подожди, яхонт, подожди, серебряная, подожди, золотая звездочка северных небес. Наберет побольше денег Леила-Фатьма, успокоится княжна Нина, перестанет рыскать и искать тебя в горах, и тогда уедем мы. Не только в Москву или в Петербург – в самый Стамбул уедем, к султану, играть при его дворе. Дай ты пройти времени, звездочка, дай пройти.
А время, как нарочно не идет, а ползет. Если бы не милая арфа, она, Даня, кажется, сошла бы с ума.
Уже раза три наезжали к Леиле-Фатьме богатые уздеши и беки из дальних и ближних аулов за это время. И она, Даня, играла перед ними. Они слушали ее, полные молчаливого сурового восторга, дарили ей украшения из алмазов, яхонтов и бирюзы. А Леиле-Фатьме давали денег, много денег, которые старуха хватала с жадностью и прятала в своих сундуках.
– Это мы сохраним на будущее время, ясная звездочка, на нашу поездку, белая роза, – говорила она при этом с безумным алчным блеском в глазах.
Но это еще ничто было в сравнении с главным.
Есть вещи, полные тайны и смертного ужаса, которые временами лишают Даню сознания, которые сбивают ее с толку, мешают ей рассуждать здраво.
Эти чары, которыми колдует над ней Леила-Фатьма. Как они тяжелы, как тяжелы!
Она теряет волю, временами даже самый рассудок, слепо подчиняется старухе, ее страшной воле и желаниям. Туман застилает ей глаза, а этот запах, мучительный, как удушье, эта амбра, которая курится во всех углах, одурманивает, навевает сонные грезы, порой мучительные и жуткие, как кошмар.
– Фатьма, потуши курильницы. Убери амбру. Уведи меня на воздух, в горы, – срывается с губ Дани грустная мольба.
– Молчи, горлинка, молчи! Слышишь, кони стучат подковами на дворе. Карган-ага едет. Это важный, знатный гость. Много заплатит денег Фатьме кабардинский князь. Играй только получше, горлинка зеленого леса, играй получше. На деньги аги-князя улетим отсюда за Койсу, за Терек, за Куру, за Дон, на далекую, вольную российскую реку. Там играть станешь. Люди слушать тебя будут. Покажешь еще всю свою славу всем джаваховским кротам! Слышишь, гурия, слышишь! А теперь приготовься. Настрой золотую штучку и играй. Сам Курбан-Оглы-Ага, помни, славный князь Кабарды, тебя слушать будет. Поняла, горная ласточка, птичка моя?
И, быстро пригладив непослушную прядь на белокурой головке, легкой кошачьей походкой Леила-Фатьма скользит за дверь.
* * *
– Привет вам! Благословение Аллаха да будет над вами, дорогие гости!
С этими словами входит в кунацкую Леила-Фатьма.
На низкой тахте сидит, поджав под себя ноги, важного вида татарин. Он весь залит серебром. Тончайшего сукна бешмет облегает его мужественную фигуру. Сафьяновые чевяки, канаусовые шаровары, высокая папаха – все это богато разукрашено. Но лучше и богаче всего – оружие аги, заткнутое за пояс. Бирюза, яхонт, рубины играют на серебряной рукоятке его кинжала, на стволах пистолетов, на эфесе длинной, кривой сабли.
Вокруг него, на подушках и коврах, сидит княжеская свита. Это мелкие, обедневшие дворяне-прихлебатели, дальние родственники аги, живущие в его усадьбе и сопровождающие его в поездках по горам.
Лицо Курбан-аги точно застыло. Маленькая, с проседью, бородка и ястребиный взгляд подняты к потолку поверх головы Леилы-Фатьмы, когда он гордо, надменно, сухо отвечает, не меняя позы, не двинув ни одним мускулом на лице:
– Наш путь лежал мимо твоей сакли, и мы решили погостить здесь.
– Ты хорошо сделал, что не миновал моей сакли, ага. Нынче Леила-Фатьма развлечет новыми зрелищами своего гостя. Судьбу свою уже знает Курбан-аги, нынче гадать не станет Леила-Фатьма. Нынче иное увидишь и услышишь под кровлей ее, Курбан-ага!
Гассан, Мамед и другие слуги вносят миски с дымящимся хинкалом. Это род супа с мучными клецками, заправленного бараньим жиром и чесноком, – любимое блюдо горцев. Потом подают чашку с шашлыком, заправленным пряностями, и ковши с белой пенящейся бузой.
На коврах и подушках рассаживаются гости. Леила-Фатьма, как женщина, не смеет, по обычаю страны, пировать в присутствии мужчин. Она только прислуживает им с Аминат и слугами, то и дело подкладывая на тарелку аги лучшие и жирные куски баранины.
В разгар ужина кто-то вспоминает:
– Где же сазандар-певец? Шашлык не достаточно жирен, буза не довольно крепка без песен о вольной Кабарде.
Леила-Фатьма усмехается и делает знак Аминат:
– Скажи «ей». Вели играть, старуха.
Верная служанка, как тень, исчезает за дверью кунацкой.
Быстро мчатся минуты. Разговорчивее становятся гости. Буза делает свое дело. Не хуже всякого вина, запрещенного Кораном, опьяняет буза.
Поблескивают взоры, развязываются языки. Один Курбан-ага все так же важен и спокоен.
Вдруг тихие, режущие душу аккорды раздаются за стеной. Точно из райских долин и заоблачных высей слетел ангел на землю.
– Что это? Не сааз, не чиангури, не домбра. Что это? – волнуясь, спрашивает свита аги.
И у самого Курбана глаза расширились и загорелись. Что-то медленно проползло и разлилось по смуглому лицу – не то сдержанный восторг, не то смятение.
Но вот громче, яснее слышатся звуки. Это уже не песня гурии, не вздох звезды. Могуче рокочут струны. Мечутся звуки. Точно горные джинны празднуют свое торжество. Это целый вызов земле и небу.
Страшна и прекрасна могучая музыка. Слагается сильный победный гимн непостижимых таинственных сил.
Леилу-Фатьму не узнать. Лицо ее преобразилось. Мрачные, полубезумные взоры теперь блещут довольством и торжеством.
Курбан-ага встает. Все окружающие его поднимаются следом за ним:
– Покажи мне светлого джинна, старуха, покажи мне того, кто умеет так колыхать души джигитов. Покажи!
– Я покажу тебе и твоим спутникам еще больше, князь и повелитель, – срывается с губ Фатьмы. – Только будь щедр, будь милостив к бедной сироте Леиле-Фатьме, великодушный ага-джигит.
Безобразное лицо Леилы с робко молящим выражением поднимается к гостю. Ее смуглые, крючковатые пальцы протягиваются к нему. Ее пальцы дрожат. Лицо перекошено судорогой алчности. В глазах занимается нездоровый огонь.
Ага-Курбан понимает в чем дело. Не глядя на трепещущую в ожидании подарка хозяйку, он лезет в карман бешмета, роется в нем.
Объемистый кошель, нарочно приготовленный для Леилы-Фатьмы, исторгнут со дна его.
– Бери и покажи нам твои фокусы, старуха.
Легкий взмах руки, и, позвякивая монетами, кошелек падает у ног Фатьмы.
О, какой он тяжелый! Как щедр кабардинский князь! Как щедр и богат!
Руки Леилы трясутся, сжимают крючковатыми пальцами свое сокровище. Безумные огни вспыхивают снова в глазах. Она готова испустить свой страшный протяжный вой, срывающийся у нее в минуты сильнейшего возбуждения, но Гассан, следивший за каждым движением своей госпожи, торопливо берет ее за руку и уводит во внутренние покои сакли.
– Успокойся, приди в себя, дочь наиба. Тебе нужны теперь силы и твердая воля, как никогда, – говорит он и прикладывает что-то холодное, мокрое к седой голове Леилы – Фатьмы.
* * *
– Входите, гости, входите сюда!
Прошло минут десять, и Фатьма снова здорова. Льстивая улыбка играет на ее ссохшихся губах.
Откинув полу ковра, стоит она на пороге. Курбан-ага и его спутники входят в горницу. Запах амбры. Голубое облако курения. Звериные шкуры на полу. Синие, как небо, стены, затканные по шелковому полю звездами и полумесяцами, точно в мечети. Такой же потолок. Из-за легкой шелковой занавески несутся звуки: тихие аккорды, журчащие, как лесные ручьи. Полутьма. Притушен голубой фонарик, но на аспидных треножниках догорает что-то пахучее, сладкое, неясное, как дурман. О, эта музыка! Она навевает чарующие сонные грезы. А запах амбры туманит мозг.
Леила-Фатьма проскальзывает за занавеску, рука сильными крючковатыми пальцами опускается на плечо музыкантши.
– Довольно! Оставь!
Даня взглядывает на нее испуганно и моляще.
Безобразное смуглое лицо старухи придвигается к побледневшему от страха личику девочки, нестерпимо сверкающие, расширенные глаза впиваются в нее вьюном. Кусок тонкой, пропитанной какими-то дурманящими парами ткани ложится на ее лицо, закрывая нос, губы и щеки. Одни глаза остаются на свободе, но в них, как два жала, как два острых клинка, впиваются взоры Леилы-Фатьмы.
И под этим нечеловеческим, магнетизирующим всю душу, оцепляющим весь мозг Дани взглядом последняя замирает, полная непонятной покорности судьбе.
Все больнее и больнее сжимает ее плечи Леила-Фатьма, все горячее и нестерпимее жжет ее страшным взором разгоревшихся, как у волчицы, глаз, все невнятнее лепечет что-то пересохшими губами, все нестерпимее, сильнее душит ее непонятный, разум затемняющий, ядовитый аромат.
Какая-то мучительная усталость сковывает члены Дани, разливается по телу теплой волной. Кружится голова. Тускнеет мысль. Словно налетает какой-то вихрь, могучим взмахом крыльев подхватывает ее и…
Даня, потеряв способность чувствовать, рассуждать, покорная чужой страшной воле, летит с головокружительной быстротой в отверзшуюся перед ней бездну, потеряв нить сознания своего естества.
* * *
Леила-Фатьма выходит к гостям.
Теперь уже за голубой тафтяной занавеской не слышится звуков арфы. Зато где-то далеко за стеною гремит зурна, звенит сааз.
Это сыновья Гассана играют на дворе.
Громкая, дикая, воинственная мелодия. Вздрагивают сердца гостей. Вольным духом Кабарды, дикой, свободной еще недавно, а теперь покоренной страной, веет от нее.
И под странную, грозную музыку распахивается занавеска.
Белая девушка выходит из-за нее. Ее лицо неподвижно, как маска, тонкие руки опущены вдоль бедер. Синие глаза стоят без мысли, прозрачные, безмолвные.
По приказанию Фатьмы она, заложив руки, начинает кружиться, плясать, сначала тихо, тихо, потом быстрее, все быстрее.
Пляска ее быстра, как вихрь. Спустя минуту, она беззвучным движением падает на пол.
– Смотри, ага, видал ты такую? – спрашивает Фатьма.
– Ни в Кабарде, ни в здешних горах, ни в долинах Грузии не встречал я ничего подобного! – с изумлением роняет князь-ага.
Курбан-ага взволнован. Эта белокурая девушка в ее беспомощности пробуждает в его суровой душе не то жалость, не то сочувствие.
Леила-Фатьма видит произведенное на гостя впечатление.
– Дана, – говорит она, ломая русский язык и русское имя. – Дана, встань!
Быстро и легко поднимается девушка. Ее лицо спокойно. На устах бродит неопределенная улыбка.
– Спрашивай у нее, что хочешь, по-кабардински, по-грузински, по-русски, она ответит тебе. Из будущего, из настоящего, из прошлого ответит. Самую твою страшную тайну откроет она тебе, – срывающимся голосом говорит Леила-Фатьма на ухо князю.
Курбан-ага встает.
– Я хочу, чтобы она спела мне песнь моей матери, ту самую, что слыхал я в детстве над своей колыбелью, – говорит он громко.
Леила-Фатьма подходит к Дане:
– Ты слышала?
Белокурая головка склоняется медленно, автоматически, как неживая.
– Да! – беззвучно роняют губы.
– Пой! – повелительно, грозно звучит голос Фатьмы.
Даня опускается на пол подле аги и, раскачиваясь из стороны в сторону, поет по-татарски заунывную восточную песнь.
Пышные розы раскрылись.
В ветвях чинары поют соловьи.
Спи, о, засни, мой сынок малолетний,
Сон я навею на глазки твои!
Песни спою о родимой Кабарде,
Вольные песни о прошлом ее.
Спи, мой красавец! Я подле, любимый,
Буду катать и лелеять тебя…
Буду…
– Довольно! – вскочив на ноги, вскрикивает Курбан-ага. – Довольно! Ты права, женщина! Девушка спела песнь моей матери! – И, тяжело дыша, снова опускается на диван.
Снова звучат мелодично тихие струны, снова невидимая арфа поет там, за занавеской.
В кунацкую опять вышли гости.
В голубой горнице только Леила-Фатьма и Курбан-ага.
Пот градом катится по смуглому лицу кабардинского князя. Слова с трудом выдавливаются из его груди. Он заметно смущен.
– Так по нраву, говоришь, пришлась тебе моя девочка, повелитель? – лукаво посмеиваясь, спрашивает Леила-Фатьма.
– Так по нраву пришлась, старуха, что жениться на ней думает Курбан-ага.
Нескрываемая радость озаряет морщинистое лицо Леилы – Фатьмы.
– Готовь богатый выкуп, ага, готовь калым за невесту. Недешевый калым возьму за Даню. Сам видал, как поет и пляшет она, и как хороша… Между гуриями рая ее место, не на земле.
– Князь Курбан-ага никогда не был скупым, старуха. Ты получишь столько, что и во сне не снится тебе. Приготовься. На обратном пути через месяц заеду за невестой. Можешь открыть ей ее счастливую судьбу. Не простой кабардинкой будет она. Высокая ждет ее доля. Княгиней, женой славного кабардинского князя Курбана-аги. Через месяц сыграем свадьбу.
– А деньги, деньги! Выкуп! Калым за невесту! – Слова Леилы-Фатьмы, как осы, с жужжанием вылетают изо рта.
– Не бойся. Вот треть калыма в задаток. Остальное перед свадьбой, в Кабарде, куда возьму тебя и ее.
Несколько десятков золотых монет сыплется в подставленную Фатьмой полу бешмета.
– О, как ты щедр, повелитель! Да хранит тебя Всевышний от всякого зла!
И снова лицо ее делается алчным и страшным, как у горной волчицы.
* * *
Ночь. В «Совьем гнезде» давно спят. Спят гости в кунацкой, спит прислуга во дворе.
За тафтяной занавеской, на ложе, прикрытом козьим мехом, разметавшись, спит Даня. Ее лицо бело, как ткань ее хитона. Крупные капли пота выступили на лбу. Страшные кошмары душат ее. Чья-то тяжелая, как камень, воля давит ее мозг и душу.
Даня мечется на своих мехах, одурманенная дымом амбры и курений, время от времени выкрикивая бессвязные слова.
Как ей тяжело, тяжело во сне! Ведь во сне повторяется все, пережитое наяву.
Острые, как иглы, вонзаются в нее глаза Леилы-Фатьмы. Чернеет глубокий, восторженный взгляд аги.
– Душно! Душно! – кричит она. – Пустите меня на волю! На волю!
Леилу-Фатьму беспокоит этот крик.
Она оставляет свою горенку, где только что пересчитывала полученные сегодня от Курбана-аги деньги, и проходит за тафтяную занавеску.
С минуту стоит, любуясь хрупким существом, потом медленно кладет ей на лоб холодную, крючковатую руку.
– Засни. Забудь. Все забудь. И да хранят тебя светлые джинны за то, что обогатила ты Леилу-Фатьму, моя роза прекрасная, кабардинская княгиня моя.
И под холодным, скользким прикосновением смуглых пальцев затихает Даня, и мучительные кошмары ее переходят в глубокий, спокойный сон.
* * *
Целые дни и ночи идут дожди.
Кура налилась до краев водою и почернела. Низкая часть берега залита ею. Амед убрал свой паром подальше и, привесив безграмотную записку у перевоза: «Нэт периправы», пошел на время в помощники к Павле, убирать персики и виноград.
Чинары жалобно стонут в саду днем и ночью. Дождь сечет их зеленые ветви, гибкие прутья молодого орешника и тополей. Столетние каштаны, обрызганные влагой, плачут. Азалии и розы умирают медленно на куртинах. В винограднике янтарным и малиновым соком, точно кровью, наливаются плоды. Вязко и грязно в саду. Сбегают ручьи вдоль полей. Шумит под обрывом зловеще и грозно Кура.
Под окном рабочей комнаты сидит Валь, тщательно отмеривая циркулем. Он что-то чертит. Дождь, хлещущий о стекла, по-видимому, нимало не тревожит его. Валь напевает себе под нос и усиленно выводит на бумаге черту за чертой.
Теперь уже решено окончательно – Валь хочет быть инженером. Он просит «друга» отдать его в реальное училище в Тифлисе, потом уедет в Петербург, будет учиться долго и упорно, вернется сюда и устроит мост на Куре, такой, который не снесло бы ни ветрами, ни бурей.
О, как будут тогда гордиться им, Валем, тетя Люда, Андро и «друг», и сестра его Лида, которая кочует за границей из одного университета в другой!
Перед мысленным взором Валя встает такой мост, высокий, могучий, крепкий. Чертеж его он уже составил на бумаге.
Он так увлекся своей идеей, что ничего не видит и не слышит.
– Валь! Валь!
– Что такое? Тебе тоже нравится он, не правда ли?
– Кто он? Ты бредишь.
– Мост! Мост на Куре!
Сандро стоит перед товарищем, ничего не понимая.
– Какой такой мост? Очнись, ради Бога, Валь! Ты спишь.
– Ах, да! Я забылся. Это ты, Сандро? Здравствуй.
– Опомнись, голубь, теперь время прощаться. Уже вечер. Но не в том дело. О, как ты рассеян, Валь.
Лицо Сандро хмуро и печально. Сурово сжаты брови над черными безднами глаз. Он подходит близко, почти в упор к товарищу, кладет ему руки на плечи, потом голосом, исполненным страдания, говорит: