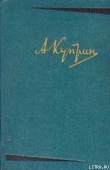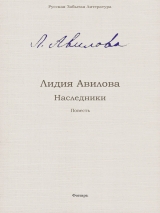
Текст книги "Наследники"
Автор книги: Лидия Авилова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
IX
– Жарко! – говорил Маров, растягиваясь на траве в тени молодой берёзовой рощи. – Поспать бы теперь, да горе в том, что больше 12-ти часов в сутки я спать не могу.
– Этот дурак Дима, пожалуй, не найдёт меня здесь, – тоскливо проговорил князь Андрей, тоже усаживаясь на траву и прислоняясь головой к стволу дерева.
– А зачем вам Дима? – удивлённо спросил Маров.
– Он обещал парочку сельтерской достать и принести. После вчерашнего до сих пор опомниться не могу!
– Хе, хе, хе! – сочувственно рассмеялся Вадим Петрович. – Где же это вы так, князь?
– Да хутор тут один… Отец меня на ревизию посылал. Управляющий, очевидно, мошенник и жена у него похожа на лягушку, но настойки и наливки прекрасные. Я подозреваю, что они меня нарочно… того… Ну, да к чёрту!
Маров продолжал смеяться, и маленькие заплывшие глазки его весело искрились.
– И что же? Всё в порядке оказалось? – спросил он.
– Всё в порядке, – лениво улыбнулся князь. – Ведь вот чёрт, – заговорил он добродушно, закидывая свою красивую голову, – дома сидеть нельзя: сейчас или мать, или отец… Хоть бы к себе позвали, если нужно, а то ко мне в комнату приходят и уж тут от них не скоро отделаешься. Сидели бы у Веры.
– Вера Ильинишна что-то грустна, – заметил Маров.
– Вера меня бесит, – сказал Андрей. – Как вы думаете, вы там с ними часто… выйдет она за Гарушина?
Маров насторожился. От любопытства лицо его дрогнуло, но он овладел собой и ответил совершенно спокойно:
– Трудный вопрос, князь. Особенной симпатии к господину Гарушину княжна не питает. Это ясно.
– Ну, что ещё там… симпатии! Вера дурна и, кажется, уже немолода. Не за таких ещё выходят, если нужно.
– Да… если нужно… – повторил Маров, пытливо вглядываясь в лицо Андрея.
– Счастье Вере! – со вздохом заметил Андрей. – Да она глупа! Она не сумеет забрать в руки его состояние. Куда ей!
Маров молчал. Он глядел теперь в небо, и ласковая усмешка бродила по его жирному лицу.
– А знаете, князь? – наконец, сказал он.
– Ну, не знаю.
– Княжна не пойдёт за Гарушина.
– Как не пойдёт? – встрепенулся Андрей. – А как же долг? Да это что – долг! А вообще, наши дела – швах. Папахен и мамахен не стеснялись, в своё время, мне тоже зевать не приходится… Не я пропущу, они пропустят. Нет, она пойдёт… Разве что она влюблена? В Листовича?
– Листович женится на Ане, – уверенно заявил Маров.
– Аня недурна, – равнодушно заметил Андрей.
– Да, женится, – задумчиво продолжал Вадим Петрович. – И к чему это люди женятся? Глупость одна! Не женитесь, князь!
– Ну, вот! Нашли дурака! – сонно ответил Андрей.
– А как вы думаете? Долго ли? Вот, например, я…
– Что же вы? Разве вы женаты?
– Женат, батюшка, женат. Самым законнейшим образом женат.
– Вот чёрт! А я не знал. А что же ваша жена? Умерла?
– Зачем умирать? Жива! Только мы с ней, так сказать, разошлись характерами. Я на неё не сержусь. Она там где-то, а я вот здесь. Какой я ей муж? Если муж, так корми её. А меня, голубчик князенька, самого люди кормят, и я этим горжусь: значит, не совсем я ненужный человек, ещё годен кое на что. Вот я думаю, князь, что, если бы музыки на свете не было, стоило ли бы жить? Конечно бы, не стоило.
– А ещё холеры боитесь! – напомнил Андрей.
– Привычка, князь! Прижился, приспособился. Умирать страшно, а жить…
– Ничего не страшно! Когда я пьян, я ничего не боюсь. Отчего не боюсь? Потому что не рассуждаю. Не надо рассуждать, тогда всё просто: и жить, и умереть.
– Прекрасная философия! – радостно вскрикнул Маров. – Князь! Вы философ.
Андрей лениво пожал плечами.
– По-вашему и это философия, – сказал он, – а по-моему, так вообще никакой философии нет, а есть одна ерунда.
– Ну, вот! Сам сказал в сад, а сам ушёл, – послышался звонкий голос Димы.
– Принёс? Молодец! – радостно встрепенулся Андрей. – Давай сюда. Меня кто-нибудь спрашивал?
– Мама спрашивала… Я сказал, что ты с приказчиком в поле уехал. Папа нездоров, голова болит.
– Никто тебя не заметил с бутылками?
– Никто! Разве я когда-нибудь попадусь?
– А то нет? – раскупоривая воду, спросил Андрей.
– Конечно, нет. А ты, Андрюша, за это позволь мне взять у тебя папирос? Ну, право… Ну, что же, если я уже привык? Можно?
Дима просил, и его нежное ещё, почти детское личико принимало трогательное, умоляющее выражение.
– Ну, ладно! – согласился Андрей. – Но, если попадёшься с курением, помни: я тебе ничего не давал.
– Знаю! – весело крикнул мальчик и убежал.
X
В доме отца Александр Петрович почти всё время лежал на софе с книгой или газетой, очень много ел, но больше всего скучал. В деревне он никогда не жил подолгу, и тихая монотонная жизнь совсем не отвечала его вкусам. Особенно раздражительным становился он после того, как лакей подавал ему привезённую почту. Он озабоченно пробегал письма, а в газетах останавливался только на отделе биржи и затем на отчётах о летних петербургских увеселениях. Лицо его вытягивалось и глаза становились совершенно мутными.
– Что? Опять нездоров? – спрашивал его отец слегка насмешливо.
– Нет, здоров, – вяло отвечал он.
– То-то. А я уж думал опять желудок. Как? Что?
– Ничего. Мне, знаешь, надоела вся эта церемония. У меня есть дело, а я живу здесь, в этой глуши, куда и газеты-то приходят только на третий день.
– Но у тебя отпуск.
– Ты отлично понимаешь, что я говорю не о службе. У меня другие дела.
– Любопытно знать! – прищуриваясь, спросил Пётр Иванович. – Не секрет?
– Нет, не секрет, – слегка краснея и раздражаясь, ответил Александр. – Я веду игру на бирже. Ты это знал и раньше.
– Слышал, кое-что слышал. Кажется, очень счастливо? Загребаешь деньгу?
Александр нахмурился.
– Нет, не загребаю. У тебя неприятная манера спрашивать о том, что ты уже знаешь.
Пётр Иванович тихо засмеялся.
– Не любишь? А за мои хозяйственные затеи опасаешься? Как бы я лишнего не тратил – это страшно?
В его холодных острых глазах мелькнуло на миг неуловимое выражение горечи, он перестал смеяться, но сейчас же дружески хлопнул сына по плечу.
– Теперь это надо оставить, – серьёзно заговорил он. – Всему своё время. И всякие эти оперетки и шансонетки… Немало, поди, и эти фокусницы стоили? – весело подмигнул он. – Букеты, да конфеты, а то и что посущественнее… Ну, ну! Не хмурься, не буду. Быль молодцу не укор. Женишься, обзаведёшься домком, я тебе и обстановку всю прямо из твоего излюбленного Парижа выпишу. Как? Что?
– Я думал бы пока жить в Петербурге, – заметил Александр.
– Нельзя в Петербурге! – горячо вскричал Пётр Иванович. – Тебе надо показать себя, сойтись с обществом… Нужно, чтобы тебя узнали и полюбили.
– Послушай, – раздражённо сказал молодой Гарушин, – я служу каким-то твоим целям!.. Мне лично твоё честолюбие чуждо и, право, было бы справедливо, если бы ты вознаградил меня. Я не могу позволить замуровать себя и за что?
– Но я уже обещал… Я дарю тебе прекрасное имение, я открываю перед тобой завидную дорогу, я… я… – захлёбываясь, заговорил старик.
– Мне нужны деньги, – спокойно заметил сын.
– Но разве я не сказал: половина того, что я имею…
– Я не ребёнок, чтобы довольствоваться одними обещаниями, – раздражительно процедил сын.
Петра Ивановича передёрнуло.
– Как? Что? – растерянно спросил он. С минуту он пристально глядел на Александра, руки его слегка дрожали.
– Ты как же это? Не веришь мне? – странным голосом спросил он. – Обманул я тебя в чем-нибудь? Как это ты сказал?
Александр Петрович пожал плечами.
– Опять эта твоя обидчивость! – сказал он. – И откуда она в тебе? С тобой говорить нельзя.
– Нет, ты повтори… объяснись! – взвизгнул Пётр Иванович. – Я твоего счастья хочу, я тебя в люди вывел… Я сколько дум передумал…
– Не будем играть комедию, отец! – в свою очередь рассердился Александр. – Я тебе нужен, для твоих личных планов нужен, и справедливо, чтобы ты заплатил. Ты не можешь добиться власти и почёта и задумал сделать это через меня. Не будешь же ты требовать, чтобы я ещё благодарил тебя? Карты открыты, надеюсь?
Старик Гарушин вскочил.
– Открыты! – вскрикнул он. – Карты открыты! Я старый негодяй, честолюбец, обманщик! Меня надо презирать, оскорблять и это только справедливо. Да что же ты думаешь обо мне? – вдруг взвизгнул он. – Деньги наживал, людей душил, локтями работал. Да! Я работал, наживал, душил. Но почему я это делал? Ага! Это надо знать! И меня душили, и меня локтями затирали.
Он взъерошил волосы и высоко закинул голову.
– Надо многое знать, чтобы судить! – добавил он.
– Я не хочу тебя судить. Эти сцены утомительны! – холодно заметил Александр.
– Нет, ты судишь! – кричал старик. – Но по какому праву? Чем ты лучше меня? Больше ты знаешь? больше ты пережил… перестрадал? Как же! Всё это я сделал за тебя. Я! Да, я перестрадал… Я оградил тебя от всего, я дал тебе цветы и взял себе тернии. Разве меня кто-нибудь баловал? Любил? Жалел? Но я свыкся… У меня нет человека, на которого я мог бы указать и подумать с уверенностью: это друг. У меня есть враги, их много… Есть люди, которым я нужен, или могу понадобиться; но человека, который бы любил меня немного, который знал бы меня – такого нет. И признаюсь: от тебя я ждал другого отношения… От тебя…
Он стоял перед Александром, выкрикивал свои фразы и сильно жестикулировал.
– Я платил злом за зло, я пригибал тех, кто прежде сидел у меня на шее, я защищался, – кричал он, – и не тебе, моему сыну, судить меня!
– Это утомительно! – со вздохом повторил Александр Петрович. – И так же нелепо, как сцена ревности.
Пётр Иванович тяжело дышал, но мало-помалу стал успокаиваться. Глаза его опять приняли испытующее, насмешливое выражение.
– Скажи лучше отцу, как подвигаются твои дела, – почти весело спросил он. – Скоро думаешь объясниться? Княжна, говоришь, достаточно подготовлена? Влюблена, может быть? Как? Что?
Александр Петрович нисколько не сомневался в том, что предложение его будет принято, но сделать решительный шаг он, однако, медлил. Он замечал, что княгиня, видимо, переменилась в отношении к нему и стала гораздо любезнее, почти ласковой, но сама Вера, её манера держать себя и даже одеваться раздражали Александра. Иногда он позволял себе делать ей замечания.
– Этот цвет не идёт к вам, княжна, – сказал он ей однажды.
Она подняла на него удивлённые, недоумевающие глаза.
– У меня нет желания одеваться к лицу, – сказала она.
– Я заметил, что некоторые женщины ставят себе это в заслугу, – процедил сквозь зубы Гарушин. – За границей женщины оттого так обаятельны, что владеют искусством одеваться. У нас в России безвкусица и распущенность до такой степени портят их, что их и сравнить нельзя с иностранками.
– А вы, кажется, ставите это искусство очень высоко? – задорно спросила Вера.
– В жизни женщины оно важно. Женщина должна быть кокетка, – убеждённо заявил Гарушин.
Вера насмешливо улыбнулась.
– У вас очень определённые взгляды, – сказала она.
– Каков есть, – холодно ответил он. – Выше лба не прыгнешь, я и не стараюсь…
После каждого подобного разговора Вера враждебно следила за Александром, и глаза её задорно и насмешливо блестели.
XI
Старый князь прихварывал и часто жаловался на головную боль. Иногда, среди разговора, он вдруг забывал какое-нибудь самое обыкновенное слово, искал его, сердился, наконец, заменял другим, совсем неподходящим. Софья Дмитриевна не придавала значения его нездоровью, и только одна Вера, словно обрадованная возможностью отвлечься от собственных тяжёлых дум, вся отдалась заботливому уходу за отцом. С некоторых пор она замечала в нем неуловимую перемену: ей казалось, что к его обычной приветливости и ласковости присоединилась ещё какая-то несвойственная ему вдумчивость; он мало говорил, улыбка его стала рассеянной, и в глазах залегло незнакомое грустное выражение. Вера приходила читать ему вслух. Он слушал её, сидя в большом, удобном кресле, и потом тянулся к ней и гладил её по плечу или по руке. Чаще обыкновенного говорил он ей:
– Моя девочка, моя бедная девочка!
Веру, ставшую очень впечатлительной и нервной, эта ласка трогала до слез, но она старалась подавить своё волнение и улыбалась отцу натянутой улыбкой.
– Стар становлюсь, Верочка! – говорил иногда старик.
– Пустяки, папа! Ты у нас молодцом! – успокаивала его дочь. Она видела в его лице тревогу, невысказанный вопрос, не понимала их и опять улыбалась ему. Он глядел на неё пристально, потом отводил глаза и часто неожиданно засыпал.
Когда князь не выходил из своей комнаты, все домашние считали своим долгом навестить его. Княгиня целовала его в голову, садилась на диван и спрашивала, благосклонно улыбаясь:
– Ну, как ты себя чувствуешь? Как спал?
Князь ловил её руку, целовал её в ладонь и уверял, что чувствует только небольшую слабость.
– А твоя мигрень? – спрашивал он озабоченно.
Приходил князь Андрей. Он растягивался в кресле, щурился и говорил о том, что духота мешает ему спать по ночам. И, действительно, его красивые глаза часто бывали красны и казались утомлёнными. Забегал Дима, бесцельно кружил по комнате минуты две и затем исчезал. Маров стучал в дверь, входил на цыпочках, слегка горбясь и улыбаясь сладкой улыбкой, рассказывал только что прочитанные известия из газет и, не решаясь попросить позволения курить, привычным жестом поминутно нащупывал ладонью карман визитки.
Приходила и Аня, робкая, застенчивая, но вся словно светившаяся сдержанным, скрытым счастьем. Она прятала это счастье, стыдилась его, а оно прорывалось наружу и делало её неловкой и неестественной. О её помолвке с Листовичем знали все, но она не говорила о ней никому и продолжала считать свою любовь тайной.
Приезжали соседи и тоже заходили засвидетельствовать своё почтение князю, играли в карты или в шахматы, и тогда старик несколько оживлялся. Но когда посетители удалялись и больной оставался с глазу на глаз с дочерью, лицо его сразу темнело и в глазах опять мелькала тревога.
– Чувствую, Верочка, чувствую, что стареюсь, – говорил он.
– Ты просто устал, папа.
– Устал, устал, девочка. И думать не могу… Начну… и не могу.
Один раз, когда Вера думала, что больной спит, она положила голову на ладони и тяжело задумалась. Как всегда в минуты нервного напряжения, лицо её изменилось, губы слегка припухли, и она стала похожа не на взрослую девушку, а на слабого обиженного ребёнка. Она чувствовала, что развязка приближалась, что не нынче-завтра ей придётся принять решение, которое отразится на всей её последующей жизни. И она спрашивала себя – готова ли она к этому решению? Так же ли сильно в ней намерение отказать Гарушину и привлечь не на себя одну, а на всю семью свою последствия этого отказа? Она спрашивала себя, что ей дороже теперь: спокойствие отца, уверенность, что он проведёт свои последние годы, окружённый роскошью и удобствами, к которым он привык, или своё личное, никогда ещё неизведанное счастье? И тогда ей казалось, что в глубине души её вопрос её жизни уже решён, и что у неё только нет мужества сознаться себе в этом; ей казалось, что вот-вот должно что-то случиться, что всё сразу разъяснит, изменит… И она хваталась за эту надежду на чудо, и верила в чудо, и ждала его. Бессознательно она подняла голову и встретилась взглядом с глазами отца. Старик глядел на неё ласково и тревожно.
– Верочка! – тихо позвал он. – Я вижу, дитя моё… Я знаю.
Вера вздрогнула. Та самая надежда, которую она призывала только сейчас, на миг ярко вспыхнула в её душе: если отец знает, если отец любит, – он не допустит…
– Я давно хотел поговорить с тобой… – продолжал старик. – Не пугайся, Вера, и не огорчайся очень: я должен тебе сказать, что я боюсь… что я чувствую, что скоро умру.
– Папа! Папа! – вскрикнула Вера.
Она всплеснула руками, опустилась на пол у ног отца и прильнула к его коленям. Мысли бессвязно неслись в её голове одна за другой, но надежда, которая так неожиданно вспыхнула в душе девушки, так же неожиданно угасла: она вдруг поняла, что её ждёт задача ещё сложней, ещё трудней, чем она думала, что жертва её, на которую она уже решилась, должна ещё осложниться ложью, против которой возмущалась её душа.
– Верочка! Не покидай мать! – сказал вдруг больной дрожащим от волнения голосом. – Прощай ей, не принимай к сердцу… Береги её! – закончил он и тихо заплакал.
– Папа! – с невыносимой болью в сердце вскрикнула Вера и прижалась к нему ещё ближе.
– Обещай мне! – прошептал старик. – Если дети оставят её, что будет с ней? Я не надеюсь на Андрюшу… Я знаю, она иногда несправедлива к тебе, но она – как взрослый ребёнок. Мы с ней оба были, как дети… оба… И мы мало думали о вас… Вера, ты простишь меня?
Слезы бежали по его исхудалому лицу и скатывались на грудь.
– Не говори так и не мучь меня! – задыхаясь, шептала Вера.
– Ты добрая у меня, добрая, – продолжал, старик. – Я поручаю её тебе… Но я боюсь, что мы… разорены. Как вы будете жить без меня? У меня долги… Не помню, сколько долгов. У меня нет минуты покоя, Вера, и мне страшно умирать с этой мыслью о вас. Она не вынесет, Вера… Я так всегда баловал её! И вдруг…
Он опустил голову, и эта седая голова тряслась и вздрагивала. Вера замерла. Один миг ей казалось, что ей дурно, но вдруг большое спокойствие вошло в её душу… То, что мучило и ждало решения, стало решённым и простым. Она приподнялась и, приближая к отцу своё бледное и всё залитое слезами лицо, радостно улыбнулась ему.
– Папа! Всё будет хорошо, – сказала она.
– Девочка моя! – недоумевая и спрашивая глазами, сказал отец.
Вера спрятала своё лицо у него на груди.
– Папа, я люблю Гарушина, и он… любит меня.
Грудь старика всколыхнулась. Он не сказал ни слова. Какая-то борьба происходила в нем, глухая и неясная. Потом он взял голову дочери в обе руки, нагнулся к ней и пристально поглядел ей в глаза.
– Ты… любишь его? – недоверчиво переспросил он.
– Да, я его люблю! – настойчиво ответила Вера. – Я хочу быть его женой.
Старик колебался. Поверил ли он, или уж очень хотелось ему поверить словам дочери, но лицо его несколько прояснилось.
– Верочка! – дрожащим голосом сказал он, – Бог видит, как я хочу тебе счастья. Но подумала ли ты, какой это важный шаг? Уверена ли ты в себе?
– Да, я уверена! – улыбаясь сквозь слезы, ответила Вера.
Она опять прильнула к отцу и, чувствуя на своей голове его дрожащую руку, которая нежно гладила её волосы, она в первый раз сознательно подумала о том, что судьба её решена, что чуда, в которое так верила она, не случилось.
– Всё равно! Пусть! Пусть я погибаю! – с глубоким утомлением сказала она себе.
Дороже жизни казалась ей теперь уверенность, что отец действительно поверил её любви к Александру, что он не угадал жертвы и не оценил её по достоинству. Он пожелал ей счастья, а у неё не могло быть иного, как то, которое дала бы ей его любовь.
XII
Александр Петрович подъехал к своему дому раздражённый. Пётр Иванович ждал его, прогуливаясь по цветнику.
– Говори, рассказывай скорей, – сказал он, поднимаясь, вместе с ним по ступеням крыльца. – Пройдём ко мне.
Александр нехотя, с недовольным видом шёл за отцом.
– Ну, я слушаю, – торопил Пётр Иванович, когда они вошли в кабинет.
– Ты поставил меня в крайне глупое положение! – с брезгливой гримасой начал молодой человек.
– Отказала? – крикнул Гарушин.
– Нет, не отказала, но, если тебе нужно, чтобы я женился на княжне, справедливо было бы, чтобы ты сам взял на себя переговоры.
– Но расскажи, расскажи по порядку!
– Ну, я сделал предложение, надеюсь, тебе всё равно, в каких выражениях я делал. У тебя страсть к подробностям. Она выслушала очень спокойно, но разве русская женщина может обойтись без сцен? Чуть что – сейчас сцена.
– Ну, ну? – торопил отец.
– Ну, выслушала, а потом вдруг вскочила, заломила руки: прошу вас, говорит, умоляю вас, давайте не лгать. Вы меня не любите, и я вас не люблю, и не надо между нами притворства.
– Так и сказала: «не люблю»?
– Да не сказала, а прямо крикнула. Истеричность какая-то! Мне прямо досадно стало: должна же она знать, что и некрасива, и непривлекательна, а всё-таки ломается и умничает.
– А согласие всё-таки дала? – насмешливо спросил отец.
– Не могло быть и сомнения, – пожимая плечами, сказал Александр.
– Так как же? Чтобы не было притворства?
– Признаюсь, – продолжал Александр, – я больше всего боялся слез. Это тоже русская манера… Никогда не хожу в русскую драму, потому что там, как появится героиня, так и начнётся нытьё. В конце концов, мне всегда кажется, что у меня болят зубы… И тон приподнятый, и бездна благородства!
– Да ты про княжну-то говори, про княжну.
– Что же говорить? Если хотите, говорит, я не буду спрашивать, зачем вы на мне женитесь, но я хочу, чтобы вы знали, что для себя лично я, быть может, предпочла бы смерть, чем замужество с вами. Но моя смерть не избавит моих родителей от бедности. Заметь себе, сейчас драма: смерть, избавление, постылый брак… Спасибо хотя за то, что держала она себя прилично, и слез не было.
– От бедности не избавит? – переспросил старик и судорожно улыбнулся.
– Просила, чтобы пока не объявлять: старый князь нездоров. Я сам против открытого положения жениха. Всегда находил его смешным и глупым. Я сейчас же уезжаю в Петербург, шесть недель на разные необходимые приготовления… Тем временем поправится князь, и мы обвенчаемся… Только скромно, без всякой помпы, прошу тебя.
Пётр Иванович заметно волновался, лицо его оживилось, и руки слегка вздрагивали.
– Отчего бы не объявить до твоего отъезда? – спросил он. – Князь не настолько болен. Я хотел бы дать потом обед… Я уже всё обдумал… Я убеждён, что Баратынцевы не отказались бы приехать ко мне теперь. Как? Что?
Александр нахмурился.
– Удивительное у тебя желание удивить, пустить пыль в глаза. Воображаю, чего ты там надумал.
– Недурно будет! – подмигнул Пётр Иванович. – Перед князьями лицом в грязь не ударим.
– Нет, потерпи. Всё это ещё успеется, – лениво перебил его Александр. – Я уеду сейчас, завтра же. Довольно теперь о княжне? Можно говорить о другом?
– Думаю, что не стоит, – хвастливо и весело перебил Пётр Иванович, – мой свадебный подарок поспеет вовремя, а на эти шесть недель я открою тебе кредит на нужную сумму. Сколько? – весело спросил он.
– Нет! – твёрдо сказал Александр. – Я требую, чтобы ты выделил меня сейчас же. Дай, что обещал.
Пётр Иванович вдруг побагровел. С минуту он не находил слов и только глядел на сына остановившимися глазами.
– Ни гроша! – взвизгнул он вдруг, делая энергический жест. – Слышишь?
– Слышу. Но ты понимаешь, что мне тогда незачем жениться?
– Тебе незачем… Я тебя выгоню вон! Мне ничего не надо от тебя… А ты понимаешь, что ты оскорбил меня?
– Да пойми же и ты, что эта чувствительность тебе не к лицу! – вскрикнул Александр Петрович.
Пётр Иванович затрясся.
– Уйди! Уйди! – еле выговорил он, указывая на дверь.
– Мне хотелось бы, чтобы ты ясно сознал положение, – спокойно сказал сын. – У тебя есть деньги, но тебе хочется почти невозможного: ты бредишь почётом, уважением и властью. Всё это невозможное могу дать тебе только я. Если ты откажешь мне и выгонишь меня, ты проиграешь слишком много. Обдумай!
– Уйди! – почти прохрипел старик.
Александр пожал плечами.
– Мне очень нужны деньги, но я тоже могу рассердиться, наконец, – с ворчливой угрозой пробормотал он.
Пётр Иванович долго не мог успокоиться. Он открыл, окно, и мягкий вечерний воздух вливался к нему ароматными волнами. Его потянуло на воздух; он любил смотреть, как жадно пили и мирно засыпали на ночь цветы. Он нагибался к ним, нежно дотрагивался рукой до их чашечки, и красота или оригинальность их формы или расцветки давала ему радость. Но в этот вечер цветы мало занимали его.
– Он презирает меня! – продолжал он развивать свои невесёлые мысли. – Но какое право имеет он презирать меня? Чем он лучше меня?
Невольно он припоминал свою жизнь. Вся она тянулась, невесёлая, искажённая озлоблением, ненавистью и местью. Удачи её и те были нерадостны, не приносили удовлетворения. Ему ещё памятна была особая, гнетущая боль в душе, пока и она не притерпелась и не начала грубеть. Но и теперь ещё у него были минуты, как та, которую он переживал в этот вечер: минуты большой тоски, большой обиды, минуты, в которые он чувствовал, что на место ненависти в душу его просится любовь, а на место мести – закипают одинокие, тяжёлые слезы. Он прятал эти минуты от людей и никому не показывал ран, которые они наносили ему. У него была своя гордость.
Но, закрывая своё сердце для всего мира, он отдал его своему сыну. Сына он любил, сыну он хотел, счастья и, оберегаясь от людей, которые могли бы отнять у него это счастье, он с детства начал внушать ему презрение к людям, к их мнениям, к их чувствам, научая его пользоваться их слабостями, унижать их и смеяться над ними. Для себя он ждал другого отношения. Он думал, что, убивая душу сына для других, он сохранит её для себя, как сохранил свою для единственного человека, перед которым он не прикрыл бы своих ран. И он искал эту душу. Он говорил себе: «Это мой сын», а находил человека, эгоизм и чёрствое отношение которого всегда удивляли его, как новость.
– У меня есть сын, и у меня нет сына, – мысленно повторял Пётр Иванович. И вдруг ему вспомнился рассказ Александра и слова княжны: «Но моя смерть не избавит моих родителей от бедности». Сам не отдавая себе отчёта почему, он верил в искренность этих слов, не искал в них рисовки, и они незаметно затронули наболевшее место его души.
– А у меня нет сына! – с тоской, похожей на озлобление, чуть не крикнул он.
Ему припомнилось лицо Веры таким, каким он видел его когда-то, когда она аккомпанировала Марову: грустным, жалким, почти плачущим. Он вспомнил, как часто бросалось ему в глаза холодное отношение к Вере княгини, и что-то похожее на жалость шевельнулось в его душе.
– А он презирает меня! – с новым наплывом горечи подумал он, опять возвращаясь к мысли о сыне. Он ходил взад и вперёд по песчаным дорожкам, не замечая, как быстро гасла заря и наступала ночь, и только когда услыхал голос Александра, отдающего какие-то приказания, он поспешно, стараясь не встретиться с сыном, прошёл к себе. Как чужому, враждебному глазу, не хотел он показать Александру глубокое горе, которое потрясло всё существо его и сделало в эту минуту его лицо почти неузнаваемым.