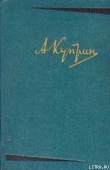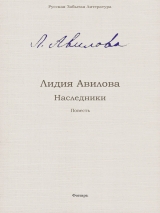
Текст книги "Наследники"
Автор книги: Лидия Авилова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
V
Вадим Петрович играл на скрипке, Вера Ильинишна аккомпанировала ему.
– Обожаю музыку! Вы позволите? – сказал Пётр Иванович, приподнимаясь с своего места.
– Пожалуйста, пожалуйста! – поспешила ответить княгиня.
Гарушин тихими шагами вышел в гостиную и, незамеченный никем, прислонился к притолоке балконной двери.
Вера внимательно глядела на ноты; она щурилась и покачивала в такт головой. Маров увлекался: он широко водил смычком, и на приподнятом плоском лице его покоилось торжественное, почти вдохновенное выражение. В углу, за трельяжем, Листович и Аня тихо беседовали о чем-то.
Пётр Иванович почти не слышал музыки; он смотрел в лицо княжны, и взгляд его серых глаз вспыхивал недобрым, хищным огоньком. Всё в этом доме волновало и задевало его до муки. Ни одного взгляда, ни одного оттенка голоса хозяев не пропускал он незамеченными, и тогда, как лицо его вежливо и почтительно улыбалось, в глубине его впечатлительной души поднималась непримиримая ненависть и жажда скорой и жестокой мести. Он ненавидел всё и хотел мстить за всё: величавая красота княгини и её самоуверенная любезность вызывали в нем злобу ещё сильнее, чем нескрываемое беспокойство князя и резкий тон княжны.
«Презирают меня на все лады, – промелькнуло в его голове и тут же он сделал быструю оценку себе и своей силе в глазах этих гордых, но уже бессильных по отношению к нему людей. – Презирают! И всё-таки вот у меня где… в кулаке, – злорадно тешил он себя, глядя на лицо княжны. – Эта из умных. Теперь, говорят, много таких. Жениха не найдут, красотой Бог обделил – сейчас в умные идут. Презрения этого в ней больше всех, но сладим мы с ней быстро».
С необъяснимым наслаждением отыскивал он в бледном лице девушки гордые, властные черты её отца. Словно готовясь к сражению, он силился одним взглядом определить все трудности и препятствия, с которыми поневоле ему придётся считаться.
«А этот здесь что? Этот добрый сосед? – перевёл он свой взгляд на Листовича. – Девица из бедных родственниц в него влюблена, это ясно. Но для княжны, кажется, не опасен: очень уж сладко улыбается и губы сердечком. По умному такие не годятся. А тот? Как его? Вадим, Вадим… Скверная рожа и в кармане шиш. Слыхал я что-то про него: артист, никем не оценённый и не признанный».
И он опять стал глядеть на княжну. Неясная тревога, почти разочарование болезненно задели его: он почти не узнал девушку. Под впечатлением музыки Вера побледнела ещё больше, крупные пухлые губы покраснели и распухли, как у плачущего ребёнка, а на лбу собрались морщинки. Такой, как теперь, она уже не была взрослой девушкой из умных, гордым врагом; она казалась девочкой, ребёнком… и ребёнком больным, огорчённым и беспомощным.
Пьеса кончилась.
– Я слушал с восторгом! Я упивался! – громко сказал Гарушин и подошёл к исполнителям. – Музыка моя страсть и, надо сказать, я понимаю в ней кое-что. Исполнение было прекрасно. Позвольте поблагодарить вас.
Он изогнулся с явным намерением поцеловать руку княжны Вера быстро спрятала руки за спину, и её глаза блеснули насмешкой.
– Благодарите Вадима Петровича, – смеясь, сказала она, – я только аккомпанировала ему.
– О, помилуйте! – воскликнул Маров, протягивая Гарушину обе руки.
Пётр Иванович взял протянутые ему руки и долго крепко тряс их без слов.
– Скверная рожа и не то шельма, не то дурак, – думал он, сохраняя на своём лице благодарное, умилённое выражение.
VI
– Купаться пойдёшь? – спрашивал Дима, стоя перед братом с полотенцем через плечо. – Пойдёшь, что ли, Андрюша?
Молодой князь полулежал на террасе в большом кожаном кресле и щурился от яркого света. Его прекрасные, тёмные глаза искрились под солнечными лучами и красивое лицо лениво улыбалось.
– Ну, пойдёшь, что ли? Говори же, Андрюша!
– Вот пристал! – добродушно буркнул князь Андрей и закрыл глаза.
– Ну, какой! – огорчённо продолжал мальчик. – Так пойдёмте с вами, Вадим Петрович. Вы хорошо плаваете? С вами мама меня пустит на тот берег.
Вадим Петрович сидел в тенистом углу и читал газету.
– Совсем не плаваю, мой милый, – живо ответил он. – И со мной мама не пустит.
– Ну, Андрюша! – плаксиво протянул мальчик и стал теребить брата за рукав.
– Вот пристал! – всё тем же добродушным тоном повторил князь и принял ещё более удобную и покойную позу.
– А зачем вчера флигель мыли и ты ключ себе взял? – задорно спросил Дима.
Андрей быстро поднял голову.
– А ты почём знаешь?
– Знаю! Я всё знаю!
– Ну, и молчи. Слышишь? Никому!..
– А ты скажи зачем?
– Если же ты проболтаешься, я скажу maman, что у тебя под тюфяком папиросы, и что я заплатил за тебя карточный долг.
– Вовсе не карточный! Это в прошлом году был карточный, а теперь я просто задолжал лихачу.
– Ну, всё равно. Поросёнок, а на лихачах ездит.
Дима некоторое время стоял молча.
– Андрюша! А ты всё-таки скажи, зачем флигель мыли? – опять спросил он.
– Тебя там пороть будут.
– Нет, серьёзно?
– Или ты отстань, или я… – вдруг грозно крикнул Андрей и приподнялся.
Дима отскочил и прыгнул через ступени на дорожку сада.
– всё равно, я узнаю! – крикнул он, убегая к пруду.
– Холера, чума… – со вздохом заметил Вадим Петрович, перебирая газеты.
– Ну, что там! – равнодушно заметил Андрей и зевнул.
– Думаете ничего? А как вдруг возьмёт да и свалит.
– Кого?
– Вас. Меня.
– Ну-у! – лениво протянул князь.
– Я боюсь эпидемий. Какая-то нелепая, глупая, стадная смерть. Хочется умереть чем-нибудь своим, личным, чтобы хотя смерть-то отметила в тебе единицу, а не стадное животное.
– всё равно! – сказал князь.
– А смерть преждевременная? Неожиданно, скоро, сейчас?..
– Умирать один раз.
– Вы так равнодушны к жизни? Вы? Такой молодой, счастливый?
– Живу – ничего, и умру – ничего. Нет ли ещё новенького?
– Фурор! В первый раз в Петербурге! – смеясь сказал Маров.
– Нет! К чёрту! Надоело всё это, – апатично заметил князь. – Ещё чего-нибудь!
– Андрюша, иди к maman, – сказала Вера, заглядывая в дверь.
– Куда? Наверх? – с притворным ужасом спросил молодой князь.
– Ну, да. К ней.
– О, зачем я не ушёл купаться с Димой! – вздохнул Андрей, потянулся и стал лениво приподниматься.
– Ты звала меня – и я налицо, – сказал он, входя в комнату матери.
Он тяжело опустился на низкий пуф около кресла княгини, взял её руку и поцеловал. Княгиня сидела у окна и держала в руке крошечный носовой платок. Глаза её были заплаканы и красны.
– Случилось что-нибудь? – с лёгкой тревогой спросил Андрей.
– Ты спрашиваешь? – в приподнятом тоне заговорила княгиня. – Но разве ты сам не видишь?
– Не вижу, maman.
– Разве ты не знаешь, на что пошёл твой отец, чтобы спасти тебя?
– Не знаю, maman. На что он пошёл?
– Но он принуждён был занять у этого… этого Гарушина. Тот ещё ломался, чуть не отказал. Теперь мы принуждены принимать его, заискивать в нем… Про него ходят ужасные слухи. всё состояние своё он нажил тем, что разорял других. Ради тебя мы решились накинуть эту петлю, но она душит нас!
Княгиня заплакала.
– Условия, кажется, не тяжелы? – тихо заметил сын.
– Но отчего они не тяжелы? Этот человек никогда ничего не делал даром! Когда он входит сюда, я чувствую, что он оскорбляет нас.
– Это немножко фантазия, maman. Я, напротив, заметил, что он чрезвычайно почтителен.
– Он оскорбляет нас! – запальчиво повторила княгиня и слегка стукнула кулачком по столу. – Он тешится нашей зависимостью и необходимостью переносить его присутствие. Я не могу, не могу! – Она закатила глаза и закрыла лицо платком.
Андрей молчал и громко дышал, складываясь почти пополам на низком пуфе.
– Зачем он ездит так часто и привозит с собой своего сына? – тоном трагической актрисы спросила княгиня.
Андрей продолжал дышать.
– Этот сын… У него не дурные манеры, я не говорю! Но что ему надо у нас?
– Ты думаешь, ему что-нибудь надо? – со скукой и недоумением спросил князь. Княгиня горестно потрясла головой и развела руками.
– Послушай, Andre, я могу говорить об этом только с тобой. Твой отец стал слаб и нервен. Последний удар сильно поразил его. Теперь он немного успокоился. Но я не спокойна! Я вижу вещи, которые… Я угадываю… Словом, мне кажется, что этот Гарушин чуть ли не метит в зятья.
Княгиня криво усмехнулась и высоко подняла голову. Андрей встрепенулся.
«Чепуха! – сейчас же решил он про себя. – Дочери у него нет и мне жениться там не на ком. А недурно бы! – прикинул он приблизительную долю состояния воображаемой невесты. – Впрочем, к чёрту!»
– А если он метит? – с ударением повторила княгиня.
– Дочери у него нет? – для полноты уверенности спросил Андрей.
– У него есть сын! – крикнула мать.
«Меня, значит, не женят», – сообразил опять князь и вдруг лениво улыбнулся.
– у Веры было бы крупное состояньице! При её направлении, впрочем…
– Но он – Гарушин… Дед этого Александра был мошенник и пьяница, отец – кулак.
Молодой князь не любил длинных разговоров и теперь вдруг почувствовал утомление и досаду.
– Но ты напрасно волнуешься, maman. Пока, я не вижу оснований…
– Что же ему нужно? – заговорила Софья Дмитриевна, бросая платок на стол и поднося ладони к глазам так, как будто старалась разобрать что-то на них. – Что ему нужно у нас? Постоянно? Чуть не каждый день?
– Не вели принимать, – рассеянно посоветовал Андрей.
– Да ты ребёнок! – закричала княгиня. – Ты не понимаешь, что мы не имеем права оскорблять его? Не имеем! Мы в его руках, в его власти, в его распоряжении, и наш отказ его сыну будет нашим разорением. Ты не понимаешь!
– Зачем же вы у него брали? – апатично спросил Андрей.
– Где же было взять? У кого? Надо было спасать тебя, твоё имя.
– Досадный случай! – сказал Андрей.
– Княжна Баратынцева жена господина Гарушина! – с горечью проговорила княгиня.
– Я, кажется, не буду лишней? – вдруг спросила Вера, появляясь в дверях.
– Ты подслушивала? – гневно вскрикнула Софья Дмитриевна.
– Нет… Я не подозревала, что у вас с братом тайное совещание, вы говорили громко, и я слышала невольно.
Вера не трогалась с места, княгиня и Андрей повернулись к ней, ожидая, что она будет говорить. Девушка, наконец, слабо улыбнулась и провела рукой по лицу.
– Разве это не странно, что вы уже всё решили здесь за меня? – сказала она. – Моя мать решила, что я должна ради спасения… имущества выйти за человека, которого я не люблю и не уважаю. При этом пострадает блеск имени, но я буду отстранена, и это забудется!
– Вера! – строго окликнула её княгиня. Но девушка продолжала:
– Моя мать решила за меня, что я своей жизнью могу и должна заплатить за кутежи своего братца.
– Ты бредишь! – крикнула княгиня.
– Нет, это правда! – горячо возразила Вера. – Я знаю тебя достаточно, чтобы утверждать, что твоё решение в этом деле было принято, оставался один чисто внешний вопрос. Но я? Подумала ли ты обо мне? – с заметной дрожью в голосе спросила она.
– Ты пришла оскорблять меня! – вскрикнула княгиня, хватаясь за голову.
Вера глядела на неё, и опять натянутая улыбка пробежала по её лицу.
– Я пришла сказать, что ни продать, ни купить меня нельзя. Мама! – вскрикнула она вдруг, заметив внезапную бледность княгини. – Мама, прости меня! Ну, прости…
Она бросилась к матери, опустилась на колени перед её креслом и, завладев её рукой, прижала её к своему лицу.
– Мама, не сердись… не принимай к сердцу. Если бы ты знала!.. Мне бы только чуточку уверенности, что ты любишь меня. Понимаешь, я не верю… Я мучусь. Между мной и всеми вами, моими близкими, какая-то стена. Ты никогда не хотела понять меня, а я думаю, что нельзя не понять того, кого любишь. Я зла иногда, резка, груба, может быть, но это оттого, что мне больно. Мама, скажи мне что-нибудь ласковое, одно слово!..
– Я… хотела… продать… свою дочь? – с расстановкой сказала княгиня. Она закатила глаза, горестно покачала головой и замолчала, словно подавленная. Потом она глубоко вздохнула, силой отняла свою руку у дочери и, поднявшись с кресла, величественно вышла из комнаты. Вера осталась на полу.
Никто не заметил, когда ушёл Андрей.
VII
Вера шла по длинной аллее и следила за тем, как световые пятна и тени играли на песке, составляя неуловимую подвижную сеть. Голова у неё немного болела и глаза жгло от бессонницы и пролитых слез. Ей стыдно было вспомнить о том, как много она проплакала в эту ночь.
С тех пор, как Вера вернулась сюда из Москвы, где уже вторую зиму проводила у своей родственницы, богатой и скучающей барыни, неудачи и разочарования не покидали её. С удивлением и грустью замечала она, что отношения её с окружающими и даже с матерью становились всё более странными и натянутыми. В тоне матери часто сквозили досада и раздражение. Вера не понимала её недовольства. В Москве, окружённая людьми самых различных взглядов и направлений, в ту горячую пору жизни, когда умственные и нравственные запросы настоятельно требуют удовлетворения, Вера сумела найти и обособить маленький кружок, среди которого она чувствовала себя хорошо на совсем особый лад. Эти люди не были друзьями Веры, они даже не были особенно близки и симпатичны ей, но молодая девушка чувствовала, как они пробуждали в ней мысль, заставляя работать её, и эта работа давала ей ещё совсем неизведанное наслаждение. Случалось, что после долгих споров и сложных рассуждений, Вера с грустью думала о том, что решение того или другого вопроса, так горячо обсуждаемого, не имело, собственно, для неё никакого прямого значения. Её жизнь, казалось ей, в силу каких-то необъяснимых причин, должна была остаться такой, какой была до этой поры, не подчиняясь никаким вопросам, решение которых в теории так волновало её. И Вера замечала эту рознь, удивлялась возможности её и тут же старалась успокоиться на том, что, в сущности, она и не задавалась никакими целями: она сознала в своей жизни какой-то пробел, пополнила его и теперь должна чувствовать себя удовлетворённой.
Странная неожиданность встретила её по возвращении в деревенский дом и родную семью. Вера с удивлением оглядывалась и спрашивала себя, она ли изменилась, или изменилось всё так близко знакомое ей с детства? Она ясно отдавала себе отчёт в том, что раньше, как и теперь, её мать кричала на прислугу, писала знакомому земскому начальнику записки с просьбой наказать того или другого из крестьян, в чем-либо не угодившего ей. Ясно вспоминала Вера, что прежде, как и теперь, её отец с изысканной любезностью брал сторону сильного против слабого; окружал себя друзьями, привлекаемыми широким хлебосольством и обаятельной, величавой красотой княгини. «Враги», несомненно, тоже были; это были люди, требовавшие не угощений, а дела, не любезности, а справедливости; но о них не думали и над ними посмеивались, потому что их не боялись. Всё это ясно вспоминала Вера, и неожиданность, встретившая её, заключалась в том, что весь этот порядок вещей, некогда едва замечаемый ею, теперь сильно волновал её и вызывал едва сдерживаемый протест. Особенно тяжело и горько было Вере осуждать отца. Гордый и временами крутой по отношению к подвластным и в чем-либо подчинённым ему, с детьми он был чрезвычайно снисходителен, нежен, любил проявлять свои чувства лаской, а у жены прямо заискивал и, видимо, расцветал, когда княгиня благосклонно принимала его заискивания. Веру, как единственную дочь, старик ласкал особенно часто. Его немного дрожащая и уже морщинистая рука скользила по волосам молодой девушки, он ласково заглядывал ей в лицо, и потому ли, что Вера никогда не была красива, потому ли, что таким способом лучше выражалась его нежность, отец говорил ей всегда одну и ту же фразу: «Моя девочка! Моя бедная девочка». Вера чувствовала на себе его любовь и мучилась своими осуждениями. С матерью, всегда холодной и избалованной поклонением, Вера сразу усвоила себе довольно резкий и уверенный тон. Этим тоном она хотела как бы подчеркнуть свою личность и заставить окружающих считаться с ней, но она чувствовала, как именно это желание возмущало и раздражало привыкшую к власти княгиню.
– Что ты из себя строишь? – не сдерживая своего раздражения, замечала Софья Дмитриевна.
– Я ничего не строю. Я такая, как есть, – пожимая плечами, отвечала Вера.
– Ты, кажется, хочешь переучить весь мир. Твой тон с Маровым, с Андрюшей, да и со всеми прямо невозможен.
– Но они возмущают меня, мама!
– Кто это возмущает тебя? Все? Никто не угодил? Глупы все, ты одна умна, набралась фанаберии и лезешь учить всех.
– Но ведь я никому ничего не навязываю.
– В тебе не осталось не простоты, ни скромности. Под предлогом чего-то там возвышенного, ты просто зла и придирчива.
– Зачем ты стараешься оскорбить меня, мама? – в свою очередь горячо вскрикивала Вера. – Оскорбить всегда легко, но оскорбление не доказательство. Я не могу высказаться, когда мы обе раздражены, а ты никогда не хочешь спокойно выслушать меня. Спокойно, без предубеждения.
– Признаюсь, не хочу! – притворно смеясь, говорила княгиня. – Жили без твоих проповедей, Бог даст, проживём дальше. Глупо жили! Что же делать?..
Каждый подобный разговор, не выясняя ничего, всё больше и больше отчуждал мать и дочь. Часто, сбитая с толку и огорчённая, Вера запиралась в своей комнате и там наедине припоминала только что сказанные слова, удивляясь тому, что сама она, Вера, как нарочно говорила в этих случаях не то, что нужно. Она ложилась ничком на кровать и сочиняла длинные, убедительные монологи.
– Почему ты думаешь, что я зла? – шептала она, чувствуя, что слезы набегают ей на глаза. – Если бы я была зла, мне бы не было обидно и больно. Ты думаешь, что я ненавижу людей? Но я ненавижу их отношение к жизни, а не их самих. Я уже потеряла это отношение и не могу опять приобрести его. Я так мелка и малодушна, что ради своего спокойствия я рада бы смотреть на всё чужими глазами, но у меня что-то изменилось в душе. Я не обольщаю себя и не думаю, что я сама стала лучше, но это лучшее открылось мне. Я допускаю, что можно попирать истину, но я хочу, чтобы вы признали её.
Всю эту ночь Вера плохо спала и мысленно много говорила с матерью. Более всего поразило девушку угаданное ею отношение Софьи Дмитриевны к намерениям Гарушина. Она слишком хорошо знала свою мать, чтобы сомневаться в том, что в её глазах счастье дочери, её чувства и взгляды отходили на задний план, стушёвывались, а вперёд, как пёстрые, чванливые марионетки, выдвигались тщеславие, гордость и денежные расчёты. Этим марионеткам, годным только на то, чтобы их выбросили за дверь, должна быть принесена человеческая жертва, и Вера знала, насколько простой и естественной казалась эта жертва в глазах княгини. Именно об ней она словно забывала и заботилась меньше всего: жертва должна быть принесена.
«А за что же мне пропадать? Вы даже не любите меня!» – с обычным задором и глубокой горечью мысленно восклицала Вера. Ей представлялось бесцветное, апатичное лицо Александра Гарушина, его мутный взгляд, его брезгливый, презрительный тон. Мысль, что он, из каких-то неясных ей расчётов, хочет купить её, заставляла кровь бросаться ей в голову. Чутьём женщины угадывала она, что Гарушин не только не любит её, но что она прямо не нравится ему.
– Никогда этого не будет! Никогда! Лучше смерть! – бесповоротно решала она и тут же с своей порывистой способностью переходить от одного чувства к другому, вполне противоположному, она радовалась, воображая, как удивит и оскорбит Гарушина её отказ.
– Я свободна! – говорила она себе гордо и радостно. – Нет ни у кого власти надо мной.
– Мы все в его власти, в его распоряжении… – припоминала она вдруг слова матери. Да, да… «Они» ждут жертвы, «они» хотят её. Если она принесёт эту жертву, им не будет жаль её, они будут рады.
В груди Веры что-то мучительно сжималось и ныло. Чему бы она обрадовалась теперь больше всего на свете, – это дружескому участию и дружескому совету. Но за участием и советом ей идти было некуда. Она подумала об отце, но отец был слаб и болен, его нельзя было расстраивать. Если бы она пришла и приласкалась к нему, он положил бы свою руку на её голову и сказал бы: «Моя девочка! Моя бедная девочка!»
VIII
Гарушины ездили часто, но вместо того, чтобы тревожиться и возмущаться, как делала это княгиня, старый князь привык к их посещениям, играл с Петром Ивановичем в пикет, Александра же часто не замечал и утверждал потом, что уже давно не видал его. В большинстве случаев княгиня не выходила из своих комнат, старики садились за игру, а Александр Петрович присоединялся к молодёжи и, слушая их разговор, переводил свой мутный взгляд от Веры к Ане, словно сравнивая их.
Часто он заставал здесь Листовича. всё общество собиралось у пруда или в круглой беседке. Аня неизменно что-нибудь шила, Маров говорил, выкуривая одну папиросу за другой и, видимо рисуясь, щеголял несколько циничной, но ненасытной жизнерадостностью. Вера следила за ним исподлобья, сдержанно волновалась и иногда, не выдержав, горячо и порывисто возражала ему.
– Я не знаю лжи лицемернее и глубже, как эта ваша рассудочная любовь, – говорил Маров. – Любить рассудочно, это значит не любить никого. Мне дано чувство, и я пользуюсь им для тех, кто мне близок, кто мне приятен. У меня есть стакан доброго старого вина, и я знаю, что это вино доставит мне наслаждение. Но если я возьму и вылью его в этот пруд, то вода от этого не будет вкуснее, а вина у меня не станет. Вот та любовь, которую вы проповедуете!
Он помахал себе в лицо своей широкополой соломенной шляпой и оглянулся, стараясь подметить произведённое впечатление.
– Не можете любить, так и не надо! – чуть не крикнула Вера. – Я вот тоже не могу… Зачем же лгать и притворяться? А только, я уверена, что в каждой душе есть что-то… какая-то жалость, какая-то нежность. Её надо найти, ей надо дать развиться… Для неё всё равно: свой ли, чужой ли. И зачем вы хотите отрицать, если это чувство именно поднимает вас из ничтожества? От чего вы защищаетесь?
– Вера Ильинишна! Княжна! – заговорил Маров, прижимая руки к жилету. – Я не ищу лишних страданий. На долю каждого отпущено их достаточно. Я не ищу…
Он грустно покачал головой и вдруг переменил тон.
– Моя любовь должна дать мне другое, – восторженно воскликнул он. – Я хочу радости, а не жалости, и, если я принесу кому-нибудь каплю счастья, я скажу себе, что и моя жизнь прошла недаром.
– Да, это так, – сказал Листович и выразительно поглядел на Аню.
Девушка густо покраснела.
– Да о чем же мы говорим? – нетерпеливо крикнула Вера. – Я согласна: мы все мелки, ничтожны и эгоистичны, и мы можем ещё так жить и нам может быть хорошо… Что вы мне доказываете? Повторяю, я с этим согласна. Но я не могу согласиться, что именно так должно быть. Я убеждена, что все мы лучше того, чем сами думаем, только боимся себя и того, что в нас есть лучшего… И скажите мне ещё, где гордость? В чем ложь? В том, что я признаю зло и хочу, чтобы его было меньше, или в том, что я признаю зло и выставляю его, как знамя, наперекор всему, с бесстыдством, которому нет оправдания!
– Княжна! – вскрикнул Листович. – Большая гордость в таком осуждении!
– Да, да, я знаю! – вне себя подхватила Вера. – И мне всё равно. Судите меня, как я вас сужу, но я должна была сказать то, что я сказала. Я бы прибавила ещё… – уже тише договорила она, – но в этом вы уже не поверите мне! Я охотно прибавила бы ещё, что и себя я осуждаю так же горячо, как вас, и себя я… ненавижу… Но вы не поверите, не поверите…
Выражение мучительного стыда пробежало по лицу Веры, она отвернулась и замолчала. Настала длинная и неловкая пауза.
Маров вздохнул и стал ощупывать свои карманы.
– Юрий Дмитриевич! Одолжите папиросочку: свои все вышли.
Александр Петрович присутствовал при разговоре с выражением нескрываемой, даже несколько высокомерной и совершенно искренней скуки. Он не понимал этой впечатлительной, некрасивой и о чем-то страдающей девушки и ему казалось, что из всех присутствующих он один только искренен в своём презрении к этим ненатуральным разговорам.