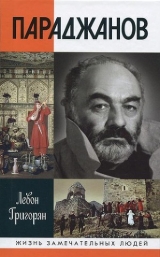
Текст книги "Параджанов"
Автор книги: Левон Григорян
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 27 страниц)
20. Панорама и Арка 1812 года (Можайское шоссе).
21. Бахрушинский музей (театр).
22. Французское посольство и церковь напротив (Иван-воин).
23. Новодевичий монастырь (могилы Чехова, Довженко, Шукшина и Хрущева).
24. И главное – все это познать, а не созерцать, как дешевый турист.
Это и есть жизнь – познать и преломить в себе…
А что среда, которая меня окружает?
Что я ни скажу, они хохочут и говорят: „Вот суккк-а гонит!..“ Это страшно. Какой удивительный мир порождает свобода и как страшно ее потерять».
На этих словах, оставленных нам как своеобразное завещание, можно было бы и закончить, но в этом письме есть еще удивительные строки:
«Суренчик! Чернигов – это потрясение. До Чернигова – Козелец. Шедевр – собор, построенный Растрелли, барокко + рококо. Потом сам Чернигов Великий…
Поезжайте в Новгород-Северский. Это 100 км. Это тоже вас потрясет. И вообще, в твоем возрасте и профессии интересно все, и даже музей Коцюбинского, где когда-то висел мой портрет. Сын Сурен, понравилось твое суровое письмо без лишних слов и слёз. Не думаю, что ты не понимал, что жил я для тебя, торопился показать тебе мир, но не успел. Делай сам. Это будет дороже…
А что, если я не доживу до радости увидеть тебя?
Это тоже не страшно. Страшное произошло – я смирился и думаю о монашеской кротости. Береги себя. Аминь.
С. Параджанов.
Июль 1977 г. Перевальск».
Почему-то сегодня принято вспоминать Параджанова в основном как балагура и забавного хохмача. Во всяком случае, некоторые его друзья, давая гастрольные туры по разным европейским столицам, с удовольствием рассказывают про него различные байки, веселя почтенную публику. Все это тоже было, и на первый взгляд фальсификации нет. Фальсификация в том, что Параджанов по своей сути к современной моде на гаерство и двусмысленные шуточки отношения не имел. Да, он был щедро наделен чувством юмора, но в своих фильмах он предельно серьезен, даже трагичен. В его фильмах и сценариях нет и следа балагурства и хохмачества. Его юмор, столь же талантливый, как и его творчество, был, по сути, маской, которую он надевал в быту и снимал, когда приступал к творчеству.
Перечитывая это письмо высококультурного человека (многие ли его известные друзья могли бы, даже находясь на свободе, составить письмо с такими подробными деталями), вновь удивляешься, откуда родилась распространенная байка, что Параджанов никогда ничего не читал кроме «Мойдодыра». Давайте еще раз вернемся к этой байке, потому что родилась она, кстати, с легкой руки следователя Макашова. Приведем еще один фрагмент из его интервью Алле Боссарт.
«– О чем вы с ним говорили?
– Да о чем с ним говорить… Я спросил его: „Когда вы в последний раз брали в руки художественную книгу?“ Он сказал: „Последняя книга, которая произвела на меня сильное впечатление, сразу после ВГИКа, был „Мойдодыр““»…
Как видим, устав от дотошных и туповатых расспросов, Параджанов отвечает явно с юмором, догадываясь, что Макашова интересует совсем другое, что он пытается выяснить, есть ли у него «самиздат». Но тот, не оценив юмора Параджанова, понял его по-чиновничьи дословно и привел его ответ как один из доводов на суде: «Вот, товарищи судьи, какое ничтожество перед вами». Его логика понятна, недаром он с удовольствием повторил слова Параджанова и годы спустя в интервью Алле Боссарт. Непонятна только логика друзей, с удовольствием вновь и вновь развлекающих народ байками о Параджанове.
Но вернемся к событиям тех горьких лет.
День шел за днем, год за годом, один лагерь сменялся другим. Вот хронология его перемещений: декабрь 1973 – июль 1974 – Киевская тюрьма; июль 1974 – апрель 1975 – лагерь Губник; апрель 1975 – август 1976 – лагерь Стрижавка; август 1976 – декабрь 1977 – лагерь Перевальск.
Перемещения – одно из самых трудных испытаний в жизни заключенного. Вырывают из более или менее привычного быта, разрывают худо-бедно налаженные контакты. Впереди душный, тесный арестантский вагон. Летом страшно раскаленный, без вентиляции, без глотка свежего воздуха. Естественно, без прогулок и с отвратительной едой (в лагере хоть плохая, но кухня). И наконец – впереди новый коллектив, новая стая, новое испытание, которое надо выдержать!
Попробуем еще раз окунуться в те реалии, в которых проходили его муки и испытания. Документы и свидетельства сохранились…
«Это невыносимо в моем состоянии. Новые администрации, новые лагеря, свои обычаи и невыносимая работа! Сейчас работаю в механическом цеху. Уборщиком металла. Плохо очень. Не могу выдержать. Резко падает зрение от напряжения…»
«Светлана! Если бы ты знала, какое здесь собрано зло. Какие патологии… Лагерь больше, чем Губник. Озверелые. Неукротимые… Не исключено, что это конец. Я так красиво жил 50 лет. Любил – болтал – восхищался – что-то познал – мало сделал – но очень многое любил. Людей очень любил и очень им обязан. Был нетерпим к серому. Самый модный цвет. Необходимость времени…»
«Рузанна! Ты говоришь о помиловании. Что помиловать? Грязь, которую вылили на меня, лишив профессии, авторитета, имени?.. Почему искали золото, оружие, спекуляцию, разврат, порнографию? Все это надо пережить…»
«К сожалению, я не Маугли, чтобы изучать язык джунглей…
А что, если я не доживу этот удивительный 1001 ночь и день…
…Это свора – волки: по-волчьи лай, вой…»
«Надо платить с расчета Средневековья и инквизиции. Такса очень высока.
…Ум, мозг, память не выдерживают такую информацию. Необходимо думать о маргарине в месяц хотя бы грамм 200–300…»
«На территории лагеря, где одна харкотня и моча, прорастают белые шампиньоны. Их крошат, бросая в баланду сырыми. Или весь лагерь бежит за случайно попавшей в карьер собакой и съедает ее полусырой…»
«Осталось 730 дней… Возможно, меня вообще не выпустят. Мне часто кажется, что это будет так. А если выпустят – какое счастье досмотреть, долюбить, доесть и дописать все, что не дописано. И что страшнее – отлучить от Церкви или от Искусства?..»
Здесь приведены отрывки из разных писем из разных лагерей. Можно было привести и другие… Они не менее выразительны и страшны. Возможно, самое страшное, что этих признаний много… Но все они об одном – о боли! Эта боль Параджанова не оставит больше никогда. В годы перестройки, когда к нему со всех сторон нахлынули журналисты, когда его интервью снимали бесконечные камеры, он будет говорить именно об этом. О боли, которая осталась навсегда… Как осталась навсегда у Шаламова, Солженицына, Оскара Уайльда, Сервантеса… Художников, увидевших Ад не в воображении, как Данте, а воочию!
Глава тридцать шестая
В КРУГЕ ПОСЛЕДНЕМ
Из-под каких развалин говорю,
Из-под какого я кричу обвала,
Как в негашеной извести горю
Под сводами зловонного подвала.
Ахматова
В Музее Параджанова в Ереване есть особая комната. Здесь меркнут краски и глохнут звуки. Здесь нет ни яркой киновари, ни ласковой бирюзы, ни мягкой охры – всех так хорошо знакомых красок в палитре параджановских работ. Здесь на стенах черно-синяя гамма, два цвета, оставленные ему в заключении, и все исполнено здесь простой шариковой ручкой, единственным разрешенным ему инструментом. Это, прямо скажем, страшноватая комната, напоминающая скорее отделение милиции, где со стендов смотрят разные лица, объединенные одним знаменателем: «разыскиваются…» Это галерея героев «последнего круга», тех, с кем Параджанов отсчитывал долгие годы своего срока, – мрачные лица, колючий взгляд, тяжелые подбородки. Даже в этой комнате трудно находиться долго, а Параджанов провел с этими людьми четыре года.
Единственное светлое пятно в этом черно-синем мире – гуттаперчевая кукла с наивно распахнутыми глазами. Обыкновенная игрушка с прилавка «Детского мира», одетая в арестантскую робу, с метлой в руке. К детской головке приклеена седая борода – ершик от унитаза. Это – автопортрет Параджанова.
В этой комнате принято молчать. Здесь и так сказано всё…
Владыки джунглей с царственной усмешкой смотрят на розовую куклу. Им хорошо знакома эта сцена: Параджанов, убирающий нечистоты. В их жестоком мире они – высшая каста – «кшастри», воины. А он «шудра» – уборщик.
Жутковатая комната, мрачная, неприятная галерея, и все же никуда не уйти от истины, что именно эти люди с жестким взглядом – «авторитеты», «доны» и «короли» преступного – мира спасли Параджанова от железной руки, занесенной над ним, что эти блатные «волки» не тронули его, как когда-то свирепые львы не тронули пророка Даниила, брошенного им на растерзание.
Черно-синяя галерея портретов (удивительная перекличка с колером татуировок), смотрящих со стен, удивительно выразительна. Здесь не толпа, не массовка шагающих арестантов – здесь каждый личность, характер.
Прошли годы, и многие эти «портреты» возникали затем в доме Параджанова и были в нем такими же, как и Марчелло Мастроянни и Тонино Гуэрра, Андрей Тарковский и Майя Плисецкая, Владимир Высоцкий и Марина Влади и многие другие известные люди из мира искусства, наполнявшие его дом.
В отличие от них это были молчаливые гости, они появлялись без предупреждения, так же неожиданно. Быть может, они когда-нибудь поделятся своими воспоминаниями, и мы узнаем многие детали тех дней и лет.
Годы заключения для Параджанова, безусловно, самые трудные, но при этом в письмах он часто признается, что счастлив. Почему?
Ответ в том, что именно здесь, в душных зловонных бараках, он неожиданно взломал ту глухую стену молчания, что возникла перед ним там, на воле. Он нашел внимающих!.. Своих зрителей, читателей, слушателей… «Слабость побеждает силу» – говорил Лао-цзы. В отношении Параджанова эти слова удивительно точны.
Да, в отличие от героев романа Солженицына он не был «в круге первом». Он не работал в привилегированной «шарашке», не беседовал с интеллектуалами, не получал масло к праздникам и лишь мечтал о маргарине, о возможности хоть раз досыта наесться. Он был «шудра» и брошен в «круг последний»! Но слабость его победила силу, ибо с ним была сила духа и интеллекта. И он продолжал творить даже здесь – в круге последнем… Он обратился к Евангелию и создал свои лучшие рисунки. Он создал здесь удивительный сценарий «Лебединое озеро – Зона», который впоследствии экранизировал Юрий Ильенко. Он придумал здесь множество новелл, в которых рассказал свою правду о лагерной жизни, по откровенности и образности они не уступают лучшим образцам этой весьма известной литературы. Здесь не жизнь политзаключенного, здесь жизнь художника среди убийц и воров, среди «овчарок» и «шерстяных».
Один из парадоксов его выживания в том, что он именно здесь нашел «внимающих» и смог выговориться до конца. Живая вода его творчества не уходила в песок, не загнивала болотной жижей, его голос наконец-то был услышан. Его окружали страшные люди, но глаза у них были не тухлые, не равнодушные, в них он видел свет восхищения, свет признания. Лишенный зрителя на воле, он все-таки прорвался к своему зрителю здесь – в неволе! Человек, превративший свою жизнь в театр, остался таким же и в лагере. И каждый вечер занавес открывался, и каждый раз был аншлаг.
Говоря об этом, нельзя не учесть, что кураж, свойственный Параджанову, его дерзость, артистизм и смелость всегда высоко котировались в этой среде. Даже пребывая в низшей касте, он, «шудра», стал равен «кшастриям». Иерархический мир криминала чувствовал в нем «высшую пробу». Перед ворами в законе, этими донами и королями блатного мира, стоял король в своем деле, в своем умении. Не туфта, не лажа, а режиссер в законе!
Вспомним, с какой досадой, даже спустя годы, Макашов утверждает, что в лагере Параджанов пребывал в «замечательной» обстановке. Он ломал принятые законы в кино и теперь, в лагере, ломал кастовую иерархию. «Кшастрии» приветствовали «шудру» как равного. В уборщике, моющем их сортиры, они оценили и его безумную щедрость, и его безумную смелость. Он не стал Маугли, не выучился волчьему языку, не овладел ни «феней», ни блатной музыкой. Но зато волки оценили его личность!
«Шарашки» у Параджанова не было. Но зато у него был свой Театр… Театр, который он пронес даже за колючую проволоку. Театр, который дал ему жизнь. И двери этого театра были открыты каждый вечер.
Открывавший те двери пусть вспомнит. Закрывающий их пусть не забудет…
Глава тридцать седьмая
ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ
Но и нас ведь должен с палубы
Видеть кто-нибудь,
Чье желанье сознавало бы
Этот вольный путь.
Брюсов
Параджанова пытались освободить многие. Тарковский обращался к Тонино Гуэрре, Феллини и другим известным европейским кинематографистам. В Бюллетене Иллинойского университета за 1975 год опубликован текст Петиции о предоставлении амнистии Параджанову, под которой поставили подписи виднейшие кинематографисты Америки. Среди подписавшихся Роберт де Ниро, Берт Ланкастер, Боб Доуи, Джин Келли и множество других известных деятелей кино; виднейшие профессора: Герберт Маршалл, Джек Лейда, Уильям Саймон, Роберт Коэн и другие; известные дистрибьюторы: Дональд Рагафф – президент компании «Синема-5», Сол Турел, Лео Дратфильд – президент компании «Янус-фильм». Директора фестивалей и музеев, в том числе Ричард Роуд (директор Нью-Йорского кинофестиваля), Джоан Кох (исполнительный директор общества кино Линкольн-центра), Тед Пери (руководитель отдела кино Музея современного искусства в Нью-Йорке). Писатели, в числе которых Джон Апдайк, Филипп Роф, Ирвинг Стоун и другие. Всего более шестидесяти фамилий представителей интеллектуальной элиты Америки, обращающихся с просьбой сократить срок заключения Параджанова.
Власть это серьезнейшее обращение проигнорировала.
Армянская диаспора во Франции устроила в знак протеста грандиозную манифестацию в день открытия Каннского фестиваля и пронесла по набережной Круазетт огромное изображение Саят-Новы, руки которого были закованы в кандалы.
Власть никак не реагировала на гневные заявления манифестантов.
Радиостанция «Свобода» регулярно упоминала о заключении Параджанова.
Власть плевала на «Свободу».
В защиту Параджанова поднимали голос протеста виднейшие мастера европейского кино: Микеланджело Антониони, Федерико Феллини, Луис Буньюэль, Ален Рене, Франсуа Трюффо, Жан Люк Годар, Луи Малль, Костас-Гаврас, Бернардо Бертолуччи, Карлос Саура, Роберто Росселини.
Власть делала вид, что не видит мировую элиту кино в упор. Хотя обращения об амнистии подавались не только в Верховный Совет Украинской ССР, но и представителю Украины в ООН, и послу СССР в США.
И все же власть дрогнула, и Параджанов вышел из заключения досрочно.
Как же это могло произойти? Кто смог добиться амнистии? Приходится констатировать, что иногда даже власть оказывается бессильной перед Женщиной… Ее голос оказался сильнее голосов многих достойных мужей. Женщиной, спасшей Параджанова, была Лиля Брик.
Лиля Брик была в числе московских друзей Параджанова, и дом ее, где висели подлинные работы Пикассо, Модильяни, Шагала, Леже, Пиросмани и многих других замечательных художников, всегда привлекал его. Здесь его ждали встречи с той подлинной красотой, к которой он всегда был так неравнодушен.
Среди друзей Параджанова, число которых резко сократилось после его ареста (к его удивлению, и самых близких), Лиля Брик и ее муж Василий Абгарович оставались самыми постоянными корреспондентами, их письма и посылки шли к Параджанову регулярно. В ответ он посылал им свои рисунки, коллажи из сухих цветов, откровенно делился своими печалями и тревогами.
У знаменитой Лили Брик, многое видевшей на своем веку, была не менее знаменитая сестра – французская писательница Эльза Триоле, жена писателя-сюрреалиста Луи Арагона. Как и многие «левые интеллектуалы», он в 1930-е годы горячо сочувствовал экспериментам по построению «нового общества», которое проводилось в СССР. Лозунг «мы наш, мы новый мир построим» был весьма близок его сюрреалистическим воззрениям. Член ЦК компартии Франции, известный своим большим романом «Коммунисты», переведенным чуть ли не на все языки народов СССР, Арагон считался большим другом нашей страны.
Со временем, надо сказать, дружба эта несколько потускнела: «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, издаваемый не меньшими тиражами на не меньшем числе языков, стал холодным душем для «левой» интеллигенции, и пахнувший с его страниц леденящий холод колымских лагерей весьма отрезвил ее. Чем мог вдохновить бывшего поэта-бунтаря брежневский застой? Остановившая свое течение когда-то бурная общественная и творческая жизнь, закосневшие идеи и выцветшие лозунги.
Обновить дружбу решили типичным способом тех лет – наградить Арагона орденом Дружбы народов. Арагон, конечно, плясать от радости не стал и вежливо, но скупо поблагодарил. Возможно, на этом дело бы и закончилось, если бы не женская, типично дворцовая интрига. Лиля Брик лично обратилась к Арагону. В результате их беседы родился план: ехать в Москву, получать орден и просить личной встречи с генсеком Брежневым.
Число знаменитых друзей Советской России в те годы уже стремительно сокращалось, к тому же приближалось 60-летие Октябрьской революции, а времена блестящей режиссуры Сталина, когда интеллектуальный цвет Европы рвался воспеть «новый мир», канули в Лету, тусклая сусловская режиссура уже никого не вдохновляла, а потому знаменитого друга Арагона было решено допустить к первому лицу государства. Пусть пообщаются, а вдруг душевно получится.
Если бы знали, для чего задумана вся эта операция! По сути, это был бартер – награда за награду, орден Дружбы народов в обмен на освобождение Параджанова.
Встреча состоялась в Большом театре в правительственной ложе. Как именно проходила эта знаменательная беседа, мы не знаем. Но известно, что Брежнев понятия не имел о Параджанове и с удивлением слушал слова Арагона о том, что амнистия известного режиссера в связи с 60-летием Великого Октября была бы очень горячо встречена на Западе всей интеллектуальной элитой. Империя не могла обидеть дорогого гостя, и все случилось так, как было задумано замечательной женщиной…
Недалеко от Большого театра на Спасской башне пробили часы. На самом деле это пробил час освобождения Параджанова… В бескрайние дали холодных степей под Ворошиловградом, в лагерь строгого режима № 307 в Перевальске мчалась правительственная депеша – высочайший указ об амнистии!
31 декабря 1977 года ржаво проскрипела металлическая дверь – Параджанов был свободен!
…Лиля Брик, закутавшись в шаль, устало откинулась в своем кресле. Шерше ля фам – ищите женщину…
Глава тридцать восьмая
АВТОРСКАЯ ПАУЗА
Поезд прибывал в Тбилиси в девять утра. Сквозь сиреневую дымку вставали знакомые очертания города. Новый год на этот раз не подвел и побаловал белым свежим снежком, покрывшим и старые черепичные крыши, и купола храмов, и крутые отроги Мтацминды, где ниже фуникулера располагался знакомый дом 7 на улице Котэ Месхи.
С моим приятелем режиссером Рубеном Геворкянцем мы направлялись именно туда. Странным образом судьба привела нас четыре года назад к двери киевского дома Параджанова через сутки после его ареста, и сейчас, также нежданно-негадан-но, мы снова вместе направлялись к его на этот раз тбилисскому дому через двое суток после его освобождения.
В памяти стояла свежая красно-коричневая печать с гербовым знаком, замуровавшая дверь в его киевский дом. Там, где всегда были смех, шум, фонтан новых выдумок и творений, теперь была тишина… Дом опустел, смех смолк…
Образ этой немой двери с казенным штампом вставал все эти годы как символ загробья, куда он шагнул. Метаморфозы. Дверь, трансформировавшаяся в гробовую доску…
Так казалось… Основания были.
Такси на крутом подъеме, покрытом свежим снегом, забуксовало. Последние метры к дому молча прошли пешком. Слов не было. Кого увидим?.. Как выглядит Орфей, вернувшийся из ада? Кто нас встретит – призрак, тень былого?
Нас встретили знакомый смех, знакомая озорная улыбка и… незнакомое лицо. Бороды не было (зэку не положено), всё остальное было прежним. Вернее… как до погружения во Тьму… на четыре с половиной года. Какой призрак, какая тень былого! Нас встретил живой, можно сказать, даже огнедышащий человек, ибо он ощутимо горел огнем творчества. И первое, что он сделал, опережая наши расспросы и извлекаемые нами подарки, сам рассыпал перед нами горсть «дукатов», «дублонов», «талеров». Алюминиевые крышки от бутылок из-под молока, на которых, имитируя старинные монеты, были начертаны профили «королей». На одной из них был начертан его профиль. Его печать. Знак победы! Этот выдавленный шариковой ручкой на фольге профиль словно был ответом на ту кроваво-красную печать, замуровавшую его дверь. Он не дал той запертой двери стать гробовой доской, не дал ей надвинуться и припечатать его. Все эти годы загробья он продолжал творить, рисовать, писать. Изобретать (пусть не на пленке) новые фильмы, новые киноновеллы.
Пройдут годы, и Тонино Гуэрра поместит этот профиль на медаль имени Параджанова, которая будет вручаться на фестивалях.
А тогда, в тот день, из побитого чемоданчика начали извлекаться шедевры – удивительные рисунки, коллажи, ассамбляжи, составленные из дерюги, угольных мешков, соломы из тюремных матрасов. Водопад этой внезапно нахлынувшей красоты ошеломлял. Не сдерживая восхищения, мы не знали, что делать: засыпать его вопросами или восхищаться этой россыпью шедевров, которые жалко было выпускать из рук. Уделять внимание ему или его творениям…
Была поседевшая голова, белая щетина вновь отпускаемой (теперь уже седой) бороды, были живые знакомые глаза. Он не только выжил, он не изменился.
Пройдут годы, и я пойму, что тогда, в те радостные минуты первой встречи, был не прав, эмоции перехлестнули. «Зона» оставила неизгладимые следы… Да, он не сломался, он сохранил неиссякаемую жажду творчества, он не дал потушить свой огонь… Но и шрамы остались на всю жизнь! Не случайно десять лет спустя, увенчанный уже наградами всех лучших фестивалей, он начал говорить о той давней, спрятанной боли…
Словно предчувствуя приближение смертельной болезни, он в своих последних интервью дал другую оценку этим годам.
Уже не храбрился, не делал вид, что все ему было нипочем, что он гордо выпил свою чашу… Нет, теперь он снова и снова делился этой не умолкающей болью. А в глазах стоял немой вопрос: за что? За что была послана эта чаша? За неиссякаемую любовь к красоте?
Но тогда, в тот воистину незабываемый и удивительно счастливый день, все было по-другому, и ощущение праздника от встречи, от увиденной красоты захлестнуло нас. Внизу, в городе, был Новый год, накрытые праздничные столы, звенели новогодние бокалы, звучали тосты, витали ароматы сациви и жареных поросят.
Мы сидели в давно не топленной комнате на старом диване и слушали его рассказы. И этот наш духовный пир был неизмеримо богаче.
Тбилиси в то утро еще спал. Весть пришла в город позже.
Пройдет три дня, и лестница его дома затрещит от спешащих шагов. Будут идти с вином, накрывать щедрые столы. Все это скоро мы увидели…
Но в памяти те три дня – первые три дня свободы… А еще три ночи… Ибо рассказывать о себе и о своей боли он начинал ночью. Как жаль, что тогда не было диктофонов… Те рассказы были из первых рук. В те ночи нам досталось право «первых ушей».
Позже это все он сам трансформировал, добавил множество художественных придумок, превратил в новеллы, сделал замечательный сценарий. Но тогда это была ошеломительная правда деталей… Такая же, как в письмах.
Одним из его главных желаний было посетить могилу матери. Сирануш была его божеством, непререкаемым авторитетом, с которым он считался, шагнув и за сорок лет. Беда, случившаяся с сыном, подкосила ее. И весть о ее смерти (поначалу скрываемая) сделала еще темнее его лагерные ночи. И свои первые шаги на свободе он сделал к ее могиле… Мы с Рубеном сопровождали его, и в памяти навсегда остался этот день.
В принципе я ждал обычных в таких случаях эмоций. Но было совсем иное… Подойдя к могильной ограде, он вдруг затряс ее изо всех сил. Что это было? Что он хотел? Звал? Стонал? Взывал? Или протестовал против этого еще одного жестокого приговора судьбы? Может, эта металлическая ограда напомнила ему тюремную решетку, что не дала попрощаться с любимой матерью, не позволила исполнить сыновний долг?
Таким сдержанным и немногословным я Параджанова не видел никогда. Ни до, ни после… Никаких сантиментов, ни даже скупой слезы или горестного вздоха. Только грохот металла. Потом молчание. И краткое: «Пошли…»
В дальнейшем история его освобождения обросла легендами, многие из них сотворил он сам. Версий, кто и как его освободил, возникло множество. Есть даже документальные кадры его первых дней свободы, даже кадры, как Параджанов плачет под проливным дождем (в январе?) у могилы матери. Но я помню другой день – морозный, холодный, яростный…








