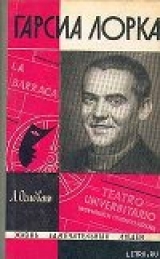
Текст книги "Гарсиа Лорка"
Автор книги: Лев Осповат
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 29 страниц)
9
Неподалеку от Аскеросы, в деревне Пинос Пуэнте, проводил каникулы Пеле Мора. Когда он приходил к Федерико, донья Висента, знавшая всех в округе, расспрашивала:
– Ну что, не вышла еще замуж Ампаро Медина? А Мария Санчес все так же хороша собой?
Федерико был знаком с Марией Санчес. Волосы у нее были седые, а лицо молодое, нежное. Поседела она в один день, много лет назад, когда у нее на руках умер жених, упавший с лошади. На старуху она не походила и всякий раз, как Федерико и Пеле навещали ее, встречала их оживленно и весело, болтала о всякой всячине. Но в самом этом ее оживлении, в слишком уж звонком смехе было что-то щемящее, жалкое.
История Ампаро Медины была еще обыкновеннее: ее жених из года в год откладывал свадьбу под разными предлогами, а время шло, из девушки она превращалась в старую деву. Проходя мимо ее дома, Пепе и Федерико всегда видели, как она, в праздничном платье, тщательно причесанная, сидит у окна, устремив куда-то в пространство свой голодный, неистовый, взывающий к справедливости взгляд.
Этот взгляд преследовал их всю обратную дорогу до Аскеросы, и Пепе, яростно сбивая палкой верхушки бурьяна, произносил речи о несчастной судьбе испанских женщин. Смолоду перед ними открыты лишь две возможности: если девушка красива, из нее делают приманку для богатого жениха, если же нет, то роли меняются и крючок забрасывает жених – разумеется, небогатый. Браки по любви – редкость, во всяком случае, в высшем и среднем классе. Но страшнее всего остаться одинокой, окруженной презрением и насмешками или той жалостью, которая хуже всяких насмешек. И вот, пока молодые франты прогуливаются по улицам, на каждом балконе, за каждой оконной решеткой надеются, томятся, изнывают тысячи девушек, разбиваются тысячи сердец!
Федерико шагал молча, завидуя Пепе, умевшему выговориться. То, что чувствовал он сам, не укладывалось в слова – это было глухой, привычной болью, шедшей откуда-то из детства, может быть, из воспоминаний о случайно подслушанном разговоре, о потаенных материнских слезах. Иногда эта боль обострялась, к ней присоединялось ощущение своей вины – необъяснимое, но такое мучительное, что он готов был прибежать под окно к Ампаро, сказать слова любви, что угодно, лишь бы увидеть радость в ее глазах! Потом острота сглаживалась, боль словно засыпала, но никогда не уходила совсем и довольно было легкого толчка, чтобы вновь ее разбудить.
Из всех известных ему несправедливостей жизни ни одна почему-то не ранила его так глубоко. Мир был построен мужчинами, уверенными и решительными, а женщинам с их нежными, беззащитными сердцами в этом мире было холодно и неуютно. Мужчины уходили в море, а женщины ждали их на берегу. Мужья отправлялись на войну, а жены оставались дома. Матери отдавали сыновей на муки, а сами могли лишь рыдать у подножия креста. И все же самым ужасным было не найти себе места в этом жестоком мужском мире, не оставить в нем следа, пройти незамеченной.
И в Гранаде все напоминало о том же. В Королевской часовне покоилась Хуана Безумная, несчастная дочь Фернандо и Исабель, сошедшая с ума после смерти своего мужа и погребенная вместе с ним. Собираясь в кондитерскую, донья Висента говорила по старой памяти: «схожу к красоткам с Кампильо». За выражением этим стояла целая история о двух сестрах, открывших еще в конце прошлого века кондитерскую на площади Кампильо. Пока они были молоды и привлекательны, от покупателей отбоя не было, гранадские юноши проводили целые дни в кондитерской, но почему-то ни один из них так и не решился предложить какой-либо из сестер руку и сердце. Шли годы, девушки высохли, состарились, торговля пришла в упадок и название «красотки с Кампильо» стало звучать насмешкой. А сколько таких же историй происходило вокруг!
Просыпаясь на рассвете, Федерико вспоминал: сейчас вместе с ним этот утренний перезвон колоколов слушают девушки Гранады и Кордовы. Девушки Андалусии – Верхней и Нижней. Девушки всей Испании, воспетые поэтами, прославленные живописцами – черные глаза, маленькая ножка, мантилья, гребень... Они слушают эти колокола на заре, после бессонной, бесконечной ночи, после горючих слез в подушку, с новой, робкой, последней надеждой. Дайте им эту надежду, колокола Кордовы! Пообещайте им счастье, колокола Гранады!
10
Тяга к стихотворству одолевала его все чаще. Федерико пытался противиться: стихи писались слишком легко, а музыка приучила его бояться этой обманчивой легкости. Но попробуй удержись, когда все друзья словно помешались на поэзии – сочиняют, декламируют, без конца спорят. Все же своих стихов он им не показывал, довольствуясь участием в коллективном сочинении пародий.
У закоулочников это стало теперь любимым развлечением. Никакой разбор, никакая критика не способны были так обнажить и выставить на свет божий всю напыщенность, пошлость и фальшь какого-нибудь Мануэля де Гонгоры, как удавалось это сделать с помощью одной счастливой строки, написанной в его же собственной, чуть утрированной манере. Они проводили прекрасные минуты в поисках такой строки, потешаясь, фыркая, наперебой придумывая стихи.
Федерико еще в детстве заставлял всю семью покатываться со смеху, показывая, как донья Висента ищет пропавший клубок ниток по всему дому или как гневается отец, если заговорить с ним о делах перед обедом. С годами лицедейство вошло в привычку, Федерико слыл пересмешником, хотя и сам он не смог бы сказать, что тут было от игры, а что – от жгучего, становившегося порой непреодолимым желания проникнуть в чувства другого человека, через внешнее – жест, походку, манеры – прикоснуться к чему-то сокровенному в нем.
Еще он любил развлекаться тем, что проигрывал на пианино музыкальные отрывки, заставляя окружающих догадываться, откуда это. «Из Шопена!» – говорила мать, заслышав славянскую, элегически-танцевальную мелодию. «А это?» – «Это, пожалуй, из Бетховена». – «А это?» – «Ну, это твой новый любимец-француз, как его там, словно кошка ходит по клавишам...» – «Ничего подобного! – смеялся Федерико, – это все Федерико Гарсиа Шопен, Федерико ван Бетховен, Федерико Гарсиа Дебюсси!»
Литературные забавы друзей пришлись ему по вкусу. И здесь вся штука заключалась в тем, чтобы не просто подражать, а ухватить суть. Пародируемые поэты были таковы, что самое существенное оказывалось и самым смешным. Пакито Сориано отлично чувствовал юмор, но природная мягкость, пожалуй, мешала ему. Пепе Мора, наоборот, впадал, увлекаясь, в обличительный тон. Федерико внимательно слушал их спор, давал им выдохнуться, потом лицо его становилось совсем детским, и он предлагал свой вариант. Закоулочники вскидывали брови, значительно переглядывались.
Несколько пародий, сочиненных общими усилиями, решили послать под разными псевдонимами на традиционный литературный конкурс, который ежегодно проводился в Гранаде Королевским экономическим обществом друзей страны, – авось жюри примет их за чистую монету! К восторгу закоулочников, шутка удалась, стихотворения были даже премированы. Тогда возник новый план: писать под общим псевдонимом, объединиться в одном лице и наградить это лицо всеми пороками господствующего вкуса.
Так появился на свет Капдепон – поэт, не существовавший в действительности и тем не менее внесший, как принято выражаться, свой вклад в историю испанской литературы. Исидоро Фернандес Капдепон (громозвучной фамилией этой закоулочники немало гордились) родился, разумеется, в Гранаде, «под сенью фонтанов и тенью олив». Достигнув юношеских лет, он отправился в Америку, где в беспрерывных странствиях развивал и совершенствовал свой творческий гений, и лишь теперь, увенчанный лаврами, возвратился на родину. Он оказался необычайно плодовит и в самый непродолжительный срок наводнил своей продукцией периодические издания обеих Кастилии и Леона (в андалусские издания поэт-невидимка первое время из осторожности не совался).
Стихи Капдепона помещали довольно охотно. Его трескучие оды, слезливые элегии и приторные мадригалы были ничуть не хуже множества других, публиковавшихся в журналах и газетах Испании. Горделивые воспоминания о прошлом, туманные, но вполне оптимистические прорицания, несокрушимая твердость в вопросах веры и умеренная игривость в делах амурных – от всего этого веяло истинно испанским духом.
Мало-помалу дон Исидоро сделался известен в литературных кругах. Дошло до того, что критик Диес-Канедо, посвященный закоулочниками в заговор, поместил в одной из мадридских газет статью, в которой выдвигал кандидатуру Капдепона на вакантное место в академии. Пепе Мора откликнулся на это другой статьей, содержавшей подробные биографические сведения об «одном из самых выдающихся поэтов иберийской расы» и характеристику его книг «Лира странника», «Трубадур двух миров» и других.
Слава вскружила голову Капдепону, и он потерял осторожность. Это его и погубило. В журнале «Торговый союз», выходившем в Малаге, появился сонет Капдепона, посвященный Севильскому поэту Хуану Антонио де Кавестани, похожему на него во всем, с одной только разницей: этот на самом деле существовал. Восхваляя в прочувствованных выражениях дар севильца, гранадский поэт вспоминал о своих с ним встречах в Америке:
С тобой на уругвайских берегах
делили одиночество мы – ах! —
взаимно услаждаясь медом дружбы.
И ныне здесь, отчизну возлюбя,
я, мой собрат, приветствую тебя
среди забот твоей священной службы!
Кавестани возмутился. В письме, опубликованном в следующем номере журнала, он утверждал, что никогда не имел чести быть знакомым с сеньором Капдепоном и сверх того никогда не бывал в Америке. Редакция со своей стороны заявила, что была введена в заблуждение неизвестными шутниками, и дону Исидоро ввиду таких обстоятельств пришлось прекратить свою столь блистательно начатую карьеру.
Сочинению пародий Федерико предавался с азартом. Никто не знал о тех, других стихах, которые он писал втихомолку. Между двумя этими занятиями существовала, однако, тайная связь. Собственные стихи тоже были подражательны, теперь он отлично понимал это. Но Федерико упрямо продолжал их писать, вживаясь в манеру то одного, то другого поэта, все больше увлекаясь этой игрой.
Игрой? В глубине души он давно уже знал, что это не так. Выбор был сделан – это произошло как-то незаметно. Слово – вот чем победит он смерть, вот во что претворится, вот ключ, которым отомкнет целый мир, заключенный внутри него и рвущийся наружу. Человеческое слово, средоточие всех чувств, сгусток жизни, нить, связывающая людей! Его затаптывают в грязь, его калечат, подделывают, наряжают в шутовские одежды. Но приходит поэзия, и очищает слово, и возвращает ему первозданную, чудотворную силу. И невозможное становится возможным.
Он был как путешественник, подошедший к рубежу огромной неведомой страны. Вот сейчас кончатся чужие следы и придется пробираться сквозь чащу. Всматривайся же в безвестную даль, привыкай к непривычным масштабам, высматривай кратчайший путь к заповедным местам.
Федерико искал этот путь, перебирая любимых поэтов. Ему давно уже нравился Беккер – грустный, слегка иронический. Потом его покорил Рубен Дарио, он был заворожен музыкальностью этих нарядных стихов, исписывал в подражание им страницу за страницей. Но, быть может, именно музыкальность в конце концов и расхолодила его: человеческий голос не нуждался в украшениях, свою силу он должен черпать лишь в себе самом.
Потом – Мануэль Мачадо; его книга «Канте хондо» показалась было Федерико настоящим откровением – сборник андалусских песен. Такие же песни распевали в Фуэнте Вакеросе, и в Аскеросе, и здесь, в кабачках Гранады. Такие же? Да, в этих малагеньях и севильянах все, казалось, было как в настоящих, а вот поди ж ты, не трогали они сердце и в сравнении с незамысловатыми песенками старого болтуна Санчо выглядели бумажными розами.
Хуан Рамон Хименес вначале не производил на него особенного впечатления: изящество, чистота, но слишком уж холодновато. После пиршества звуков и красок у Дарио эти стихи выглядели бедными. Но как-то, листая «Пасторали», Федерико остановился. Поле, вечер. Со скошенных лугов тянет запахом сена. Уснувшие сосны и нежно-фиолетовое небо над холмом. Я иду по тропинке, а где-то впереди печальная песенка – то ли песня, то ли плач по умершей любви, – и в песенке этой вся печаль иных сентябрьских вечеров, которые вот так же пахли сеном.
И вдруг Федерико узнал себя, свои вечерние прогулки в Аскеросе, свои собственные неопределенные чувства, которые именно в эту секунду приобрели очертания, облеклись в слова. Боже мой, да ведь это же самое вынашивал и он, только не мог, не умел, не решался выразить... Так вот как поступает настоящий поэт! Никаких подходов и разъяснений, закреплять ощущение, быть верным чувству, не пытаться досказывать... Это бедность? Да здравствует бедность!
Он читал Хименеса словно впервые. Все теперь восхищало его в этом поэте – и андалусский колорит, и чисто андалусская сдержанность. Этот не подражал музыке, не тягался с живописцами. Неприхотливые рифмы, немногочисленные образы. Все решало слово – весомое, безошибочно выбранное; поэзия рождалась от его соприкосновения с другими словами. Под народную песню Хименес не подделывался, он учился у нее, а в чем-то и соперничал с нею. Цветовой символикой он пользовался совершенно так же, как те безыменные сочинители, которые умели одним лишь упоминанием белого цвета сказать о грусти, а красным – о страсти. И с той же свободой, что они, предоставлял он воображению читателя дорисовывать едва намеченную картину.
Учиться у Хименеса было невыносимо трудно. Этот поэт не поддавался пародированию, не отдавал своих секретов даром; он, как дьявол в сказке, требовал взамен душу. Перечитывая собственные стихи, Федерико то и дело обнаруживал в них чужие мысли, чужую, заемную скорбь. Хуже всего было то, что у него все это получалось каким-то уменьшенным, несерьезным: не мудрость, а многозначительность, вместо недосказанности – недомолвки. И такая злость охватывала Федерико, что он, если бы только мог, тут же бросил бы стихи навсегда. Но он не мог.
11
В университете появилась новая фигура – профессор политического права Фернандо де лос Риос. Известно было, что он из Мадрида, питомец Свободного института образования, полон всяких либеральных идей и проектов.
Новый профессор оказался моложав, несолиден, усы у него были редкие и торчали кверху, пиджак он носил слишком короткий, со студентами держался запанибрата. Вдобавок ко всему он еще состоял в гражданском браке, и дон Андрес Манхон вынужден был посвятить целую лекцию папским декреталиям, гласящим, что гражданский брак есть незаконное сожительство.
И студентам дон Фернандо поначалу не понравился. Товарищеский тон его был истолкован как заигрывание, призывы к самостоятельной исследовательской работе, к участию в заседаниях кафедры сочтены пустым прожектерством. А когда он попросил, чтобы каждый студент дал ему свою визитную карточку (как будто у них имелись визитные карточки!), написав на ней, какими языками он владеет (как будто они владели какими-нибудь, кроме испанского!), для того, чтобы профессор смог снабдить их дополнительной литературой из своей личной библиотеки (как будто мало им было учебника!), – приговор был произнесен, и свистящее словечко «cursi» пронеслось над аудиторией.
Выскочку следовало проучить. На мятых, вырванных из тетрадей листках они написали свои фамилии и названия языков, выбрав позаковыристей: китайский, арабский, сиамский, калмыцкий... И стали с наслаждением ожидать скандала.
Скандала не последовало. На следующий раз профессор вошел в аудиторию, оглядел студентов смеющимися глазами и принялся как ни в чем не бывало рассказывать о политической жизни древних Афин. И даже самые завзятые лодыри не могли не признать, что говорит он интересно, живо и что некоторые его замечания насчет преимущества демократических порядков над монархическими наводят на весьма любопытные размышления.
Мало-помалу лед таял. Несколько старшекурсников – в их числе Пепе Мора – решились принять предложение дона Фернандо и побывали у него в гостях. Дома он был еще более прост, радушен, рассказывал преинтересные вещи о Марбургском университете, где учился когда-то, о своем знаменитом дяде – просветителе и яром республиканце Франсиско Хинер де лос Риосе, позволял себе вольные суждения о политике.
Пепе описал свой визит друзьям, те заинтересовались: черт подери, наконец-то свежий человек в нашей сонной Гранаде. Со своей стороны профессор явно искал сближения с молодежью. Все это привело к тому, что в один прекрасный вечер дон Фернандо, ничуть не смущаясь, вошел в кафе «Аламеда». Знакомство состоялось, а через несколько дней профессор был торжественно провозглашен почетным закоулочником.
Всем он понравился. Пакито нашел в нем настоящего знатока инкунабул, с Рамоном у него оказались общие знакомые в Англии, и даже Мигелю Писарро он сумел угодить, шутливо вступившись за вертопраха, когда друзья начали подтрунивать над его очередным увлечением. Он хохотал до слез над пародиями и довольно тонко разобрался в тех противоречивых чувствах, которые его молодые друзья питали к своему городу. Кстати, к нему тут в скором времени должен приехать друг, французский философ Анри Бергсон, так вот, не возьмутся ли они показать его гостю Гранаду – настоящую Гранаду, вы понимаете?
Когда же речь зашла о более серьезных вещах, закоулочники только рты разинули – по части свободомыслия дон Фернандо мог дать им сто очков вперед. Но дело было не в одном этом. Все то, что сами они лишь смутно чувствовали, то, что питало их недовольство, злость, отвращение, в устах профессора приобретало четкие очертания, выступало в виде точных, категорических формул. Дни монархии в Испании сочтены, королевская власть продержится не больше нескольких лет. Политическая система одряхлела, обе правящие партии безнадежно скомпрометировали себя в глазах общества. Страной фактически управляют тысячи маленьких диктаторов – касиков: помещики, священники, ростовщики, политиканы. Каждый из этих касиков – неограниченный повелитель в своем районе или провинции; без его согласия не решается ни одно дело, не выносится ни один приговор, не назначается судья, не выбирается чиновник. Но терпение народа истощилось. Испания накануне великих событий, в результате которых – как знать? – она, быть может, сумеет подать пример и другим европейским нациям, погрязшим ныне в братоубийственной войне.
– Кто же будет, так сказать, автором этих событий?
– Народ, разумеется.
– Каким это образом?
– Ну, хотя бы посредством всеобщего волеизъявления.
– Профессор имеет в виду выборы? Но кто же не знает, в какую комедию превращаются у нас выборы? Заранее можно предсказать, кто на этот раз окажется у кормушки правления – либералы или консерваторы!
Он это знает не хуже, чем его юные друзья. Но времена меняются. Рост недовольства в стране создает условия, позволяющие здоровым общественным силам взять под контроль ход голосования и подсчет результатов.
– Где у нас такие силы? Не сам ли профессор с одинаковым презрением отозвался и о консерваторах и о либералах? Или, быть может, он возлагает серьезные надежды на республиканскую оппозицию?
– Не только. Представителей здоровых общественных сил в наше время следует искать скорее вне стен дворца, где заседают кортесы. Было бы неразумно, например, недооценивать ту роль, которую в жизни страны начинает играть рабочее движение. О, конечно, он имеет в виду не анархистов – эти люди неспособны внести положительное начало в политическую действительность Испании. Зато социалисты заслуживают весьма пристального внимания. Они замкнуты, ограничены профессиональными интересами, им недостает широкого взгляда на вещи, не хватает культуры, но учение, положенное в основу их деятельности, – учение гуманистическое, христианское в подлинном смысле этого слова. К сожалению, мыслящая часть испанского общества до сих пор как-то сторонится социалистов. А напрасно! Объединив свои силы с силами организованного движения рабочих, мы смогли бы направить судьбы страны по новому пути.
Искреннее волнение, звучавшее в голосе дона Фернандо, не гармонировало с его округлыми фразами, литературными оборотами, со всей его плавной, как бы журчащей речью. Вместе с тем сама эта гладкость и стройность как-то умеряли впечатление от неслыханных вещей, которые он говорил. Ведь то, что спокойно излагал им моложавый профессор, было настоящей крамолой, просто революционной программой какой-то! При всем своем нигилизме закоулочники никогда даже не помышляли о чем-нибудь похожем.
Наедине они обдумывали услышанное, старались найти слабые места, сообща придумывали возражения, которые затем дон Фернандо с легкостью разбивал. Нет, они не собирались вставать под знамя этого мадридского Робеспьера, политика их не привлекала, и все же надо признать, что профессор политического права изрядно их взбудоражил.
Один Федерико оставался спокоен. Журчащий голос профессора нагонял на него дремоту, и он, как в университете, чувствовал себя безнадежно неспособным к восприятию отвлеченных идей. То, что говорил дон Фернандо, было очень умно и, по-видимому, справедливо, но все это скользило где-то по поверхности, не задевая чувств. «Общественные силы», «оппозиция», «анархисты», «социалисты» – каждое из этих понятий оставалось для него только словом, сочетанием букв, за которым ничего не стояло.
В свою очередь, и дон Фернандо внимательно – они и не подозревали, как внимательно! – изучал компанию, собиравшуюся по вечерам в кафе «Аламеда». Он знал себе цену, знал, что время работает на него, и не склонен был расходовать его попусту. Необходимо было встречаться с молодежью, чтобы завоевывать единомышленников, готовить помощников для предстоящей общественной деятельности.
Закоулочники, за исключением Пепе Моры, не внушали ему особенных надежд. Мечтатели, сибариты, остряки, готовые вышутить все на свете, но неспособные осознать историческую ответственность своего поколения! Часы, проведенные с ними, можно было считать потерянными. И все же дон Фернандо два-три раза в неделю обязательно заглядывал в знакомое кафе. Смешно сознаться, но он привык к этому закоулку, к нестройному говору, смешивавшемуся с музыкой, к добродушно-свирепому Наваррико, к болтовне, шуткам и выпадам безответственных юнцов.
Была еще одна причина: самый младший из закоулочников, почти подросток, с широким крестьянским лицом и густыми бровями. Профессора он слушал менее внимательно, чем другие, позволял себе даже дремать во время его разъяснений, и тем не менее ни к одному человеку в этой компании дон Фернандо не испытывал такой безотчетной симпатии, как к этому мальчишке, который чем-то напоминал ему веселого, доверчивого, беззаботного щенка. Да и у остальных, заметил он, при одном только имени Федерико лица добрели.
Профессор испытывал удовлетворение всякий раз, когда ему удавалось овладеть вниманием Федерико, добиться того, чтобы его отсутствующий взгляд стал другим – глубоким, цепким, как бы вбирающим в себя. Это происходило в тех случаях, когда речь заходила о живых людях, когда дон Фернандо вспоминал занятные факты, красочные подробности. О, разумеется, он не собирался профанировать серьезную беседу в угоду какому-то юнцу, и все же...
Знакомство ли с доном Фернандо было тому виной или просто времена такие подошли, но только политика, от которой так долго отгораживались друзья Федерико, все чаще вторгалась в их разговоры. Каждая встреча начиналась с обсуждения последних новостей и слухов. Война теперь уже не была чем-то далеким, она придвинулась к самой Андалусии: волны Атлантического океана выбрасывали на пляжи вблизи Кадиса трупы мужчин, женщин, детей – жертв подводного разбоя. Поговаривали, что немецкие подводные лодки, охотящиеся за пароходами нейтральных стран, находят убежище где-то здесь же, в испанских гаванях. Правительство беззастенчиво торговало своим нейтралитетом, и многие люди сказочно наживались на войне. При этом все были всем недовольны: и республиканцы, и либералы, и даже монархисты. Все чаще звучало непривычное слово «забастовка» – бастовали ткачи в Барселоне и здешние, андалусские батраки. Армия и та была охвачена брожением: рассказывали, что повсюду создаются офицерские хунты, которые готовятся навести свой порядок в стране. Но вот удастся ли им это – на сей счет у дона Фернандо, которого уже несколько раз видели в рабочих кварталах Альбайсина, было свое мнение.
Однажды он, посмеиваясь, рассказал закоулочникам последнее столичное происшествие. Депутаты испанских кортесов издавна пользовались священным правом бесплатно кушать конфеты во время заседаний, и вдруг министерство экономических реформ забило тревогу. Оказалось, что государственному бюджету грозит форменная катастрофа: депутаты не только сами поглощают множество конфет, но еще и в огромном количестве преподносят конфеты своим друзьям и знакомым. И тогда был торжественно принят закон, согласно которому конфетами первого сорта могли отныне угощаться лишь министры, депутаты же должны довольствоваться дешевыми конфетами. Вот она, наша парламентская система во всем ее величии!
Профессор почувствовал легкое удовлетворение: глаза Федерико блестели. Об остальных и говорить нечего. Пепе Мора усмехался язвительнее, чем обычно, Мигель покатывался со смеху. Ей-богу, это уже последняя капля! Все наши институты обанкротились, правители впали в слабоумие, слова не подберешь, чтобы назвать все это. Кто-то нерешительно предложил: «Cursi?» – «Нет, слабовато, тут нужно что-то порезче».
– Гнилье, – сказал вдруг Федерико, – cosas putrefactas.
Закоулочники переглянулись. Cosas putrefactas? Истлевшие вещи, рухлядь, труха... Пожалуй, это било в самую точку. Гниением, распадом охвачено, в сущности, было все – политика, литература, искусство. Те, кто там хозяйничал, только выдавали себя за живых, а на самом деле они давно уже мертвецы, труха, гнилье. Cosas putrefactas! Это обобщало. Выражение понравилось, привилось, вошло в их лексикон.








