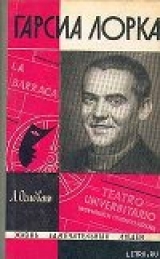
Текст книги "Гарсиа Лорка"
Автор книги: Лев Осповат
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 29 страниц)
8
Жизнь без забот и тревог, слава, дружба, влюбленные глаза женщин – вот это, наверное, и называется счастьем? Все новые пейзажи развертывает перед Федерико неисчерпаемая Куба, все новых знакомых дарит ему: сегодня – русского композитора Сергея Прокофьева, концертирующего в Гаване, завтра – генерала Лойнаса дель Кастилье, сражавшегося вместе с Хосе Марти за освобождение острова...
У старика генерала, вернее у супруги его, – настоящий дворец, сказочный и нелепый, выстроенный жившим когда-то на Кубе Луи Филиппом, герцогом Орлеанским, который стал потом королем Франции. Ныне дворец обветшал, хозяйничают в нем генеральские дети – Энрике и Дульсе Мария, оба поэты, талантливые и сумасбродные. По вечерам к ним собирается молодежь – читают стихи, спорят о поэзии, а председательствует на этих сборищах старый слуга-негр, без его разрешения никто не смеет произнести ни слова. Федерико возвращается оттуда, изнемогая от смеха, провожаемый толпой почитателей.
Все прекрасно. В Испанию он не торопится – там, судя по газетам и письмам, ничего пока не изменялось. Тоска по дому не донимает его – только вот стала сниться под утро бурая, морщинистая равнина, дряхлая башня, аист на ней...
Можно жить и без этого.
Без этого?..
Первым же пароходом он отплывает на родину.
Глава шестая
Если умру я —
не закрывайте балкона.
Сорвет апельсин ребенок —
и я увижу с балкона.
Пройдут косари покосом—
а я услышу с балкона.
Если умру я —
не закрывайте балкона.
Федерико Гарсиа Лорка
1
Смуглая гранадская луна смотрит в окно. Давно разошлись гости, собравшиеся послушать рассказы Федерико о заморских краях и заодно отпраздновать, хоть с опозданием, его тридцатидвухлетие. Тишина такая, что слышно, как внизу в столовой ходит маятник старинных часов, напоминая вкрадчиво: еще секунда прошла, еще секундой меньше...
Что ж, половина жизни, пожалуй, прожита; впереди – каких-нибудь три, от силы четыре десятка лет. Успеть бы! Ведь настоящий Гарсиа Лорка только еще начинается. Ведь главные замыслы едва лишь проклевываются в нем.
Правда, стоило ему вновь ступить на испанскую землю, как эти замыслы стали разрастаться. Замечал ли он раньше, каким царственным жестом принимает подаяние нищий на привокзальной площади?
А с каким врожденным артистизмом официант в кафе «Алькала», вмешавшись в спор посетителей – знатоков корриды, показал с помощью своего фартука, что именно должен был сделать Бельмонте, не оплошай он в последнем бою!
И как самозабвенно отплясывала хоту девчонка-подросток в одном из «нижних кварталов» перед единственной хлопавшей в такт подругой – словно перед полным зрительным залом!
Нет, не зря побывал он в Америке. Обостренному зрению открывалась теперь внутренняя связь многих, примелькавшихся с детства явлений. В уличных сценках и застольных беседах жил тот же дух, что в процессиях на страстной неделе, в состязаниях кантаоров, в площадных кукольных фарсах. В сущности, тот же самый дух породил фантазию Лопе де Вега, видения Гойи, смехотворное и трагическое повествование о мудром безумце Дон-Кихоте Ламанчском. Игровая, зрелищная, карнавальная стихия пронизывала и поныне всю жизнь народа, питала неистощимое испанское воображение.
Была ли она, эта стихия, пережитком древности, обреченным на исчезновение, или, наоборот, залогом счастливого будущего – Федерико не знал. Но чем пристальней он в нее вглядывался, тем лучше понимал самого себя. Изначальное зрелище, не расчлененное на поэзию, драму, танец, вырастающее прямо из жизни, чтобы вернуться в жизнь, – вот прообраз того искусства, для которого он рожден! И страсть его к лицедейству, и приверженность не к печатному, а к произносимому слову, и ненасытная потребность населять мир своими вымыслами, и музыка его, и его рисунки – все могло, все должно было соединиться в этом искусстве.
Итак, театр? Не случайно, однако, он медлил произнести это слово. Быть может, ни одному из искусств Испании не оказался так чужд гений народа, как современному испанскому театру – поверхностному, банальному, растерявшему великие завоевания своего золотого века и превратившемуся за редкими исключениями в заведение, где убивают время.
Не о таком театре мечтал Федерико. Ему вспоминались представления в балаганах, наспех раскинутых под серыми от пыли ветвями оливковых деревьев, кукольные спектакли в теплой полутьме пустого хлева. Вырастали в воображении подмостки на площадях, окруженные толпами, для которых творили Лопе и Кальдерон. Воскресала античность: под синим небом, без занавеса, кулис, рампы, разыгрывалось трагическое действо, продолжаясь в сердцах зрителей, доверху заполняющих каменный амфитеатр.
...Этой ночью, наедине с собой, он снова возводит здание своего Театра, расписывает декорации, сочиняет музыку, по очереди становится каждым из действующих лиц. Трагедия рождается не от встречи пера с бумагой – она возникает из столкновения этих людей, нужно лишь слышать их в себе. Вот Иерма, ей только что снился все тот же сон: колыбельная, Пастух, ведущий за руку ребенка... О чем заговорит она с мужем – озабоченным, поглощенным делами?
Уж конечно, не о том, что ее терзает. Усиленной заботой о муже попытается Иерма заглушить недоброе чувство к нему. И только когда Хуан, не желающий знать, что творится в ее душе, выдаст тайную свою радость: «Дела идут хорошо, детей у нас нет, не на кого тратить», – лишь тогда, повторив про себя – не ослышалась ли? – «Детей у нас нет...» – вскрикнет она, как раненая:
– Хуан!
– Что?
– Разве я тебя не люблю?
– Любишь.
– Я знаю девушек, которые дрожат и плачут перед тем, как лечь в брачную постель. А я разве плакала, когда в первый раз легла с тобой? Разве я не пела, откидывая полог? Разве я тебе не сказала: как пахнет яблоками от белья!
Разбуженный голосом, доносящимся откуда-то сверху, дон Федерико поворачивается к супруге и убеждается, что она тоже не спит. Ну, это уж слишком! Он решительно садится в постели, отбрасывает одеяло и вдруг останавливается. Ему ли не знать голос сына? И все-таки он готов поклясться, что это две женщины разговаривают там, наверху. К первой из них – бесплодной, как видно, – забежала подруга поделиться радостью: она ждет ребенка, и та расспрашивает ее завистливо и восхищенно: что она чувствует?
– Не спрашивай, – с изумлением отвечает подруга. – Ты никогда не держала в руках живого птенчика?
– Держала.
– Ну, так это то же самое... только – в крови. Всхлипнула донья Висента, или ему показалось?
С необыкновенной яркостью встает перед ним тот далекий весенний день, когда он вернулся с поля и жена – молодая, испуганная, счастливая – осторожно взяла его руку и положила на свой живот. Словно волна какая-то подхватывает дона Федерико, приподымает над будничными заботами... Ощупью находит он худые пальцы жены, отвечающие ему слабым пожатием.
2
И угораздило же Федерико, когда он вернулся в Мадрид, прочесть Маргарите Ксиргу несколько сцен из набросанной вчерне «Чудесной башмачницы»! Тоном, заранее отметающим возражения, актриса заявила: фарс о Башмачнице будет представлен ее труппой в театре «Эспаньоль» еще до Нового года. Она и слышать не хочет о том, что это далеко не окончательный вариант, что Федерико занят другими планами. Доработать пьесу можно и в ходе репетиций, а другие планы потерпят – не откажет же Федерико ей, своему другу! Да и не ей одной. Неужели он сам не понимает, как нужна сейчас зрителям именно такая пьеса – дерзкая, красочная, народная? Или он не видит, что творится в Испании?
Как не видеть! Страна бурлила; самые закоренелые скептики были полны надежд. Пытаясь ублаготворить недовольных, правительство Беренгера делало уступку за уступкой – оно отменило цензуру, восстановило свободу собраний и организаций, выпустило арестованных. Вернувшись из изгнания, Мигель де Унамуно поднялся на кафедру Саламанкского университета и как ни в чем не бывало начал: «В прошлый раз мы остановились на...» Но уступки были уже бессильны остановить нараставшее возмущение – интеллигенты открыто выступали с речами и статьями против монархии, бастовали рабочие и студенты, и все чаще на улицах можно было услышать старую – еще времен первой республики – песенку:
Республиканцем стало солнце,
республиканкою – луна,
и воздух сам – республиканец,
а если воздух, то и я.
Воздух и впрямь переменился, легче стало дышать. Пожалуй, Маргарита права? И Федерико с головой погрузился в подготовку спектакля. То ли желая окончательно отрезать ему путь к отступлению, то ли догадавшись о тайных его мечтах, Ксиргу потребовала от него не только авторского участия. Она поручила ему сделать эскизы декораций (эскизы костюмов заказаны были самому Пикассо), а увидев, с какой жадностью следит Федерико за репетициями, как на лице его непроизвольно отражается все происходящее на сцене, предложила: что, если ему сочинить специальный пролог к пьесе и самому же его исполнять?
Идея пришлась Федерико по вкусу. В прологе, который он принес на следующий день, Автор защищал право поэзии на самый головокружительный вымысел. И тут же это право осуществлялось – своенравная героиня, рожденная воображением Автора, вмешивалась в его речь. «Пустите! Иду!» – кричала она из-за занавеса. Он пытался урезонить ее: «Запасись терпением. Ведь не в платье же с длинным шлейфом и невероятными перьями выйдешь ты на сцену, а в тряпье, слышишь? В костюме Башмачницы».
Но Башмачница не унималась. Тогда Автор заканчивал наскоро свой разговор со зрителями, раскланивался, снимал цилиндр, который начинал светиться изнутри зеленым светом, затем переворачивал его и оттуда выливалась струя воды. Несколько озадаченный всеми этими чудесами, он улыбался – смущенно и в то же время насмешливо – и пятился за кулисы.
Репетируя пролог с Федерико, Маргарита – Башмачница ловила себя на том, что и впрямь готова почувствовать себя созданьем его фантазии. Даже ее заставлял он поверить на миг, что сам не знает, откуда взялась вода в цилиндре. Гордость, почти материнская, смешивалась в ней с легкой ревностью: мало этому андалусцу стихов и пьес – того и гляди станет с нами, актерами, состязаться!
Поглощенный «Чудесной башмачницей», Федерико не замечал, как осень сменилась промозглой мадридской зимой; не замечал, правду сказать, и того, как все более накалялась политическая атмосфера. Встретился ему однажды Рафаэль Альберти – оживленный, веселый, как в лучшие времена. «Ну, что, Федерико, – воскликнул он, хлопая приятеля по спине, – костер разгорается?! Скоро мы с тобой увидим хорошую революцию!» В другой раз профессор де лос Риос, тоже какой-то весь помолодевший, расспросив Федерико, как идут репетиции, и узнав, что премьера назначена на 24 декабря сего, 1930 года, прищурился многозначительно: «В добрый час, сынок. Быть может, именно этим спектаклем откроется история театра свободной Испании!»
До премьеры остается десять дней, когда Федерико, направляясь по своему обычному маршруту, с удивлением замечает, что на всех перекрестках стоят вооруженные солдаты, угрюмо поглядывая на прохожих. Добравшись до театра, он узнает, что правительство объявило страну на военном положении: накануне в горах Верхнего Арагона восстал гарнизон Хаки, и к нему присоединились рабочие и крестьяне. Восставшие провозгласили республику и под командованием капитана Фермина Галана двинулись на Уэску.
Началось?! А что же Мадрид? День проходит в спорах и слухах. Поздно вечером разносится весть о том, что повстанцы встретились с войсками правительства и были наголову разбиты. Сам Галан схвачен, и военно-полевой суд уже приговорил его к расстрелу вместе с его сподвижником Гарсиа Эрнандесом.
Мало кто спит в эту ночь. Неужели приговор будет приведен в исполнение? Быть того не может! Со всех концов страны несутся прошения о помиловании. Но не проходит и суток, как все узнают: свершилось, мученики Хаки расстреляны.
Самолеты гудят над столицей. Это военные летчики с воздушной базы в Куатро Вьентосе – они сбрасывают листовки, извещающие о том, что воздушный флот восстал против монархии. Они ждут поддержки, ждут всеобщей забастовки, обещанной профсоюзами. Однако забастовка кем-то сорвана; Мадрид работает, как обычно, и, покружившись над городом, летчики направляются в сторону португальской границы. А вечером того же дня становится известно, что арестованы члены Революционного комитета, возглавлявшего борьбу за республику. Среди арестованных – Фернандо де лос Риос.
Маргарита Ксиргу рассказывает, рыдая, что Галан мог бы скрыться, он был уже рядом с французской границей. Но, стремясь облегчить участь попавших в плен товарищей, он принял на себя всю ответственность за восстание и добровольно сдался гражданским властям. А знаете, что заявил король, когда даже Беренгер, говорят, склонялся к помилованию? «Чернь надо обуздать. Черни надо пустить кровь!»
До репетиций ли тут? Да и вообще – о какой премьере может теперь идти речь? Кто-то из актеров решается, наконец, высказать то, что остальные думают про себя. Республиканские симпатии Маргариты Ксиргу хорошо известны – значит, партер и ложи будут устраивать обструкцию на каждом спектакле. И еще одно: достоинства комедии сеньора Гарсиа Лорки очевидны, но пусть он сам скажет, время ли сейчас для комедий?
Лица поворачиваются к Федерико, который низко склоняет голову: разумеется, его товарищи правы... И вдруг звон стекла заставляет всех вздрогнуть. Это Маргарита хватила стаканом об пол.
– Отменить спектакль? – вскрикивает она тонким, неузнаваемым голосом. – Спрятаться, отсидеться? Пусть радуются аристократы – мы стонем, мы хнычем, мы их боимся!
– Но что же можем поделать мы, актеры? – рассудительно спрашивает Башмачник.
– Что можем делать мы, актеры? – повторяет Маргарита тихо и страстно. – Свое актерское дело! Не сдаваясь. Не отступая. Не показывая слез. Играть, когда плохо. Играть, когда горько. Но работать наперекор всему. Работать, вы меня слышите? Первая сцена, первое явление – ну?
И такая неукротимость в ее тяжелом взгляде, в сжатых, поднятых кулачках, что актеры беспрекословно расходятся по местам, аМаргарита Ксиргу, толкнув картонную дверь, разъяренной Башмачницей вылетает на сцену и, обернувшись, восклицает обычным, низким голосом, в котором дрожат еще злые слезы:
– Попридержи свой длинный язык, старая сплетница! Если я так поступила... если я так поступила, то по своей доброй воле!
3
Не теплым ветром, не алыми маками возвестила на этот раз о себе испанская весна. Ее первое дуновение пронеслось по столице еще в феврале вместе с вестью об отставке Беренгера и о том, что Санчес Герра, приняв предложение короля сформировать новое правительство, отправился... в тюрьму Модело, чтобы предложить заключенным там членам Революционного комитета министерские посты. Но те отказались: не из рук короля, а лишь по воле народа согласятся они принять власть!
Мадрид снова заволновался. В кафе, в тавернах открыто заговорили о том, что дни монархии все равно сочтены – долго ли еще будут гальванизировать этот труп? Членам королевской семьи небезопасно стало показываться в театрах; галерка их попросту освистывала. У тюрьмы Модело стояли длинные очереди желающих повидаться с арестованными и засвидетельствовать им свое сочувствие. Начавшийся в марте суд над членами Революционного комитета превратился в политический митинг; переполненный зал покрывал овациями речи защитников и обвиняемых. Оправдательный приговор был встречен ликованием, но без удивления.
Как песок, текущий между пальцами, уходила власть из рук короля Альфонса. Уже докладывали ему, что сам папский нунций в Мадриде тайно виделся с главой Революционного комитета Алькала Саморой, выяснял, чего может ждать церковь от будущей республики. А король все не хотел мириться с очевидностью, все тешил себя надеждой, что беспорядки – дело рук оголтелой интеллигенции, студентов, городской голытьбы; настоящая же Испания, как и встарь, не мыслит себя без монарха, и муниципальные выборы, назначенные на 12 апреля, еще покажут это. Он распорядился, чтобы традиционная церемония «омовения ног» была в этом году проведена с особой торжественностью.
Среди присутствовавших на церемонии находился и советник чилийского посольства Карлос Морла Линч. По возвращении из дворца, высвобождаясь из парадного мундира, он восторженно описывал своему приятелю, поэту Гарсиа Лорке, белоколонный зал, по сторонам которого на специальных, обтянутых красным бархатом возвышениях разместились члены королевской семьи, дипломатический корпус, гранды, придворные дамы в положенных для такого случая белых мантильях, с высокими черепаховыми гребнями в прическах. А посредине, на поставленных друг против друга скамьях, сидели, свесив босые ноги, двенадцать нищих слепцов и двенадцать таких же старух. В назначенный час его величество поднялся с места, направился к одной из скамей в сопровождении герцога Альбы, несшего за ним золотой умывальный таз, нагнулся и, демонстрируя всю глубину христианского смирения, всю беспредельность любви к самым последним своим подданным, по очереди омыл ноги – конечно, заранее вымытые – каждому нищему, в то время, как августейшая его супруга Виктория Евгения, окруженная фрейлинами, совершила тот же обряд над трепещущими старухами, мертвенно-бледными в черных своих одеждах.
Довольный тем, что рассказ его явно произвел впечатление на Федерико – у того округлились глаза, рот приоткрылся, – Карлос долго еще говорил о символическом смысле старинного ритуала, о величии, в котором испанскому монарху не откажешь, что бы там ни было... Но Федерико не слушал больше. «Театр! – повторял он про себя с восхищением – Какой театр!»
И все же муниципальные выборы принесли королю жестокое разочарование. Республиканцы побеждали по всей стране. 13 апреля глава правительства адмирал Аснар явился в Восточный дворец с заявлением об отставке. При выходе из дворца его обступили журналисты, требуя новостей. «Каких вам еще новостей? – отмахнулся адмирал. – Испания легла спать монархической, проснулась республиканской!»
Этой ночью весь Мадрид хлынул на улицы и площади. Замелькали трехцветные флажки, зазвучала запретная «Марсельеза» вперемежку с насмешливыми куплетами, советующими Альфонсу убираться подобру-поздорову. Ораторы потрясали кулаками, женщины плакали, вспоминая Галана и Гарсиа Эрнандеса, – всего четырех месяцев не дожили! Гражданские гвардейцы кое-где пытались еще разгонять сборища, но полицейские уже братались с демонстрантами. А наутро разнеслась весть о том, что в Эйбаре – небольшом баскском городке – провозгласили республику. И в Эрмуа. И в Барселоне республика! Чего же мы медлим?
Если король тотчас же не покинет страну, предупредил Алькала Самора, то Революционный комитет не ручается за его жизнь. У Альфонса не оставалось надежд на армию, но что скажет начальник гражданской гвардии, генерал Санхурхо? Тот ответил уклончиво: гражданская гвардия не может вмешиваться в вопрос о политическом строе, ее дело – порядок и только порядок. Выслушав эти слова, король торопливо втиснулся в автомобиль, задернул занавески и понесся в Картахену, где уже разводил пары ожидавший его крейсер.
И вот на глазах ликующих толп сползают по флагштокам правительственных зданий ненавистные флаги испанской монархии, а на их место взвиваются новые, республиканские. Людские волны катятся из предместий, из «нижних кварталов», в центр столицы. Гремит музыка, хлопают шутихи, хороводы пляшут вокруг костров, на которых пылают с веселым треском портреты короля, его родственников и предков. В трамваях отдирают намозолившее глаза объявление: «Согласно королевскому приказу и в интересах гигиены плевать строго воспрещается», – плевать на короля и на все его приказы! С грохотом падают вывески – «Ресторан Трех Королей», «Отель Альфонс XIII» и прочие в том же роде. У находчивых торговцев рвут из рук портреты Фермина Галана и фригийские шапочки. Такие же шапочки напяливают, хохоча, на головы мраморным королям и королевам, окружающим Пласа Ориенте. А одну из этих королев – Изабеллу II, недоброй памяти бабку сбежавшего Альфонса, сбрасывают с пьедестала и, захлестнув ей петлю на шее, волокут по улицам. Впрочем, ныне здравствующие члены семьи Альфонса последнего, впопыхах оставленные им в Мадриде, могут не трястись от страха в своих покоях – их пальцем не тронут.
Где-то в толпе Федерико потерял Карлоса Морлу Линча, вместе с которым бродил по городу. Откровенно говоря, он не сожалеет об этом – сейчас ему не нужен никто из приятелей. Единственная жажда владеет им – раствориться в праздничном человеческом море, стать безыменной каплей, слиться с тысячами незнакомых людей, ближе которых в этих минуты у него нет никого на свете.
Будто рухнули все перегородки, все стены и стала явью – хоть на миг! – мечта о грядущем братстве. Будто все униженные и гонимые, перекликавшиеся с Федерико в его бессонные ночи, справляют сегодня свою победу на залитых весенним солнцем мадридских улицах. Вместе с ними скандирует он до хрипоты: «Мы e-го вы-гна-ли! Мы e-го вы-гна-ли!», машет платком, приветствуя въезжающих на Пуэрта дель Соль министров только что образованного республиканского правительства – а вот и Фернандо де лос Риос среди них! – жмет чьи-то руки, хлопает кого-то по спине, кружится в хороводе. Никогда еще не испытанная радость переполняет его.








