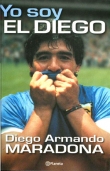Текст книги "Диего Ривера"
Автор книги: Лев Осповат
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 28 страниц)
В первый день нового, 1927 года в Халиско, Мичоакане, Дуранго и еще нескольких штатах центральной части страны вспыхнул давно уже подготовлявшийся мятеж. Его организаторы не случайно выбрали этот день: 1 января вступали в действие положения закона о нефти, существенно ограничивающие права американских монополий. Духовенство и помещики, которым удалось увлечь за собой немало темных, фанатичных крестьян, рассчитывали на то, что будут поддержаны вооруженной интервенцией Соединенных Штатов. Мятежники, получившие название «кристерос» (по их боевому кличу «Вива Кристо Рей!» – «Да здравствует Христос-король!»), захватывали города и селения, пускали под откос пассажирские поезда, грабили, жгли, расстреливали.
Еще до истечения января стало ясно, что планы вдохновителей мятежа потерпели крах. Мексиканский народ не пришел на помощь католической церкви, да и Соединенные Штаты выжидали, не торопясь вмешаться. Армия сохранила верность правительству; воинские части приступили к усмирению мятежных районов, не уступая повстанцам в жестокости. Революционные крестьяне создавали отряды самообороны, рабочие записывались добровольцами в правительственные войска. К весне основные скопления «кристерос» были рассеяны, однако мелкие банды продолжали вести партизанскую борьбу.
Вместе с другими руководителями коммунистической партии, призвавшей трудящихся дать отпор реакционерам, Диего Ривера выступал на митингах, шагал в первых рядах демонстрантов. Но основным его полем сражения оставались стены – ни на день не бросая своей работы, он подчинял ее насущным требованиям момента. Он превращал те фрески, которые писал теперь во Дворе Празднеств, в средство прямой политической агитации, откровеннее, чем когда-либо, используя приемы плаката и даже карикатуры. Под строками народной песни, вьющимися по стенам третьего этажа, возникали одна за другой картины, призванные без околичностей обнажить самую суть развернувшейся борьбы: угнетенные против угнетателей, бедняки против богачей.
По-лубочному наглядно противопоставлены здесь два эти мира, первому из которых отдает художник всю свою любовь, а ко второму относится если не с ненавистью (для ее выражения Ривере, пожалуй, недостает страстности), то, во всяком случае, с уничтожающим презрением. Его линия, плавно и бережно очерчивающая мускулистые фигуры тружеников, женственно-округлые формы их подруг, становится острой, язвительной, когда вырисовывает вялые от безделья господские тела, обезображенные чревоугодием и распутством. Это уже не только бедняки и богачи – это люди и нелюди. Сходством житейских ситуаций, в которые ставит художник тех и других, еще сильнее подчеркивается коренное различие между ними.
Вот народная трапеза. За грубым деревянным столом, уходящим в глубину фрески, – мужчины и женщины, старик и подростки. Их позы спокойны и торжественны, светящиеся мыслью взгляды обращены к сидящему во главе стола рабочему, который извечным жестом преломляет хлеб насущный. И вот обед в буржуазной семье. Почти такая же композиция, похожее размещение фигур. Но эти фигуры словно закоченели в тупом самодовольстве, лица исполнены жадности и высокомерия, и даже плачущий ребенок на первом плане уродлив и старообразен.
Ночь бедняков. Сраженные усталостью, прижавшись друг к другу, спят крестьяне, их жены и ребятишки, которых Ривера изображает с особенной, словно впервые прорвавшейся нежностью. Пролетарий, солдат и учительница бодрствуют, охраняя их сон от врагов, чьи искаженные злобой лица выглядывают из листвы на заднем плане. Ночь богачей: щеголи во фраках накачивают вином полураздетых шлюх, жирные спекулянты договариваются о сделках. А сверху насмешливо и грозно глядят на них революционные солдаты, опоясанные патронташами, нависая над этой оргией как неумолимое напоминание.
Еще одна фреска – «Завтрак миллиардеров». Снова стол, за которым безжизненными куклами восседают Форд, Рокфеллер, Морган в прочие некоронованные короли Америки, написанные с достаточным портретным сходством. На столе статуя Свободы, уменьшенная до размеров салонной безделушки, бутылка шампанского, бокалы… Главное яство – телеграфная лента с показателями биржевых курсов, которая выползает из аппарата и извивается в пальцах у миллиардеров, суля им новые прибыли.
Не обошел Диего вниманием и тех, кто в час решающей схватки двух миров пытается звать к примирению: прекраснодушных реформаторов, либералов, пацифистов – тех, в ком видел замаскированных и потому в особенности зловредных приспешников империализма. Он посвятил им отдельную фреску под названием «Лжемудрецы». Среди изображенных на ней гротескных фигур, тесно сбившихся в кучку, – незадачливый миротворец Вильсон с тощим лавровым веночком вокруг чела, подслеповатый профессор, который, сидя на кипе философских томов и назидательно подняв палец, упивается собственным красноречием, долгобородый, иссохший от вегетарианства проповедник непротивления злу, дама-благотворительница, восторженно закатившая глаза… И вновь, заполняя всю верхнюю половину фрески своими ладными телами, насмешливо смотрят рабочие и крестьяне на этих людишек, путающихся под ногами у них.
Незадолго до того экс-министр Хосе Васконселос, занявшийся журналистикой, позволил себе неодобрительно отозваться о росписях во Дворе Празднеств, осудив художника за грубую тенденциозность и потворство вкусам черни. Диего не стал вступать в печатную полемику с доном Хосе – он разделался с ним во фреске «Лжемудрецы». В фигуре человека с гусиным пером в руке, сидящего на переднем плане спиной к зрителю, всякий, кто хоть однажды видел Васконселоса, мог без труда узнать его широкую поясницу, квадратные плечи, короткую шею и оттопыренные уши. В довершение издевки Диего усадил экс-министра на игрушечного белого слона (намек на его увлечение индийской философией) и придал чернильнице, стоящей возле него, явное сходство с плевательницей.
VIПосле рождения второй дочери – ее назвали Рут – отношения между супругами не переменились к лучшему. Диего по-прежнему не обнаруживал ни малейшего намерения сделаться добропорядочным семьянином, и Лупе стала всерьез подумывать о разводе – пока но поздно, пока нет еще недостатка в претендентах на ее руку.
Как раз в это время Ривера получил приглашение приехать в Москву на празднование десятой годовщины Октябрьской революции. Бурно радуясь возможности увидеть, наконец, своими глазами Советский Союз, он не скрывал, что надеется задержаться там подольше. Быть может, ему посчастливится принять участие в осуществлении великого ленинского плана монументальной пропаганды? Поработать в полную силу, без оглядки на чиновников и министров, насладиться творческой свободой, которую предоставляет революционным художникам страна победившего пролетариата, украсить своими росписями стены московских зданий – а почему бы и но самого Кремля? – ради этого стоит пойти и на временную разлуку с Мексикой!
И без того раздраженную Лупе подобные планы приводили в ярость. Сопровождать мужа она не могла, да и не хотела, и, будучи верной себе, уже заранее бешено ревновала его ко всем русским женщинам. Ревность ее усугублялась одним анекдотическим предположением, в высшей степени характерным для направления ее мыслей. Чрезвычайно гордясь своим действительно великолепным сложением, она считала единственным его недостатком непропорционально маленькую грудь, оставшуюся девичьей, несмотря на материнство. К этому изъяну она относилась тем болезненней, что Диего имел неосторожность постоянно над ним подтрунивать. И надо же было, чтобы кто-то из ее воздыхателей – вероятно, не без коварного умысла – уверил Лупе, что в России все женщины без исключения обладают в избытке тем, чем природа наделила ее столь скупо!
Домашняя жизнь превратилась в сущий ад. Диего дневал и ночевал в Чапинго, поклявшись закончить росписи капеллы до отъезда в Москву. Времени оставалось в обрез, однако веселое исступление, с которым он здесь работал, изматывая помощников до полусмерти, имело причиной не столько подгонявшие его сроки, сколько крепнущую уверенность в победе, одержанной на этих стенах. Все теперь с необыкновенной легкостью удавалось ему: будто сами собой заполнялись еще не записанные участки, начинали звучать согласным хором доминирующие цвета – фиолетовый, зеленый, красный, оранжевый. Разрозненные фрески срастались в единый живой организм, управляемый собственными законами и подсказывавший художнику последние, неопровержимые решения.
Боясь утратить это счастливое чувство органической связи со своим созданием – какой-то даже подвластности ему, – Диего не выпускал из рук кисти от зари до зари. Над каждой из трех фресок левой стены, где представлены три этапа народной борьбы за землю, он поместил по огромному изображению руки – пробуждающейся от оцепенения, гневно сжатой в кулак и, наконец, раскрытой уверенно и спокойно. Обнаженные человеческие фигуры в смелых ракурсах, парящие в небесной голубизне свода, окончательно замкнули цепь образов, протянувшуюся вдоль стен.
Урывая часы от сна, Диего загнал и себя до того, что однажды во время работы задремал и свалился с лесов – по счастью, с небольшой высоты, однако расшибся и потерял сознание. Сбежавшиеся помощники с трудом втиснули его бесчувственное тело в автомобиль Марте Гомеса и повезли в столицу.
Когда они появились на Микскалько, поддерживая Диего под руки, Лупе кормила ребенка и пребывала в высшем градусе раздражения. Вместо того чтобы перепугаться, она разразилась проклятьями по адресу беспутного мужа, который-де шатается по ночам неведомо где, а домой заявляется только в подобном виде. Пусть его швырнут на диван – она займется им после, как освободится!
Приведенный кем-то из помощников врач констатировал сотрясение мозга и предписал строжайший постельный режим. Но Диего не подчинился, глубоко уязвленный черствостью Лупе. Кое-как отлежавшись, он поднялся и покинул этот дом, чтобы больше туда не возвращаться.
А через несколько дней он снова полез на леса в Чапинго и уже не показывался в Мехико до последнего дня, когда, собрав вокруг себя всех подмастерьев, он вывел надпись на стене у входа в капеллу:
«Всем тем, кто пал, и тысячам людей, которым еще суждено пасть в борьбе за землю, за то, чтобы освободить ее, чтобы каждый человек мог оплодотворять ее трудом собственных рук, – Земле, удобренной кровью, плотью, костями и мыслями тех, кто принес себя в жертву, благоговейно посвящают свою работу: Хуан Рохано, Эфигемио Тельес – штукатуры, Рамон Альба Гвадаррама, Максимо Пачеко, Пабло О'Хиггинс – помощники живописца, и Диего Ривера – художник. 1 октября 1927 года».
С этого дня началась самостоятельная жизнь росписей в Чапинго, которые будут десятилетиями вызывать яростные споры и никого не оставят равнодушным. Клерикалы предадут Риверу анафеме за кощунство, ревнители чистого искусства объявят его фрески дешевыми политическими плакатами, апеллирующими к низменным чувствам толпы. Да и среди его единомышленников найдутся такие, кто далеко не во всем с ним согласится, находя, что «изображения собственной жены не только не годились для передачи тех больших идей, которые хотел воплотить художник, но и вступали с ними в резкое эмоционально-эстетическое противоречие».
И все же большинством голосов эти росписи будут признаны одним из самых совершенных творений Диего Риверы. Молва о них разнесется далеко за пределы страны. Честолюбие Диего будет полностью удовлетворено – французский критик Луи Жилле, который приедет в Мексику специально затем, чтобы написать главу о мексиканской живописи для многотомной «Истории искусств» Мишеля, назовет капеллу в Чапинго «Святой капеллой Революции» и «Сикстинской капеллой новой эпохи».
«Вот произведение, равноценного которому не найти не только во всей Америке, но и в Европе и в России, – заявит Луи Жилле. – Судьбе угодно было, чтобы именно в Мексике появилась первая великая роспись, вдохновленная социалистическим и аграрным материализмом».
…14 октября шумная компания друзей усаживает Диего в поезд до Веракруса, откуда ему предстоит отправиться морем во Францию и далее, через всю Европу, – в Советский Союз. За целую ночь проводов переговорено все о его путешествии, и разговор теперь вертится вокруг вопросов, занимающих тех, кто остается. Главный из этих вопросов – будущие президентские выборы. Хотя до них остается без малого год, генерал Обрегон уже объявил, что намерен вернуться к политической деятельности, и выдвинул свою кандидатуру на пост президента. Шансы его на успех оживленно дебатируются…
Колокол ударяет к отправке. На перрон выбегает Лупе Марин – заплаканная, растрепанная, гневная. Диего кидается было навстречу ей с подножки вагона, но Лупе останавливается, не добежав, выбрасывает руку, сжатую в кулак, и голосом, перекрывающим паровозный гудок, восклицает:
– Ну и убирайся к своим грудастым!
И поезд трогается.
VIIРанним утром 7 ноября 1927 года Диего Ривера стоял среди иностранных гостей на Красной площади в Москве. Перед его глазами на фоне целого леса трепещущих на ветру алых знамен развертывался военный парад – четко очерченными квадратами шагали пехотные батальоны, гарцевали кавалеристы, неслись тачанки, проезжали неуклюжие грузовики, в которых тесными рядами сидели красноармейцы в остроконечных шлемах. Ликующее чувство переполняло художника. Оно достигло предела, когда на опустевшую мостовую вступила колонна демонстрантов, в голове которой плыл огромный макет локомотива с пятиконечной звездой впереди.
«Я никогда не смогу забыть этот величественный марш организованных трудящихся, – говорил он впоследствии. – Через узкие улицы на просторную площадь медленно выливался людской поток – сплошная, упругая, движущаяся масса. Нескончаемое шествие подчинялось единому ритму, волнообразно извиваясь наподобие гигантской змеи, и в этом зрелище было нечто внушавшее благоговейный трепет… Три часа простоял я на ледяном ветру, неутомимо вглядываясь в праздничную процессию и покрывая набросками страницы альбома».
За несколько месяцев, проведенных в Советском Союзе, Ривера повидал немало. Он открыл для себя красоту русской зимы, увидел ветхие деревянные домишки и современные здания рабочих клубов, веселых ребятишек в детских яслях и чумазых беспризорников у асфальтных котлов, тракторы на украинских полях и рестораны, где прожигали жизнь последние нэпманы. Он присутствовал на заседаниях Всемирного конгресса друзей СССР, встречался с Маяковским, смотрел спектакли Мейерхольда, подружился с Эйзенштейном. Великий кинорежиссер отметил в автобиографических записках, что ростки его увлечения Мексикой были вскормлены рассказами Диего Риверы.
Побывав на художественных выставках, Диего с присущим ему азартом вмешался в кипевшую тогда дискуссию о путях развития советского изобразительного искусства – выступал в печати и на собраниях, подписал декларацию творческого объединения «Октябрь» совместно с Эйзенштейном, архитекторами Весниными, художниками Моором и Дейнекой. Он собирался расписывать стены в Доме Красной Армии, в Клубе металлургов. К сожалению, этим планам не довелось осуществиться.
Пора было возвращаться в Мексику.
Он вез с собою десятки рисунков и акварелей. Из всех его впечатлений о Стране Советов самым ярким осталась демонстрация на Красной площади, навсегда отпечатавшаяся в памяти Диего, сделавшаяся для него пластическим символом нового мира. Отныне во фресках его будут вновь и вновь возникать марширующие ряды, монолитные колонны, необозримое море голов у стен Кремля.
VIIIНа этот раз, подъезжая к Мехико, он отчетливо осознает, что за каких-нибудь восемь месяцев отсутствия успел стосковаться по родине сильней, чем за одиннадцать лет предыдущей разлуки. Отложив до вечера рассказы про Советский Союз, он жадно расспрашивает встречающих обо всем, что происходило здесь без него.
Друзья наперебой посвящают Диего в подробности избирательной кампании, заканчивающейся через две недели. Теперь уже можно не сомневаться, что президентом станет Обрегон – неудачное покушение на его жизнь, организованное Лигой защитников религиозной свободы, только увеличило популярность «старого солдата революции». Последние банды «кристерос» загнаны в горы; клерикалы так и не дождались вооруженной помощи от правительства Соединенных Штатов, которое в последние месяцы круто изменило тактику, от угроз перейдя к заигрыванию. Новый американский посол Дуайт Морроу, хитрая лиса, распинается в любви к мексиканскому народу, разъезжает по стране, восхищаясь древними памятниками, не пропускает ни одного боя быков, где неистовствует вместе со зрителями, а втихомолку склоняет министров к уступкам… Насчет росписей в Национальном дворце ничего не известно – по-видимому, Кальес решил оставить этот вопрос на усмотрение будущего президента. Во всяком случае, Хосе Клементе Ороско, покончив с фресками в Подготовительной школе и отчаявшись получить новый заказ, уехал в Соединенные Штаты.
Помявшись, друзья сообщают Диего еще одну новость: Лупе Марин выходит замуж за молодого поэта Хорхе Куесту.
Признаться, последнее волнует Диего значительно меньше, чем судьба будущих росписей в Национальном дворце. Итак, время работает на него – с Одноруким-то он уж как-нибудь договорится. Тем не менее не мешало бы нанести визит и сеньору Альберто Пани.
А пока что, едва отдохнув с дороги, он спешит в Министерство просвещения к ожидающим его стенам, где осталось написать заключительную серию фресок, представив в них будущее мексиканского народа – социалистическую революцию и справедливый строй, который она установит. Изобразить Будущее, да притом еще не в виде аллегории, к какой прибегнул он на центральной стене капеллы в Чапинго, но в виде живых сцен с участием тех же обыкновенных людей, крестьян, солдат и рабочих, что проходят через всю его грандиозную панораму, – задача, казалось бы, превышающая возможности живописи, по самой своей природе требующей чувственной достоверности. Но, во-первых, за эти фрески Ривера берется, уже повидав страну, где мексиканское завтра стало сегодняшним днем. А во-вторых, он намерен призвать на помощь конкретность народного воображения и написать будущее своих героев таким, каким они его себе представляют.
Еще до отъезда в Москву он вырезал из «Мачете» песню, напечатанную там в качестве образца самодеятельного творчества читателей. Название песни было: «Вот она какая будет – пролетарская революция»; бесхитростный текст, наполовину состоящий из политических лозунгов, тронул Диего неподдельностью вложенного чувства. Теперь же эти слова, исполненные азбучной простоты впервые и навсегда обретенных истин, кажутся ему как нельзя лучше отвечающими содержанию заключительной росписи. Вдоль последней, южной стены третьего этажа протягивается, изгибаясь, бесконечная лента, по светло-серому фону которой выписаны яркие, по-детски крупные буквы:
Пролетарий, грядущего вестник,
пропоет эту песню для вас,
в ею грубой, но искренней песне
слышен голос трудящихся масс.
Мы, рабочие и крестьяне,
угнетенья ярмо сокрушим,
сами землю возделывать станем,
управлять станем ходом машин.
Мы прикажем буржуям проклятым
убираться с насиженных мест
и заявим на страх всем богатым:
«Кто не трудится – тот не ест»…
А ниже, не иллюстрируя песню буквально, но как бы перекликаясь с нею, переводя провозглашенные в ней элементарные требования на язык пластических образов, пишет Ривера свои агитационные фрески. Он пишет рабочих и батраков, которые расхватывают винтовки под красным знаменем с изображением серпа и молота. Пишет грозную баррикаду – отстреливаются бойцы; женщины перевязывают раненых и подносят патроны. Победивший народ, поганой метлой выметающий буржуазию и ее прихвостней. Пролетариев, овладевших фабриками, взламывающих сейфы богачей… И так до конца, до той картины, на которой взметается ввысь целый сноп голосующих рук, подкрепляя спокойную убежденность идущих поверху слов:
Будет вдоволь одежды и хлеба,
будет некому грабить и красть,
и навек под сияющим небом
утвердится рабочая власть.
Выборы, как и ожидалось, приносят победу Обрегону. Толпы народа приветствуют генерала, триумфально прибывающего в Мехико из штата Сонора. Дон Альваро заметно постарел, не расстается с очками, его пышные усы стали совсем белыми, но он полон прежней энергии и стойко выдерживает многочасовые приемы и банкеты, которые задают в его честь ликующие приверженцы и все те, кто спешит записаться в их число.
Один из таких банкетов устраивается 17 июля на открытой веранде ресторана «Бомбилья». Звучат цветистые речи, хлопают пробки. За спинами гостей, сидящих вокруг стола, неторопливо переходит с места на место какой-то молодой человек, по-видимому, художник, судя по тому, что в руках у него раскрытый альбом, в котором он набрасывает портрет нового президента. Когда оркестр начинает играть «Лимонсито», любимую песенку генерала, художник приближается вплотную к Обрегону, протягивает ему свою работу. Тот приподнимается навстречу, поощрительно улыбаясь, и в этот момент молодой человек, выхватив из-за пазухи револьвер, разряжает всю обойму в грузное тело, безжизненно оседающее на стуле.
Убийца схвачен, избит, допрошен. Зовут его Леон Тораль, он фанатичный католик, поклявшийся отомстить за поругание святой церкви. Пока тянется следствие, по столице расползаются зловещие слухи. Говорят, что к покушению причастны главари Национальной конфедерации профсоюзов, озлобленные на Обрегона, намеревавшегося сформировать правительство без них. Поговаривают даже, что чуть ли не сам Кальес был заинтересован в устранении старика, который мешал договориться с американцами…
Диего глубоко подавлен. Сейчас ему не до объективности, не до трезвых оценок классовой роли покойного генерала. Убит хорошо знакомый ему человек, старый рубака, отъявленный плут, немало нагрешивший за свою жизнь, но и немало потрудившийся для Мексики. Человек, вдвоем с которым они сидели за ужином, видя друг друга насквозь, который похлопывал Диего единственной рукой по спине, отпуская смачные солдатские шутки, который как-никак первым дал ему стены… Кстати, о стенах… Уж не похоронил ли он вместе с доном Альваро и надежду заполучить заказ на росписи в Национальном дворце?
Его мрачное настроение усугубляется чувством одиночества, хотя вроде бы и в приятелях недостатка нет, и женщины не обходят вниманием знаменитого художника. С Лупе Марин они распрощались по-хорошему: Диего оставил ей дом, обещал помогать… Ну да, он не создан для семейного очага, однако из этого еще не следует, что в сорок с лишним лет ему по вкусу холостяцкое существование!..
Вот тут и происходит встреча, которую Диего станет причислять к счастливейшим событиям своей жизни. Впрочем, пусть сам он и рассказывает о ней:
«Как-то, работая над одной из фресок на третьем этаже Министерства просвещения, я услышал девичий голос, окликавший меня:
– Диего, сойдите-ка сюда, пожалуйста! У меня к вам важное дело.
Я повернулся и глянул вниз со своих лесов. Там стояла девушка лет восемнадцати. Изящное гибкое тело увенчивалось нежным лицом. У нее были длинные волосы; темные густые брови встречались на переносице; словно крылья черного дрозда распростерлись они над парой удивительных карих глаз.
Когда я спустился, она сказала:
– Я пришла не по пустякам. Мне нужно зарабатывать на жизнь. Я написала несколько картин и хочу, чтобы вы взглянули на них профессиональным глазом. Только будьте полностью откровенны, ведь я не могу позволить себе заниматься этим из тщеславия. Я прошу, чтобы вы сказали мне, получится ли из меня приличный художник и стоит ли мне продолжать. Здесь у меня три картины. Желаете посмотреть их?
– Ладно, – сказал я и последовал за нею в каморку под лестницей, где она оставила свои картины, прислонив их к стене. Поочередно она повернула их лицом ко мне. Все три были портретами женщин. Рассмотрев их один за другим, я не на шутку удивился. Полотна обнаруживали на редкость энергичную выразительность, точную обрисовку характеров, истинную строгость. Никакого оригинальничанья, свойственного честолюбивым новичкам. Пластическая ясность. Полнокровная жизненность, к которой присоединялась безжалостная и в то же время чувственная наблюдательность. Положительно эта девушка была настоящим художником.
Различив, без сомнения, признаки энтузиазма на моем лице, она предупредила меня грубовато-настороженным тоном:
– Я пришла к вам не за комплиментами. Мне нужна критика серьезного человека. Я не любительница, не дилетантка. Я просто девушка, которая должна работать, чтобы жить.
Исполненный восхищения, я с трудом удерживался от похвал. Но не мог же я лицемерить! Почему, спросил я, несколько озадаченный такой предубежденностью, она не хочет довериться моему приговору? Не за ним ли она пришла?
– Беда в том, – возразила она, – что некоторые ваши приятели советовали мне не слишком полагаться на ваши слова. Они сказали, что если вашего мнения спрашивает девушка, да еще не совсем уродливая, то вы готовы превознести ее до небес… Ну хорошо, скажите мне только одно. Вы действительно думаете, что мне следует продолжать? Или лучше подыскать себе другое занятие?
– По-моему, – ответил я, не задумываясь, – вы должны заниматься живописью, чего бы это вам ни стоило.
– Хорошо, я послушаюсь вашего совета. Но в таком случае разрешите просить вас еще об одном одолжении. У меня есть и другие картины, которые я хотела бы показать вам. Если вы не работаете по воскресеньям, то не зайдете ли в следующее воскресенье взглянуть на них? Я живу в Койокане, авенида Лондрес, 126. Зовут меня Фрида Кало.
Как только я услыхал это имя, я вспомнил черномазую девчонку, не дававшую мне житья в аудитории Подготовительной школы, вспомнил, как жаловался на ее проказы Ломбардо Толедано…
– А ведь вы… – начал я, но она оборвала меня, чуть ли не зажав мне рот рукой. Дьявольский огонек вспыхнул в ее глазах.
– Да, но что из того? – сердито заговорила она. – Все это не имеет никакого отношения к делу. Итак, угодно ли вам пожаловать ко мне?
– Да, – сказал я, еле удержавшись, чтобы не прибавить: «Более чем угодно!» Но я побаивался, что, заметив мое волнение, она вообще не захочет больше видеть меня. Затем, отвергнув предложение помочь ей нести картины, Фрида независимо удалилась, таща под мышкой свои большие полотна.
Ближайшее воскресенье застало меня в Койокане разыскивающим дом 126 по авениде Лондрес. Постучав в дверь, я услышал, что над головой у меня кто-то насвистывает «Интернационал». Фрида, одетая в рабочий комбинезон, стремглав спускалась с самой верхушки огромного дерева. Заливаясь смехом, она взяла меня за руку и через весь дом, казавшийся нежилым, повела в свою комнату. Здесь она расставила передо мною свои картины. И все это – ее полотна, ее комната и сама она, излучающая сияние юности, – наполнило меня беспредельным счастьем.
Через несколько дней я впервые поцеловал ее… То, что я был старше Фриды более чем вдвое, ничуть не смущало ни одного из нас. Ее семейство, по-видимому, тоже примирилось с происходящим.
Однажды ее отец, превосходный фотограф дон Гильермо Кало, отозвал меня в сторону.
– Вы, я вижу, интересуетесь моей дочкой, не так ли? – осведомился он.
– Да, – признался я. – Иначе я не стал бы проделывать таких концов в Койокан, лишь бы увидеться с ней.
– Она – сущий дьявол, – сообщил дон Гильермо.
– Я это знаю.
– Ну, мое дело предупредить вас, – заключил он и отошел».