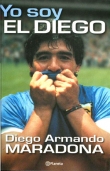Текст книги "Диего Ривера"
Автор книги: Лев Осповат
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 28 страниц)
Впрочем, и сам Синдикат нуждается в твердом идеологическом руководстве. Стоит ли говорить, что осуществлять подобное руководство способен лишь передовой отряд рабочего класса Мексики – коммунистическая партия, в ряды которой недавно вступил Сикейрос! Кстати, он убежден, что и для Диего настало время принять такое же решение. Пора ему, наконец, открыто определить свою общественную позицию, осознать свой гражданский долг и полностью подчинить свою жизнь борьбе за достижение целей, в благородстве и величии которых он, насколько известно Давиду, давно уж не сомневается. А став бойцом революционной армии пролетариата, он по-настоящему обретет себя и как художник.
Чем больше раздумывает Диего в последующие дни над этим предложением, тем яснее становится ему, что Сикейрос прав. Ведь именно коммунистическое мировоззрение дало ему ключ к тем тайнам, разгадку которых искал он с детства, – позволило разобраться в устройстве мира, найти свое место в нем. Когда он понял всю беспочвенность притязаний искусства на то, чтобы самостоятельно постигнуть суть вещей, именно учение Маркса и Ленина раскрыло перед ним перспективы подлинного возрождения искусства, сражающегося за освобождение человечества. Коммунистическим идеалам обязан он тем, что выбрался из потемок, почувствовал почву под ногами, – так что же мешает ему теперь окончательно закрепить сделанный выбор?
Он вспоминает, как с неделю назад, стоя на углу авениды Хуарес, вглядывался в траурное шествие, проходившее мимо. Вспоминает суровые лица рабочих, их размеренную, тяжелую поступь, красный гроб, плывший над их головами. Знакомое повелительное чувство снова охватывает его. Быть одним из этих людей, шагать с ними в общем ряду, ощущать себя частицей грозной силы!..
В ноябре 1922 года Диего Ривера вместе с Лупе Марин отправляется в путешествие по Мексике. Но еще до отъезда он становится членом коммунистической партии и получает партийный билет № 992.
VТри стены, замыкающие Двор Труда, с точностью ориентированы на три стороны света – на север, запад и юг. (Вместо четвертой стены – соединительная галерея, которая, начинаясь на уровне второго этажа, разделяет два двора и вместе с тем не препятствует им сообщаться друг с другом.) По мысли Диего, росписи на каждой стене должны были отвечать ее географическому положению. В соответствии с этим он и выработал маршрут поездки: север – запад – юг.
Он начал с Монтеррея, где ему нужен был сталеплавильный завод, затем проехал верхом по бескрайним пастбищам штата Коауила, побывал на железорудных карьерах в Дуранго. Отсюда путь лежал в земледельческий район Эль Бахио, на серебряные рудники Гуанахуато, в гончарные мастерские Гвадалахары. И под конец – Теуантепекский перешеек с его тропическим изобилием, плантациями сахарного тростника и древними народными промыслами.
В полевом планшете, болтавшемся на боку у художника, рядом с картой Мексики лежал чертеж министерского здания. Впрочем, Диего и так досконально помнил каждую галерею, мог воспроизвести в памяти любой проем или выступ. Делая наброски в раскаленном аду литейного цеха, он тут же мысленно примерял их к противоположным концам северной стены, где характер изображений должен гармонировать с тяжеловесной мощью угловых опорных колонн. Работая на открытом воздухе – в степи, в горах, среди возделанных полей, – он отбирал самые основные, устойчивые, неизменные черты расстилавшегося перед глазами пейзажа, чтобы потом воссоздать из них достойный фон для монументальных сцен труда и борьбы. Да и в людях, которых зарисовывал Диего повсюду, он стремился ухватить прежде всего именно то, что роднит вот этого батрака с десятками его сотоварищей, что позволяет увидеть вот в этом шахтере мексиканского шахтера вообще, Шахтера как такового. И по мере того как заполнялись страницы в альбомах, пустые панели в его воображении покрывались очертаниями будущих росписей.
Он боялся, что после тридцатилетней разлуки Гуанахуато покажется ему маленьким и провинциальным. Ничуть не бывало! Город, вынырнувший ноябрьским утром из горной котловины и поразивший Диего своей цельностью, строгой красотой своих зданий, органически связанных с окружающей природой, ни в чем не уступал тому сказочному царству четких линий и совершенных форм, воспоминание о котором, как отдаленный свет, мерцало в его сознании все эти годы.
Со странным, щемящим чувством прошелся он по улицам Поситос и Кантарранас, постоял у заросшего пруда Ла Олья, поднялся в горы, добрался до рудника под названием «Персик». К его удивлению, рудник оказался действующим – по-видимому, англичане, которым принадлежал теперь «Персик», сумели напасть на жилу, так и не давшуюся в руки покойному отцу.
Усевшись на земле напротив входа в шахту, Он с утра до вечера зарисовывал рудокопов: сначала идущих на работу с кирками и крепежными балками на плечах, потом выходящих наружу. Каждый рудокоп, поднявшись из черного колодца, ставился перед иностранцем-надсмотрщиком и широко разводил руки в стороны, приобретая на миг сходство с распятым Христом, в то время как надсмотрщик тщательно обшаривал его карманы и складки одежды в поисках утаенных крупиц серебра.
Но настоящим потрясением стала для Диего встреча с Теуантепеком. Он испытал это потрясение в первые же минуты, как только, выбравшись из вагона и привыкнув к ослепительному солнцу, ударившему в глаза, увидел местных женщин, которые несколькими вереницами спускались к поезду с окрестных холмов, отчетливо вырисовываясь на фоне блистающей зелени. Высокие, статные, в коротких белых рубашках, не доходящих до пояса и позволяющих видеть смуглый живот, в расширяющихся книзу юбках, оранжевых, фиолетовых, пунцовых, шли они друг за другом, плавно покачивая бедрами, неся на головах корзины, полные фруктов, и придерживая их обнаженными руками цвета полированной бронзы. А затем он еще разглядел поближе их лица с удлиненными глазами и прямым носом, линия которого, не отклоняясь, переходила в линию лба, вслушался в их мелодичный говор, ощутил величественное спокойствие, исходящее от каждого их жеста…
Диего рассчитывал задержаться в Теуантепеке на день-другой. Он пробыл здесь три недели. Он объездил и исходил весь этот благословенный край, занимающий узкую полоску земли между двумя океанами и до недавних пор отрезанный непроходимыми зарослями от внешнего мира. Никогда еще не видел он места, где бы природа так щедро делилась своими дарами с людьми, где бы труд был таким необременительным и радостным, а любовь – столь естественной и полнокровной. В банановых рощах и на тростниковых плантациях, в мастерских ткачей и красильщиков, на сельских танцульках и в голубых водах лагуны, где плескались теуантепекские красавицы, – повсюду раскрывалась ему необычайная в своей простоте жизнь, замкнутая в кругу изначальных человеческих нужд; жизнь, смысл которой заключался лишь в ней самой.
Все глубже погружался Диего в эту жизнь, проникался ее размеренным ритмом, и ему начинало чудиться, будто какая-то фантастическая машина времени перенесла его на несколько тысячелетий назад, будто незапамятное прошлое мексиканцев встает перед ним воочию. И не варварское прошлое, не кровавая история теократических держав, нет, – безмятежное, гармоничное, классическое детство Америки, ее первобытный рай, память о котором пронесло через века искусство индейских народов.
Живые прообразы этого искусства обступали теперь Диего со всех сторон. Жадно вглядываясь в натуру, он обнаруживал непосредственно в ней те черты, которыми восхищался в произведениях древнемексиканской пластики, – лаконичность, выразительность, чистоту линий, соразмерность объемов. Беспощадное солнце отняло у предметов рассеянную тень, резко очертило их контуры, окрасило их в чистые цвета, дерзко наложенные один рядом с другим. Чтобы передать монументальность окружающего мира, казалось, не требуется прибегать ни к обобщению, ни к стилизации – достаточно последовать примеру той девушки из греческого мифа, которая изобрела рисунок, обведя угольком на стене тень своего жениха.
Так Диего и поступал. За время, проведенное в Теуантепеке, он сделал множество зарисовок и этюдов, написал больше десятка станковых картин, даже не вспомнив об осуждении, которому подвергся этот жанр в декларации Синдиката. Уверенными, четкими штрихами очерчивал он на бумаге или на полотне округлости холмов, сплошные массы деревьев, пятна земли, просветы лагун. Непрерывной линией набрасывал фигуры теуантепекцев – работающих, отдыхающих, танцующих; А потом заливал краской оконтуренные плоскости, заботясь главным образом о том, чтобы ухватить цветовые контрасты; иногда же за недостатком времени попросту помечал в соответствующих местах наброска: «киноварь», «ультрамарин», «охра»…
Пожалуй, именно здесь оканчивался его многолетний путь к самому себе, здесь отыскивалось и закреплялось то последнее, чего еще недоставало ему. Отныне, что бы он ни писал, за спиной у него будет незримо стоять жаркое солнце Теуантепека.

Возвратившись в столицу, Диего спешит разделаться с росписью в Подготовительной школе. Новые впечатления теснятся в нем, и он не откладывая выплескивает их на стены ниши, где помещается орган. Пирамидальный силуэт Древа Жизни он заполняет крупными, резко очерченными, ярко-зелеными пятнами тропической листвы, из которой, как бы составляя одно целое с нею, выглядывают головы льва, быка, орла и легендарного крылатого существа – керуба. Своей декоративностью эти изображения вступают в контраст с окружающими, тщательно вылепленными фигурами. Даже композиционная находка – увенчивающий Древо обнаженный человеческий торс с раскинутыми руками, – удачно связывая центральную часть фрески с ее периферией, не снимает ощущения некоего диссонанса.
Но Диего это мало заботит. Всеми помыслами он давно уже в здании министерства. Закончены предварительные эскизы для панелей нижнего этажа, подобраны помощники. Остается решить вопрос о технике, в которой будут выполнены росписи. От энкаустики, по-видимому, приходится отказаться – при гигантском объеме предстоящих работ она действительно потребует чертову прорву денег и уйму времени…
Значит, фреска? Тем более что и Шарлот, и Сикейрос, и Рамон Альба де Каналь уже начали осваивать эту технику… И все же Диего колеблется. Результаты, достигнутые товарищами, не очень-то воодушевляют его: по сравнению с «Созиданием» их фрески кажутся тускловатыми. Кроме того, ведь его росписи будут находиться в открытом дворе, подвергаясь прямому воздействию солнечных лучей, испытывая на себе все атмосферные капризы. Окажется ли фресковая живопись достаточно прочной для таких условий?
Сикейрос и Шарлот не разделяют его сомнений. Однако сами они не могут договориться между собой даже о том, в каких пропорциях следует смешивать песок, известь и цемент для фрескового грунта, как разводить краски в воде – с клеем или без него? В Национальной библиотеке удается разыскать старинный итальянский трактат Ченнино Ченнини, но архаические термины, которыми он изобилует, окончательно запутывают художников, тщетно пытающихся разобраться во всех этих «арричиато» и «интонако».
Послушав их споры, Герреро вдруг хлопает себя по лбу. А ведь секрет, которого они доискиваются, наверняка должен быть известен народным мастерам! Помнится, дед говорил ему о чем-то похожем. Правда, теперь никто из маляров не пользуется этим способом, но почему бы не порасспросить старика?
Назавтра же он приводит деда. Сморщенный, глуховатый, однако еще довольно крепкий старичок – кстати, зовут его тоже Хавьером – бесстрастен и немногословен настолько, что по сравнению с ним даже сдержанный внук может показаться развязным говоруном. Сеньоры, стало быть, спрашивают, умеет ли он расписывать стены земляными красками? Что ж тут не уметь! Диего вытаскивает записную книжку, но старик отрицательно покачивает головой. Объяснять он не горазд – вот если ему дадут стену, он покажет, как это делается.
Подходящая стена отыскивается на задворках все того же бывшего монастыря Петра и Павла. На несколько дней художники поступают в подмастерья к старому маляру, который первым делом приказывает Хавьер-младшему нарезать мясистых листьев кактуса нопаля, накрошить их помельче, замочить и поставить в тепло. Помощники между тем дочиста выскребывают выбранный участок стены, а старик ловко набрасывает на него раствор, приготовленный из песка, извести и цемента. Но это лишь нижний слой штукатурки, так называемый репельядо.
Удостоверившись, что кактусовый настой как следует забродил, Хавьер-старший отливает часть его в воду, которой разводит земляные краски. Остальное вместе с волокнами перемешивается с тонко просеянной гашеной известью. Образовавшуюся смесь маляр аккуратно наносит поверх штукатурки, успевшей схватиться и затвердеть. И, не давая высохнуть этому верхнему слою – апланадо, быстро расписывает его красками, выводит незамысловатый орнамент из цветочков. Потом осторожно разглаживает роспись металлической ложкой и в заключение окатывает ее чистой водой из ведерка. Мокрая фреска сверкает яркими красками, а просохнув, становится бархатисто-матовой.
Диего доволен. Пожалуй, это именно то, что ему надо. Вот только как насчет прочности – долго ли продержится роспись на открытом воздухе?..
Старик недовольно жует губами. Сколько надо, столько и продержится – хоть двадцать лет, хоть пятьдесят. В молодости он помогал расписывать церковь в Тенансинго, так стены у нее и сейчас как новенькие. Сеньору не случалось бывать на Юкатане? Там, говорят, до сих пор сохранились картины на стенах разрушенных храмов, а ведь писали их еще до прихода белых дьяволов…
– Почему же в таком случае ни вы, ни другие мастера не применяете эту технику? – недоумевает Шарлот. – Почему и церкви и пулькерии вы расписываете исключительно масляными красками?
Впервые за все время старый маляр усмехается.
– Вот именно потому, сынок! Не такие уж мы дураки: расписывать стены, чтоб ни солнце, ни дождь их не брали, – да мы же первые с голоду передохнем! То ли дело – масляная краска: год-полтора, и, глядишь, хозяин опять зовет!
…22 февраля 1923 года Диего Ривера приступает к работе во Дворе Труда. По обе стороны от главного входа возникают парные фрески. На каждой – по три женщины из Теуантепека: одна с корзиной фруктов на голове, другая с глиняным кувшином, третья стоит на коленях перед огромной чашей. Их резко очерченные фигуры кажутся в то же время почти неотделимыми от тропического пейзажа, статичные позы естественны и пленительны, темные лица полны сосредоточенности и покоя.
Первые фрески, где господствует четкий контур и чистый, насыщенный цвет, становятся для Диего своего рода эталоном. В них он как бы формулирует те изобразительные принципы, которыми намерен руководствоваться на протяжении всей работы над росписью.
И не случайно именно этими фресками открывает он свою живописную эпопею. В образы утраченного рая он вкладывает и мечту о грядущем, когда на высшей ступени общественного развития возродится гармоничный и радостный мир, завоеванный человечеством в кровопролитной борьбе.
ГЛАВА ВТОРАЯ
IМексиканское Возрождение»… Доктор Атль – вот кто первым отваживается поставить рядом два эти слова в статье, которую он публикует еще летом 1923 года. Знатоки пожимают плечами: ох уж этот нестареющий энтузиаст! Сравнивать ученические эксперименты наших монументалистов с бессмертным искусством итальянского Ренессанса!.. Сам автор едва ли подозревает, что через каких-нибудь десять-пятнадцать лет его дерзкая гипербола превратится в общепринятый термин, станет заглавием солидных искусствоведческих трудов, войдет во все справочники и энциклопедии.
Меж тем художники расширяют захваченный плацдарм. В Министерстве просвещения продолжает расписывать стены Диего Ривера с тремя помощниками – Хавьером Герреро, Жаном Шарлотом, Амадо де ла Куэ-вой. Двое последних приступили и к самостоятельной работе в том же здании. Еще четверо – Давид Альфаро Сикейрос, Фермин Ревуэльтас, Рамон Альба де Каналь и Фернандо Леаль – оккупировали Национальную подготовительную школу. В июле 1923 года к ним присоединяется Хосе Клементе Ороско. («Мы поделили между собою стены, – вспоминает Сикейрос, – как делят хлеб – этот ломоть тебе, а этот – мне».) А в бывшей церкви Петра и Павла трудятся над росписями Роберто Монтенегро и доктор Атль.
Впрочем, внимание публики привлекает пока лишь один из художников – их знаменитый главарь, окруженный ореолом самых невероятных слухов, большую часть которых он же и распускает. Притом он не признает секретов ни в работе, ни в личной жизни. Не удивительно, что внутренний двор Министерства просвещения становится местом паломничества.
Ривера появляется здесь с восходом солнца. К его приходу штукатуры, работавшие ночью, уже нанесли и разровняли последний слой грунта – смесь извести с мраморной крошкой; помощники перевели рисунок с картона на стену. Время не терпит – свежая штукатурка способна впитывать краску не дольше двенадцати часов, да и то если погода нежаркая, а воздух не слишком сухой. За эти часы он должен сделать намеченную на сегодня часть фрески.
К началу служебного дня в министерстве Ривера давно уже на лесах. Он в синем выцветшем комбинезоне, подпоясан набитым патронташем, к которому прицеплен внушительный кольт; огромные башмаки заляпаны известью и красками. Спиной ко двору сидит он на низеньком табурете. Издали его массивное тело кажется неподвижным. Нужно приблизиться, чтобы увидеть, как бешено и в то же время размеренно пляшет его рука с зажатой в ней кистью, как снует она во все стороны, покрывая росписью поверхность стены.
И вскоре у лесов собирается разношерстная толпа – министерские служащие и посетители, учителя, прибывшие со всех концов Мексики, иностранные туристы, репортеры, студенты, просто зеваки. Все они с любопытством следят за действиями художника и его подмастерьев, разглядывают доступные для обозрения участки росписи, спорят, иные обращаются к Ривере с вопросами, иные, осмелев, высказывают ему критические замечания, подают советы. Не поворачивая головы, ни на миг не прекращая работать, он отвечает каждому – кому благодушно, кому язвительно. Наиболее меткие ответы в тот же день расходятся по столице.
В полдень собравшиеся получают возможность полюбоваться еще одним даровым зрелищем. Покачивая бедрами, во двор вступает жена художника, красавица Лупе Марин. На плече у нее – закутанная в цветастый платок корзина, распространяющая острые ароматы гвадалахарской кухни. Не удостаивая никого взглядом, Лупе проходит сквозь расступающуюся толпу, как раскаленный утюг сквозь сугроб, останавливается, задирает голову.
– Диего-о! – кричит она так пронзительно, что у близстоящих закладывает в ушах. – Спускайся, я принесла тебе поесть!
– Полезай сюда! – откликается Диего, не оборачиваясь.
Грохнув корзину оземь, Лупе картинно подбоченивается и откидывается назад всем корпусом.
– Вот еще! Стану я лезть наверх, чтобы эти козлы заглядывали мне под юбку! Сам слезай, не то я сейчас же ухожу – оставайся голодным!
Муж, ворча, повинуется. Усевшись в дальнем углу двора, он жадно опустошает корзину и, перед тем как вновь подняться на леса, награждает Лупе звонким шлепком пониже спины. Она же, в зависимости от настроения, отвечает ему затрещиной либо поцелуем.
Солнце все ниже. Толпа постепенно редеет. Служащие покидают здание. Окруженный ближайшими сотрудниками, проходит через двор сеньор Васконселос, скользнув беспокойным взглядом по уже законченным Фрескам.
Диего продолжает работать.
«Он работает до самого вечера, – свидетельствует его друг и биограф Бертрам Вольф, – работает, напрягая зрение в надвигающихся сумерках, потому что не разрешает себе пользоваться искусственным освещением, изменяющим соотношение цветовых тонов. Утомленный приятель, сидящий рядом с ним на лесах, давно уж не в силах ничего разобрать, но выпученные глаза Риверы трудятся с неослабевающим упорством, а рука его по-прежнему творит свое волшебство, населяя фигурами и объемами создаваемый мир.
Потом, наконец, он сходит вниз – тяжело, устало. Двор опустел – здесь только его жена, кто-нибудь из друзей да помощники, ожидающие приказаний на ночь. Он загнал целую бригаду штукатуров, а то и две, вымотал помощников, довел до изнеможения сотни зрителей, десятки поклонников. Вы издаете вздох облегчения: наконец-то и он захотел пойти домой – поесть, отдохнуть. Но нет: он все еще стоит там, в темноте, наклоняя голову набок и пристально вглядываясь; он то пятится, то подходит вплотную и смотрит, смотрит, смотрит… Он смотрит так, как будто все это делал кто-то другой, как будто это чужая роспись, а ему предложили быть лишь ее критиком и судьей. Вы спрашиваете себя: ну что он может видеть в этаком мраке, если сами вы едва различаете какие-то серые пятна?! И вот он снова поднимается на леса, еле передвигая ноги. Здесь – штрих, там – более глубокий тон; еще одна линия, еще одно изменение формы… Опять он спускается вниз и опять взбирается – ведь все поправки должны быть сделаны до того, как окончательно высохнет грунт. Завтра будет слишком поздно; стена не холст, и написанного не счистишь шпателем. Если он захочет еще что-нибудь переделать, придется соскребать штукатурку до камня и еще раз штукатурить стену.
Сколько раз присутствовал я при том, как, проработав весь день и разочаровавшись в результатах, он бросал помощникам: «Содрать это все и оштукатурить заново! Я вернусь в шесть утра».